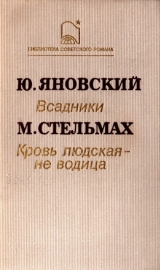
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
XVIII
До позднего вечера не расходились новобуговцы с полей: одни еще получали землю, другие вешками обозначали межи, а третьи запрягали коней и пахали под зябь свои наделы. Худенькие бедняцкие клячонки из кожи вон лезли, таща плохо налаженные плуги, и никого не удивляло, что у одного плуга были стертые на нет пятки, а у другого вместо лемеха торчал широкий австрийский штык – кромсал белое тело на войне, кромсай теперь черную землю.
Проголодавшийся Тимофий Горицвит не очень оглядывался по сторонам, но ничто не проходило мимо его внимания. Немало пришлось ему сегодня поработать ногами и даже языком. Под вечер совсем охрип от разговоров. Такого с ним еще не бывало. «Походишь еще вот так с людьми несколько дней, совсем без языка останешься, – посмеивался он над собой и, украдкой поглядывая на сына, улыбался. – Не пожалел же разбить горшки о голову Сичкаря. Не пожалел и не побоялся. Молодцом растет сынок!»
А сынок после приключения с Сичкарем старался не попадаться на глаза отцу, который отругал его, говоря, что надо относиться к старшим с почтением и что мать не для того варила молочный кулеш, чтобы размазывать его по чужой голове.
Дмитро хотел еще раз сбегать в село принести поесть, но отец не позволил.
– Мне еще дважды в день обеда не носили, – сказал он под смех бедняков.
Тогда Василь Карпец кинулся к своему возу и вскоре вернулся с водкой и ломтем ячменного хлеба, до блеска натертого чесноком.
– Выпей, Тимофий, чтоб ноги по земле веселей ходили! – Василь Денисович успел позабыть, что ему предстоит судиться с Созоненком, и хмель весело бродил уже не только в его ногах, но и по широкому с подковкой медных усов лицу.
– Я, Василь, при деле не пью, – отвел чарку Тимофий. – Чарка свободное время любит.
Но Василь Денисович ни чуточки не смутился, а торжественно проговорил:
– За революцию, Тимофий, и при деле можно выпить, да еще при таком божественном деле, какое у тебя сегодня в руках.
Тогда Тимофий воткнул свою саженку в землю, взял чарку и хлеб, посмотрел на людей.
– За революцию!
– На здоровье ей!
– Дай боже! – послышалось вокруг.
Чарка пошла по рукам, и люди торжественно пили за революцию, стоя в поле, ибо она дала им эти поля.
На западе расплавленные облака уже покрылись пеплом и слились с теменью, когда Горицвит возвращался с Кушниром и сыном домой. В низинке стало темнее: здесь туман поднимался на лапы и, шелестя ивняком, мягко распластывался над землей. Тимофий обхватил рукой плечи сына, и тот прижался к отцу, как в детстве. И хорошо было сыну и отцу вот так, в молчании, приглядываться к неясным очертаниям деревьев над рекой, прислушиваться к песне, пробивающейся из крайней хаты.
– Ты что же сегодня не столярничал? – спросил Тимофий, когда перешли мостки.
– Не мог, – вздохнул сын. – Да разве сегодня кто-нибудь работал в селе?
– К земле потянуло?
– Ну да. Думал, сегодня и нас наделят.
– Потерпи еще.
– Да ведь нет больше терпения. Где же мы коня возьмем? Наш от ветра клонится.
– Наверно, придется взять у дедушки да еще у брата Мирошниченка. Завтра не теряй день, а то старик Горенко обмеряет тебе плечи столярным аршином.
– Чего доброго, – улыбнулся Дмитро. – Аршин у него всегда под рукой. Так я хоть в сумерки к вам прибегу.
– Ну, разве что в сумерки. – Отец положил свою усталую руку на костлявые плечи сына. – Степан, что это я не видел на поле Ольги Пидипригоры?
– Не было ее сегодня, – отозвался Кушнир, который шел впереди, раздвигая своим ладно сбитым телом лохматый туман.
– Не захворала ли?
– Не знаю.
– А ты наведайся да узнай.
– Хорошо, – согласился Кушнир, поколебавшись.
В этот день он впервые за неделю собирался пойти к острой на язык и привлекательной не столько лицом, сколько станом Юльке Шаповал. Сидя с Юлькой, Степан, не очень стеснительный в обществе девчат, едва ли не впервые поймал себя на мысли, что и ему пора обзавестись женой и детьми. Дочка кузнеца, как заведено, привораживала его своими чарами, а сама не позволяла ему и руками себя коснуться – била по пальцам по-мужски. И откуда только сила бралась? Он даже спросил у нее об этом, а девушка только загадочно улыбнулась.
– Это я бью по-божески, в четверть силы.
– Цену набиваешь?
– Нет, сбавляю, – вздохнула она отчего-то.
Чтобы лучше познакомиться с их семьей, Степан заехал к ее еще не старому отцу в кузницу ошиновать колесо. Пока железо млело на углях, Шаповал позвал с огорода дочь. Та прибежала, увидела Степана, застеснялась. Отец положил шину на наковальню и дал Степану придержать ее клещами, а дочка взялась за молот, ударила по железу. Изумленный Степан и оглянуться не успел, как отец и дочь молотами сварили ему шину и натянули ее на колесо. Теперь только ему стало ясно, что била его Юля по рукам и в самом деле в четверть силы. И он с сожалением подумал: «Такой женой, черта лысого, покомандуешь…»
Попрощавшись с Горицвитами, Степан зашел домой, умылся над колодезным желобом, переоделся и тогда только отправился к Ольге.
Над садами уже поднялся месяц, и кто-то при лунном свете клепал косу, готовясь к уборке проса или поздней гречихи. В хатах там и сям гасли коптилки, дворы окутывала ночная тишь. Степан дошел до ворот Пидипригоры, остановился в нерешительности: идти или нет? Он боялся пения старой Богданихи, Ольгиных слез. Однако, отворив ворота, вошел во двор. Возле сарая переливается в лунном холодном огне обмолоченный стожок, ветерок подымает соломинки по одной, и они откликаются, как лады на дудке.
В хате еще горит свет, но дверь заперта на засов. Он взялся за щеколду, и через минуту на крылечко вышла Ольга. Как монашка. На белом, исхудалом лице резко выделяются черные брови, над застывшими глазами темные круги. Женщина не удивилась, ничего не спросила, только на подбородке нервно дрогнула складочка. И Степан сразу ощутил, какое большое расстояние между ними проложило горе, почувствовал укор совести: как он смел только что думать о любовных утехах? Он уже не смог назвать ее просто по имени.
– Ольга Викторовна, почему вы…
Ее застывшие глаза расширяются, а брови болезненно переламываются, взлетают вверх, и ему становится стыдно.
– Оля, – поправляется он, – ты почему на поле не пришла?
– На поле? Зачем? – И ее глаза вдруг до краев наливаются лунным сиянием.
– Как – зачем? – оторопело говорит Степан. – Землю получать.
– Землю? – переспрашивает она чужим голосом, который и в час страшной тоски все так же мелодичен и певуч. – Не надо мне земли… Она отняла моего Василя… Ничего я больше не хочу… – Она ловит руками дверной косяк, а ртом воздух.
Степан обеими руками поддерживает вдову, чтобы не упала. Единственная слезинка, пролившаяся из ее глаз, кажется, насквозь прожигает ему пальцы.
– Оля, не надо! – утешает он ее, чувствуя, как под руками дрожат ее плечи.
– Иди, Степан, иди, не растравляй душу, – выпрямляется она, ослепляя его светом своих заплаканных глаз и выражением боли на измученном лице.
– Ну, а земля, Оля? – еще пытается он привлечь ее мысли к самому дорогому, что есть в жизни крестьянина.
– Она не вернет мне Василя. – Вдова гасит ресницами слезы и лунные блики в глазах.
– Это правда, слов нет, мертвых земля не возвращает, – голос Кушнира становится все упрямее, – но без земли и ты не проживешь. Земля – великое дело.
– Забери ее хоть себе, не пожалею.
Вдова отступает в глубь сеней и скрывается за внутренней дверью.
Степан, ошеломленный, мгновение стоит у порога, все еще видя перед собой образ ушедшей женщины, и вспоминает, что собирался к Юле. Но ее очарование почему-то уже поблекло для него. Опустив голову, он, задумчивый, отходит от крылечка. Возле сарая что-то мягко шелестит, и ему чудится, что это вздыхает Ольга. Степан оглядывается – нигде никого, только обмолоченный стожок горит золотисто-зеленоватым пламенем и на ветру дрожат соломинки, перебирая лады незримой дудки.
XIX
Уездный город с севера начинается глубокими оврагами; они подбегают изломанными складками почти к самому большаку, а над ними обрывается горбатый поток гранитных отрогов. Вверху, позади оврагов, черствое поле, словно размытое кладбище гигантов, как черепами и мослами усыпано серыми каменьями. Но сразу же за дорогой земля, чудесным образом отмахнувшись от оставленной позади прадавней окаменелой угрюмости, ровно стелется черноземом под синий край небес.
Когда-то, до войны, ободранные каменотесы рвали в оврагах гранит на постройки для живых и на кресты для мертвых. А теперь тут раз в неделю собирается нечто вроде базара; под ласковым солнцем грустно дремлют заезженные лошади, и визжат, как безумные, поросята, попавшие из приволья и грязи во тьму мешков. Торговля идет не очень оживленная, но из-под полы можно достать не только самую удивительную, разбоем добытую одежду, но даже пантокрин в пилюлях и ручные пулеметы.
Подходя к оврагу, где уже суетился базар, Олександр придержал Данила за руку.
– Пойдем, брат, поглядим на это сборище, – предложил он, показав головой на дно оврага.
– Зачем? – удивился Данило.
Он всю дорогу нес свою нелегкую думу и пытался заглянуть хоть на день вперед. На щеках у него и до сей поры пылали еще поцелуи и слезы жены, а в ушах раздавался детский лепет. Перед дорогой они с Галей сели на каменные ступеньки крыльца и решили не утаивать ничего от новой власти.
– Хотим с Мироном купить тебе сапоги. Для нашего брата сапоги – самое главное.
– В этих далеко не уйдешь. – Мирон ткнул пальцем в заплатанные батрацкие сапоги брата.
– Если есть деньги, купите, – согласился Данило. – Может, и я пособлю вам когда-нибудь. – Он в душе был даже рад, что еще хоть полчаса походит на воле, отдалит от себя страшную минуту встречи с военкомом и Чека.
По каменистой тропке братья спустились в овраг. Какие-то подозрительные торгаши шныряли между людьми и скотиной, приглядывались к ним, скороговоркой шептали на ухо скользкие слова или показывали из-под полы свои товары.
Братья остановились возле одного согнувшегося в три погибели сапожника. Мастер сидел на долбленом стульчике и крепкими бересклетовыми гвоздями подбивал оторванную подметку к сапогу. Здоровенный верзила в одном сапоге стоял позади, смачно уплетал хлеб с салом, а глаза его бегали по толпе. Данилу запомнилось его необычное лицо, и прежде всего крючковатый нос и убегающие от него к ушам щеки, словно боящиеся соседства с этим страшным крюком.
Мирон приценился к сапогам с модными в то время широкими носками.
Сапожник посмотрел на братьев и, не выпуская изо рта гвоздей, невнятно пробормотал:
– Продаю, только за хорошие деньги.
– За какие это хорошие?
– За царские. Других властей не признаю.
– А они тебя, Васюта, признают? – засмеялся один из покупателей.
– Мне до них дела нет, – не отрываясь от сапога, пробормотал Васюта.
Он вынул гвоздики из губ и стал лениво торговаться с Мироном.
Пока они торговались, Данило заметил, что верзила в одном сапоге прощупывает его глазами. Потом здоровяк подошел к братьям и отозвал Данила в сторону.
– Браток, я помогу тебе достать настоящие сапоги, товар – министерский! – шептал он, чуть не заталкивая в ухо Данилу свой крючковатый нос.
– Где же они?
– Найдем, коли у тебя игрушка найдется, – прошептал верзила в самое ухо.
– Какая игрушка?
– Не придуривайся, браток! Разве по тебе не видно, что ты не нынче, так вчера бросил воевать? Принесешь игрушку, – он пошевелил указательным пальцем, словно нажимая на курок, – а я тебе сапоги, за десять лет не износишь.
Данило побледнел. Что это – провокация или в самом деле бандитский торг? Он подошел к братьям, оторвал их от сапожника, и все трое быстро пошли в уисполком. Там Олександр передал Данилу котомку с харчами и оружием, тряхнул брата за плечи – не бойся, мол, – а Мирон перекрестил его.
Взойдя на верхнюю ступеньку, Данило еще раз оглянулся, хотел улыбнуться братьям, но губы у него жалобно задрожали, и он, словно в глубокую пропасть, зажмурясь, шагнул через сбитый порог. Навстречу ему не спеша шла с бумагами молоденькая стриженая девушка с красным бантом на груди. Она весело напевала какую-то мелодию, и весь ее беззаботный вид говорил, что она нашла на земле свое место.
– Скажите, пожалуйста, где находится военком? – остановил ее Пидипригора.
– Ступайте за мной, – велела девушка.
Она ввела его в просторную комнату с перегородкой, за которой большой канцелярский стол скалился на посетителей темной пастью громоздкого ундервуда; на ундервуде стучал красноармеец с забинтованной головой.
– Вы по какому делу к военкому? – спросила девушка, поглядывая на вторую дверь с надписью «Военком».
– Пришел с повинной. – Данило опустил глаза.
Девушка не удивилась.
– Бандит? Петлюровец?
– Петлюровец.
Красноармеец с перевязанной головой взглянул на него и продолжал печатать. Верно, не впервые им встречать таких гостей.
– Подождите минутку. – Девушка все так же, не торопясь, прошла во вторую дверь и скрылась за нею.
Эта минутка показалась ему вечностью. Но наконец дверь отворилась, и девушка позвала его. Он вошел в опрятную комнату и остановился перед юношей лет двадцати – двадцати двух в форме красного казака. Неужели это и есть тот самый прославленный командир эскадрона, который нагонял ужас на белополяков и вызывал на сабельные поединки самых неистовых врагов? Олександр передавал, что товарищ Клименко, даже простреленный двумя пулями, не покинул поле боя. Спешенные казаки держали его под руки, а он командовал до тех пор, пока не взломал клещи окружения и не вывел из него своих бойцов.
У военкома возле губ и глаз шевелятся болезненно-брезгливые морщинки, на высокий лоб падает курчавый вихор, снизу белый, как ржаной колос, а сверху темно-русый.
– Садитесь. – Военком кивает головой и сам садится напротив Пидипригоры. – Местный? – Преждевременные морщинки на его висках дрожат.
– Местный, из Новобуговки.
– Кулацкий сын? Попович?
– Из бедняков.
– Вот как? – удивляется военком. – Тина, дайте анкету.
Девушка подошла к шкафу, порылась в бумагах и положила перед Данилом листок жесткой бумаги, на котором должен уместиться весь его жизненный путь.
– Давно явились в село? – ровным голосом спрашивает военком, доставая папиросу. – Курите?
Он протягивает пачку Пидипригоре. Тот вытаскивает одну папироску, и на лице у него проступает пот, словно он тащит мельничный жернов.
– Явился в село позавчера. Сотник я… – Он спешит рассказать о себе все, чтобы поскорее покончить с этой мукой.
– Что же вы бросили своего атамана? – Взгляд Клименка вдруг веселеет, веселеют и морщинки возле глаз и губ. – Горит петлюровская свеча?
Пидипригоре понятна радость молодого военкома – сквозь незажившую боль в нем пробивается торжество победителя. Только свойственно ли ему великодушие победителя? И Данило задумчиво отвечает:
– Горит с обоих концов.
– Вот это верно, с обоих концов горит! – Продолговатые, серые, как сталь клинка, глаза военкома блеснули.
Данило чувствует облегчение: по крайней мере он имеет дело не с таким военкомом, каким рисовало его болезненное воображение и петлюровская агитация.
– Расскажите, как вы попали к нам. – Военком придвигает к себе листок бумаги, и над нею склоняется его двухцветный вихор. – Только подумайте сперва, – подбадривает он, видя, как сотник волнуется. Опыт уже подсказывает Клименку, кто перед ним сидит.
Пидипригора, волнуясь, рассказывает, и его повесть сразу заинтересовывает военкома. Больше всего Клименко расспрашивает о Погибе и Бараболе, внимательно выверяет и записывает их приметы, не может простить, что Пидипригора не уничтожил Погибу, и внезапно делает для себя три вывода: гадюки во всем мире кусаются, сотник в самом деле не кадровый офицер, его профессия – учитель.
Когда Пидипригора, обливаясь потом, закончил свой рассказ, Клименко спросил только одно:
– Из главного ничего не забыли?
Данило оценил деликатность военкома: тот спрашивал, не утаил ли он что-нибудь.
– Я все сказал, как на духу. – Данило открыто посмотрел в глаза Клименку. – Мы с женой решили, что я скажу всю правду, как бы она горька ни была.
– И очень хорошо решили, – одобрительно кивнул головой военком. – Заполните еще анкету.
В это время отворилась дверь, и на пороге появился исхудалый смуглый юноша, опирающийся на госпитальную палочку.
Клименко быстро пошел ему навстречу, радостно поздоровался, усадил гостя на стул и лукаво повел правой бровью, которая у него была выше левой.
– Снова, Киндрат, за материалами пришел? Или, может, чего доброго, так просто – посидеть?
– Снова за материалами, – сокрушенно вздохнул Киндрат. – Расскажешь ты наконец что-нибудь про себя или нет?
– На досуге, на досуге. Сегодня некогда.
– Не первый раз я это слышу. Пойми, твои материалы для истории нужны.
– Не для истории, а для твоей брошюры, – уточнил Клименко и, чтобы загладить нанесенную этими словами обиду, извиняющимся тоном проговорил: – В самом деле, друг, сегодня не могу. Ты вот, между прочим, и про петлюровщину пишешь. Может, поживишься чем-нибудь от бывшего сотника? – И он показал на Пидипригору, который как раз заканчивал писать анкету.
– Интересно, интересно! – с готовностью согласился смуглый парнишка, подсаживаясь поближе к Пидипригоре. – Вы сможете совершенно откровенно поделиться со мной? Только абсолютная откровенность!
– Смогу, – неохотно согласился Данило. – Но боюсь, что я многое не так понимаю, как вы, и вам покажется, что я не откровенен.
– Для меня ценнее всего узнать, как именно вы понимаете, – успокоил его Киндрат. – Вы до гражданской войны принадлежали к какой-нибудь партии – к эсдекам, руповцам или туповцам?[13]13
Эсдеки, руповцы, туповцы – члены социал-демократической, рабочей и трудовой партий на Украине в предреволюционные годы.
[Закрыть]
– Нет, партийная борьба меня никогда не привлекала и не интересовала.
– А что же вас интересовало?
– Художественная литература и этнография.
– Что-нибудь собирали, печатались?
– Несколько этнографических зарисовок опубликовал.
– Как же вы к Петлюре попали?
– Это невеселая история.
– Понимаю. Однако что вас, как интеллигента, потянуло к нему?
– Только обстоятельства… – Данило со вздохом поглядел в окно, собирая воспоминания, на которых, как на ниточке, висела ого жизнь.
За окном с одной стороны надвинулась туча, с другой – сияло солнце. А на земле в колдобине играли и дрались воробьи; ласковые лучи солнца собирали росу со спорыша; через улицу шла, изогнув стан, молодая женщина с полными ведрами, вода в них, покачиваясь, ловила солнце. Это все было жизнью. А как назвать то, чем переболел и что перестрадал не он один? И нужно ли все это безусому юнцу, который все равно подстрижет его в своей брошюре под одну гребенку со всеми?..
Он еще раз смерил глазами Киндрата и приступил к рассказу:
– Я хорошо помню весну восемнадцатого года, когда на украинский трон сел цирковой гетман Скоропадский. Тогда он в киевском цирке целовался с землевладельцами и торжественно говорил им: «Молю бога, чтобы дал нам силу спасти Украину». Вы знаете, что силу ему дал не бог, а кайзер, и от этой силы Украина застонала под шомполами карательных экспедиций. Да если бы еще дело ограничилось шомполами! У нас на Подолье, в Браиловщине, немцы и гайдамаки даже к виселицам устраивали очереди, не в силах сразу перевешать всех несчастных мужиков, провинившихся перед барином или перед его управителем. Ну, село и взялось за топор и вилы. Крестьянские отряды разворачивались в лесах, готовясь к смертному бою. А в это время в Белой Церкви Петлюра поднял сечевых стрельцов, напечатал свой универсал против Скоропадского, назвал его царским наемником, предателем, самозваным гетманом и объявил его вне закона за преступления против независимой Украинской республики, за массовые аресты, за разрушение сел, за насилия над рабочими и крестьянами. И тогда ему многие поверили, поверил и я. Попрощался с женой и отправился в Белую Церковь освобождать Украину от иностранцев и своих помещиков. Думалось тогда, что иду под знаменами свободы выметать феодальный сор. Ну, а дальше вы знаете – от паршивого берега отчалил, да к паскудному и прибился.
– Это верно, – кивнул головой Киндрат. – Вот вы постепенно поняли, что петлюровщина – путь измены, почему же вы раньше не порвали с ней, не пристали к красным?
– Страшно было, – признался Данило. – И не только за свою шкуру… Вы хотели откровенного разговора? Я скажу вам все, что и до сих пор пугает меня. Это национальное чувство. Петлюра сперва сумел набросить на нас национальную сорочку и уверить, что большевики против украинской нации. И в этом, как ни странно, ему помогли некоторые ваши военные и политические деятели великодержавного направления. Меня – и не одного меня – больше всего смущали мысли, что национальное движение в условиях империалистического развития может носить лишь контрреволюционный характер.
– Вы имеете в виду высказывания Бухарина и Пятакова? – спросил военком.
– Да, я говорю про высказывания Пятакова, Бухарина и про страшную практику Муравьева и некоторых низовых руководителей. Украинская интеллигенция очень болезненно восприняла препятствия национальному возрождению и развитию, неясности в вопросе об украинской государственности и языке, а Муравьев своей провокационной резней бросил черную тень на большевиков. До сих пор он и здесь и за границей зовется не иначе как «Калин-царь, из Орды, из золотой земли, из Магазеи богатой». На нем и на свежих ранах украинской интеллигенции до определенного времени ловко играл Петлюра. А вы, верно, и сами знаете, как он умел говорить! Природа не дала ему ни таланта полководца, ни размаха государственного деятеля, ни мастерства литератора, ни даже порядочности обыкновенного человека. Но она наделила его редкостным даром красноречия. Так и держался и держится он на чужих штыках и на своем языке… Ну вот, я и ответил, почему раньше не порвал с атаманщиной. Неясность в национальном вопросе мучила меня до последнего времени.
– Вы говорите – мучила. Теперь не мучит? – Военком встал, вспоминая кровавую муравьевскую оргию.
– Вроде поменьше, хотя я не во всем еще разобрался.
– Что же вас заставило иначе думать?
– Сама петлюровщина. Я видел, что она только эксплуатирует национальное чувство, а сама продает Украину иностранцам. Ну, и величайшее впечатление произвел на меня приказ Красной Армии, подписанный Лениным, где было сказано, чтобы Красная Армия шла на Украину как защитница украинцев и украинской культуры. Вот коротенько и все о падении и страданиях одного человека. – Данило невесело, одними глазами, улыбнулся, встал и спросил у военкома: – А теперь мне в Чека?
И тут он почувствовал холодок под сердцем: приближалась, кажется, самая страшная минута его жизни; ему приходилось столько слышать о Чека, что он пугался, даже встречая в газетах это слово.
Военком посмотрел на него, прищурился, и на висках его заиграли лучистые морщинки.
– В Чека, я думаю, вам незачем идти. Сегодня все оттуда выехали в одно из отдаленных сел уезда. Материалы я передам.
– Что же мне делать?
– Отправляться домой, – улыбнулся военком. – А сперва можно зайти к заведующему унаробразом. Вскоре отдел народного образования собирается открыть курсы по переподготовке учителей. Подучитесь – пойдете учительствовать.
– И меня пошлют учительствовать? – Данило не верил своим ушам, он решил, то над ним глумятся.
– Непременно пошлют. Учителей у нас не хватает. А работать вам надо не за страх, а за совесть.
– Господи, да я за троих… – Данило опустился на стул, полез в котомку за оружием, но тут же поднял руку и вытер лоб.
Когда он с несказанной благодарностью взглянул на военкома, тот только лукаво прищурился.
– А господа теперь пореже поминайте. Вряд ли он вам поможет.
– Данило радостно кивнул головой, а сам подумал: «Господи, неужели все страхи, все муки закончились, как в рождественской сказке?»








