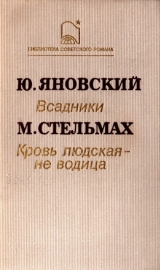
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
X
Бог для того послал на землю ночь, чтобы в тиши росли травы и отдыхали люди. В эту ночь, может быть, и поднималась под осенними звездами ранняя озимь, но люди мало отдыхали. Не клонило ко сну тех, кому предстояло получить землю; не спали и те, кто лишился части своих всеми правдами и неправдами добытых урочищ и хуторов.
Не успели еще одни разойтись с комбедовского собрания, как по селу осторожно засновали другие и по стеклам окон тихонько забарабанили те руки, которые степеннее всех крестились в церкви, а на рынке ловчее всех тянулись к рублю.
Больше всего денег прошло в селе через руки лавочника Митрофана Созоненка. Веснушчатый, точно кукушкино яйцо, скрестив на груди проржавленные руки, он недвижным идолом сидел за прилавком и рыжим бесом широко гулял на свадьбах да крестинах. Там Созоненко не пропивал денег и не приносил подарков, а при всех вынимал из городского бумажника долговые расписки и величественно бросал на приданое молодой или на зубок новорожденному. А в селе как в селе – по-всякому смотрели на выходки богатея, чья рука навеки легла на аршин, и расписки его прозвали «Созоненковы деньги». Это не смутило, а только возвеличило Митрофана в собственных глазах, и он даже заготовил для расписок разноцветные, одного размера листки бумаги, чтоб они в самом деле напоминали людям настоящие деньги.
В этот вечер, после невеселого ужина, Созоненко запер изнутри и снаружи свою просторную лавку и нетерпеливо ждал, кто первый принесет ему с комбедовского собрания дурные вести о земле.
В дверь робко просунула скособоченные плечи изможденная женскими болезнями Надежда. Муж поднял голову, посмотрел и – жена словно провалилась во тьму смежной комнаты, только дверь по ней вздохнула.
«Падаль», – тоскливо, в который уж раз подумал Созоненко, как будто Надежда была виновата в том, что он женился без любви, не на ней, а на ее богатстве.
Митрофан взял ее пятнадцати лет, когда у ней еще и месячные не начинались, и бедняжка забивалась от него во все темные уголки, словно предчувствовала, что замужество не принесет ее телу и душе ничего, кроме боли. Так и случилось. Даже на хороших харчах женщина жирела, желтела, сохла. От нее не отходили шептухи и знахарки, а Митрофан в ярости прозвал ее «мешком нытья» и зачастил к другим бабам.
Жена принесла ему в приданое не деньги, а десятины, – чтоб они сгорели вместе с нею, ибо теперь эту землю забирали у него. Забрали бы вместо с землей и жену – все легче будет вспоминать о своем брачном ярме. Даже родить – на что уж нехитрая наука! – не могла по-людски. Все выкидывала и выкидывала. Только одного сына выходила, да и тот в журавлиную породу пошел – худющий, бледный, как побег проросшей в подполе картошки.
Во дворе неистово залаяла собака. Митрофан, не одеваясь, вышел из хаты, подошел к глухому забору, приложил к нему ухо и уж потом спросил:
– Кто там ходит?
– Это я, Митрофан Вакулович, – просочился в замочную скважину смиренный голос Кузьмы Василенка.
Созоненко загремел железом, отпер калитку, и во двор бочком, боясь задеть хозяина, осторожно протиснулся вековечный должник Василенко. Широкие полотняные штаны его потемнели от сырости, точно он побывал в канаве.
– Добрый вечер, Митрофан Вакулович. – Кузьма снял шапку, поклонился и вздохнул.
– Пойдем в хату. – Созоненко украдкой высунул на улицу голову, повертел шеей.
– Никого нет, я за собой… хе-хе… свидетелей не вел, – угодливо засмеялся Василенко. – Я огородами петлял, чтоб никто не увидел. Весь в росе.
– Я свидетелей не боюсь! Плевать мне на них! Я гляжу, месяц взошел или нет. – Созоненко разозлился, что даже такому ничтожеству, как Василенко, заметна его осторожность.
– Взошел, взошел. Тут вам, из-за этого забора, и месяца не видать. Крепость! – хвалит Кузьма кулацкую усадьбу, все еще не надевая шапки.
В комнате Созоненко садится за стол, а Кузьма робко топчется босыми ногами на свежевымытом полу. Его влажные, печально-угодливые глаза скорее подошли бы богомольцу, чем этому пьянице и мелкому воришке. Правда, за чаркой и Кузьма становится человеком, бросая на хмельные столы и острое слово и насмешку, которую трезвый хранит за семью печатями.
– Кончилось собрание? – Митрофан ощупывает Кузьму глазами. Взгляд у лавочника оценивающий, он сразу определяет, чего стоит человек и с нутра и снаружи.
– Должно быть, кончилось. Я до конца не досидел, чтобы вас без опаски проведать.
– Дожился, можно сказать! Ну, и что на том собрании было?
– Беспредельно плохо, – невесть зачем ввертывает Кузьма ученое слово. Потом снова вздыхает и смотрит на Митрофана по-собачьи преданными глазами.
– И смерть Пидипригоры не помогла? – Все тело Созоненка наливается жаром.
– Не помогла, нисколько не помогла. – Кузьма тронул себя за голову, посреди которой до самой макушки пролегла, словно покрытая пушком одуванчика, ранняя лысина.
– Еще поможет, – хмуро пообещал лавочник. – Мою землю забирают Олександр Пидипригора и Карпец?
– Они, кто ж еще!
– И не отказывались от хозяйской?
– Нет. Только один Мирон Пидипригора насилу от крестился от Денисенковой.
– Ну, тогда живо беги к Карпцу и к Пидипригоре, скажи, пускай тотчас ко мне приходят. А тебе за это магарыч.
– Я мигом!
Глаза Василенка при упоминании о магарыче веселеют. Он закрывает шапкой поредевшие волосы и поворачивается к двери, показывая заплатанную спину.
– Не торопись, на собаку нарвешься.
Созоненко, морщась, обходит Кузьму, от которого несет потом и шинком, выпроваживает его за калитку, на улицу, которая уже славно убралась тенями и лунным светом.
Кузьма среди теней и сам становится тенью, только по собачьему лаю можно догадаться, мимо чьего двора он идет. Правда, псы вдруг отозвались и на Козьем краю, куда Василенку сворачивать незачем. Но это не удивляет Созоненка: там, верно, тоже какой-нибудь посланец обходит мужиков, позарившихся на землю своих односельчан. Ох, помогут ли только эти колядованья?..
Сквозь проделанную в столбе скважину для самодельного ключа капля лунного сияния просачивается во двор и затекает в руку. Он стряхивает эту росинку далекого света и, кривясь, входит в комнату. Тут он привычным движением вынимает из божницы разноцветную пачку перевязанных расписок, расшнуровывает их и, на миг забыв о земле, любуется своим мелким почерком. От этого почерка не раз обдавало холодным потом хмурых трехаршинных здоровяков, обливались частыми и крупными слезами женщины, и в отчаянии, заламывая руки и корчась, отдавались ему молодые вдовы. Только с ними, а не со своей холодной и увядшей женой познал он страсть и любовь. Конечно, грех тратить свое добро на чужих баб, да ведь и то сказать – не дарить же его.
Он перелистывал расписки, и каждая из них о чем-то говорила ему, смотрела на него со скорбно униженной или просительной улыбкой. Вот и крестик Олександра Пидипригоры ниже слов «в сем расписался». Вот и непослушные изломы и кружочки подписи Карпца. Тяжко, не рукой, а грудью налегая на стол, выдавливал из себя человек обязательства. Да что поделаешь, если надо собрать на лошаденку. И купил-таки на его, Созоненка, деньги сивую кобылу.
Смеху было с этой лукавоглазой клячей, которая, верно, и не ведала, что такое рысь, – ее опухшие в суставах ноги знали только твердую поступь труженицы. А хлестни кнутом – шарахается как бешеная, и глаза становятся по-человечьи злыми. Но однажды, когда и добрые кони Полищука застряли в луже, эта самая кобылка возьми да и покажи себя – вытащила двойную ношу. С той поры никто не поднимал больше на смех ни Карпца, ни его лошадь.
Разноцветные бумажки ненадолго отвлекают Созоненка от главного, и руки его скова обретают крепость и силу. Но прояснение это ненадолго, как осенний день, когда из дымчатой облачной прорехи проглянет пятно солнца. «И чего убиваться?» – не раз спрашивал себя Митрофан. Ведь у него отрезают всего семь десятин. Но теперь эта земля стала для него самой дорогой, самой лучшей.
Созоненко перевязывает расписки, прячет их за божницу и только две оставляет при себе. «Где наше не пропадало!» Он простит долг и Карпцу и Пидипригоре, только бы отказались от его земли.
«За свое и еще свое давай! Дождались свободы! Голоштанный Мирошниченко вертит селом как хочет…» Тоскливые и злые мысли подогревают ярость, и уже хочется плюнуть на кротовьи лазейки, по которым пустился Сафрон Варчук, и придумать что-нибудь посерьезнее.
За окном с перебоями бренчит железная, продетая сквозь столб щеколда. Созоненко поспешно кладет расписки в карман и выходит во двор. Он отпирает калитку. В проеме перед ним залитая лунным светом безнадежно понурая фигура Кузьмы. Вид его не предвещает ничего хорошего.
– Что, Кузьма? – Митрофан почему-то сторонится и дает ему дорогу, как порядочному человеку.
– Беспредельно плохо, – вяло бросает тот свои глупые слова и втаскивает за собой во двор косой столб тени.
– Говори, не тяни же! – злится Митрофан; даже при луне видно, как краснеет его пестрая физиономия.
– Что там говорить! Взбесились мужики. Вот Карпец запряг кобылу да и поехал ночью на ваше поле.
Созоненко, удивленный и обиженный, кладет руку на грудь, чтобы унять боль.
– На моей лошади и на мое же поле?
– На ваше. Так жена сказала.
– И нарезки, вражий сын, не дождался? – Побелевшие губы Созоненка дрожат.
– Там и будет ждать. Вот человек! – Кузьма поднимает сжатый кулак, в душе дивясь смелости Карпца.
– А Пидипригора что?
– Лучше и не говорить!
– Говори!
Василенко входит во двор, а Созоненко с размаху гасит калиткой лунное сияние.
– Застал я Олександра дома. Как раз после ужина с семьей про завтрашний день говорил. А у его Юрка столько книг – ну прямо как у бурсака: и возле божницы, и на лавках, и в сундуке… Уж не думает ли и этот на кого-то выучиться?
– На черта мне сдались его книжки! Ты дело говори! – вскипел Митрофан. – Тянет и тянет, только кишки выматывает…
Кузьма вздохнул, тупо покосился на лавочника и забубнил в землю:
– Сказал я Олександру, чтобы сразу, значит, бежал к вам. А он поглядел, ровно грош подарил, и спрашивает: «Ты долго еще думаешь в холуях у Созоненка ходить?»
– Так и сказал?! – Митрофан не поверил своим ушам.
– Так и сказал, черти б его взяли. «Ты, говорит, долго еще думаешь в холуях у Созо…»
– Слыхал уже. Дальше, ради бога!.. – Митрофан застонал, словно от зубной боли.
– И дальше, Митрофан Вакулович, не легче. «Передай, говорит, своему Созоненку, что, ежели он со мною хочет видеться, пусть сам ко мне придет. Не велик он теперь барин».
От этих слов у Созоненка помутилось в голове. Такой наглости ему не доводилось слышать за всю жизнь.
– Ну погоди! – погрозил он кому-то кулаком. – Теперь я сам пойду по ночам колядовать!
Забыв о Кузьме, он бежит в хату, надевает прюнелевую чумарку[9]9
Чумарка – вид сборчатого кафтана.
[Закрыть] и, погасив свет, выбегает, уже собирая мысленно своих друзей и единомышленников.
Осенняя прохлада не остудила вспотевший от злости лоб, поздний час не сдерживает его быстрого шага: бог не на то послал на землю ночь, чтоб отдыхал хозяин.
XI
Дома Свирида Яковлевича уже ждали Уляна Завирюха, дальняя родственница его по молочной матери, и учитель Григорий Марченко. Оба сидели в тени на широкой завалинке, о чем-то тихо толкуя. При виде учителя Мирошниченко сразу же вспомнил о своем долге перед школой.
В селе Новобуговке никогда не было приличной школы, да и хлеборобы не очень-то посылали своих детей учиться: «На попа не выучится, а пьяниц писарей нам не надо». И ученье их сыновей и дочек чаще всего начиналось на выгоне или в помещичьей экономии. Прежде в селе школа прозябала, а в революцию и вовсе закрылась; дьячок-учитель, плюнув на голодный паек, удалился хозяйничать на свой хутор, книги пошли мужикам на курево, а рамы в школе повынимали добрые люди.
Но в этом году отдел народного образования прислал в село настырного учителя, который не даром получал в месяц тридцать фунтов ржи, фунт сахара и две пачки спичек. Когда Свирид Яковлевич впервые застал его в школе за ручными жерновами, учитель, отирая рукавом потный лоб, ничуть не смутился.
– Ну вот, наконец мы и встретились, – невесело улыбнулся Мирошниченко, с досадой поглядывая на жернова.
– Рад видеть у себя первого коммуниста, – приветствовал его учитель, подавая белую от муки руку.
– Ругаться собираетесь? – настороженно глянул на него Мирошниченко.
– Нет, Свирид Яковлевич, не собираюсь. – Учитель выпрямился; он был высок и худощав, из-под темной верхней губы красиво сверкнули чистые, синеватые зубы.
– Неужто не собираетесь? – немало удивился Мирошниченко. – А я бы на вашем месте не выдержал.
– Подстрекаете? – снова по-детски доверчиво засмеялся учитель. – Прошу в гости.
Комната у него была четыре аршина в длину и три в ширину. В ней стояли узкая железная койка, накрытая вместо одеяла выгоревшей австрийской шинелью, заваленный книгами стол, два стула и бадейка с продуктами, на которой красовалась буханка черного хлеба, выпеченная самим учителем.
– Не густо у вас в хате. – Свирид Яковлевич крякнул, садясь на самодельный стул. – Скажите, как же вы рассчитываете прожить на паек? Кругом учителя бегут из школ…
– Я не сбегу, если сами не надумаете выгнать, когда увидите, как вам со мной туго придется, – беззаботно заверил учитель.
– Ого! – повеселел Мирошниченко. – За горло нас брать думаете?
– Доберусь и до горла и до печенок, если понадобится, – пообещал учитель. – Не привезете дров в школу – пойду вашу хату разбирать. Не улыбайтесь, пойду! – Он потряс кулаком. – Ну, разобрать вы не дадите, а сраму будет на все село. Я тоже из хохлов, упрямый! Я выучился, и дети у меня будут учиться.
– Дров я вам привезу. – Мирошниченко внимательно, с затаенной радостью смотрел в глаза учителя, которые то смеялись, то гневались. – Но вот как вам жалованье вырвать в уисполкоме? – За три месяца не получали…
– Иные и по полгода терпят.
– Что ж тут сделать? – Свирид Яковлевич уже беспокоился о понравившемся ему учителе.
– Обойдите двенадцать апостолов, может, вырвете, – улыбаясь, посоветовал учитель.
– Каких это двенадцать апостолов?
– Всех двенадцать завотделами, – охотно пояснил учитель.
– Тогда уж лучше к самому богу – к председателю! – расхохотался Мирошниченко.
– А он скажет: «Дайте мне раньше хлеб собрать да с бандитами и дезертирами покончить».
– И это может быть, – согласился Мирошниченко, удивляясь, почему Григорий Михайлович не скулит и не жалуется на судьбу.
Учитель догадался, какие мысли шевелятся в голове председателя комбеда, отрезал хлеба и даже достал из бадейки ломоть влажного от соли сала.
– Перекусим, Свирид Яковлевич. Ведь вы почти такой же холостяк, как и я?
– Ого! Где же вы сало достали? Прислали из дому?
Учитель нахмурился.
– Вот эта квартира – весь мой дом. Из родных никого у меня не осталось. Матери очень хотелось увидеть меня учителем на господском жалованье, да не дождалась своего счастья. А где я сало взял, скажу. Только условие – чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. – Григорий Михайлович согнулся пополам, выбросил из-под кровати натянутые на колодки девичьи сапожки, кусок вара и разный сапожный инструмент. – Вот мой второй заработок: людям сапоги шью и за двадцать пять верст отношу, в соседний уезд, – меняю на продовольствие, чтобы здесь никто не знал. Больше подозрений не будет?
– Вот так-так! – только и проговорил Мирошниченко и крепко пожал учителю руку. – Теперь я верю, что будет у нас школа, хоть и тяжел ваш хлеб.
– Это ничего, это все преходящее, а надо творить непреходящее. У каждого поколения свой героизм и своя трагедии. Под старость, Свирид Яковлевич, даже весело будет вспомнить перед молодыми, красиво одетыми учителями, как их коллега в дни революции, в дни величайших в истории человечества декретов, тайком, из-под полы, продавал на базаре сапоги, чтобы не бросить школу и не присоединиться к тем, кто каркает на революцию. Воспоминания придут в свое время, а теперь ни ученики, ни родители не должны догадываться о моем ремесле и промысле.
– Назвал бы вас молодцом, да мало этого, – растрогался Мирошниченко. – Значит, у каждого поколения свой героизм и своя трагедия? Это следует запомнить.
– Запоминайте, Свирид Яковлевич! Вы, я знаю, человек жадный. А теперь скажите, как поможете мне собрать учеников в школу? Дразню собак по селу, записываю школьников, а родители утаивают их от меня, как от вас хлеб. Утаивают будущих профессоров и ученых, перед которыми, может быть, целые государства будут снимать шапки!.. Неинтересно? Ну, тогда ешьте мой хлеб, хоть он и пахнет дратвою…
В тот вечер они стали друзьями. Мирошниченко понес домой несколько книг, а учитель прошелся по школьному двору, вернулся в свою комнату, завесил австрийской шинелькой единственное окно и принялся пришивать головки к голенищам. А чтобы для соседских и ученических глаз не оставалось на руках следа просмоленной дратвы, натянул старенькие перчатки…
Но как ни старались учитель и председатель комбеда, осенью в школе детей собралось не много. Родители чаще всего отговаривались тем, что нет одежды и обуви. И тогда Мирошниченко схитрил: распустил слух, что каждый учащийся получит сапоги и материю на одежду. И сразу в школу повалили малыши, которых даже не было в учительских списках. Проходили дни, родители все чаще надоедали учителю вопросом: когда будет обещанное?
И сейчас Свирид Яковлевич наперед знает, какой его ждет разговор. Поэтому он здоровается как можно ласковее, не догадываясь, что уже этим дает понять Марченку о несбыточности его надежд.
– Мне, Свирид Яковлевич, уже можно уходить? – как обухом по голове бьет его учитель.
– Неужто так скверно, Григорий Михайлович? – Упрямый лоб председателя комбеда хмурится.
– Кое-кого из детей родители уже не пускают в школу. Была б кожа, сам бы сшил сапоги.
– Вот беда! Ездил я к председателю уисполкома.
– А он что?
– Бранил за мою выдумку, как самого последнего, да еще классово несознательным гастролером обозвал.
– Свирид Яковлевич, неужто и вас ругают? – удивилась русая улыбчивая Уляна. – Никогда бы не подумала.
– Еще как перепадает, хоть я в таких случаях и орден нацепляю на гимнастерку и пиджак расстегиваю, – отвечает Мирошниченко и сам смеется своей выдумке.
– Выругал и ничегошеньки не пообещал? – Лицо Марченка увяло.
– Нет, пообещал. Он хоть и сердился, а за школу и у него душа болит. Сказал, что при первой же реквизиции у спекулянтов дадут что-нибудь и на школу… Ну, там ситчик какой ни на есть.
– И на том спасибо. Хоть бы вместо обещанных сапог ситчиком разжиться!
– Непременно получим.
– Буду ждать. Вы сынка Олександра Пидипригоры знаете?
– Юрия?
– Да, да! Любознательный подросток, все мои книжки уже перечитал. А теперь прошу вашей помощи.
– Чем же я могу помочь?
– Есть у меня предложение, – Марченко понизил голос, чтобы не услышала Уляна, – пойти к попу.
– Мне пойти к попу?! – Мирошниченко удивился и рассердился. – Вы подумали, что сказали?
– Подумал, Свирид Яковлевич. Ради науки я пошел бы и к черту, как один немецкий ученый, только душу не продал бы. Ведь у попа три шкафа книг.
– Будь хоть двадцать три, а я к нему – ни ногой.
– А я ходил, не постеснялся.
– Не дал?
– Хуже – на смех поднял: «Могу предложить вам только божественные книги, для очищения души…» Ну, коммунисту он, я думаю, об очищении души не заикнется.
И, не дав Мирошниченку опомниться, учитель попрощался и поспешил в школу.
– Наговорил, наболтал – и бежать, а ты думай, что делать… – пробормотал Мирошниченко и почесал в затылке.
– Очень хороший и деликатный человек, – похвалила Уляна учителя.
– Деликатный-то деликатный, а до самого нутра доберется. Как моя мама поживает, скажи, Уляна? Давненько я у нее не был.
Свирид Яковлевич улыбается, вспоминая свою молочную мать, которая и доныне удивляется, как она, маленькая женщина, смогла выкормить такого. «Ты ж у меня весь на подушечке умещался», – часто говорила она.
– Сердится мать на вас.
– Что так?
– На спаса ждала вас и на пречистую, а сынок не пришел.
– Все некогда.
– Она так и говорит: «Свирид приходит ко мне, только когда ему худо».
Мирошниченко выругал себя и твердо решил пойти к матери, как только выпадет свободный часок.
– Что у тебя, Уляна?
– То же, что у всех, Свирид Яковлевич: землю мне дали, где думали? – Она доверчиво заглянула ему в глаза.
– А ты что же сама на собрание не пришла?
– Где уж бабе ходить на собрание! И смех и грех…
– Глупости, Уляна! Кому же, как не тебе, теперь быть в передовых? Муж добровольцем на Врангеля пошел, брат с Петлюрой сражается.
– И не уговаривайте, Свирид Яковлевич! Никуда я не пойду.
– Почему?
– Почему? Страшного наговора боюсь.
– Какого еще страшного наговора?
– Э, сами знаете…
– Не знаю. Говори!
– Не успеет женщина посидеть на собрании, а уж бессовестные языки мелют, что она шляется. – Уляна разволновалась, и ее веселые, с приподнятыми краешками губы обиженно дрогнули.
– Так ведь это кулачье.
– Кто бы, Свирид Яковлевич, ни бросил грязью, а след остается. А я не хочу, чтобы мне в спину летели грязные слова… Так как же у меня с наделом?
– Три десятины наилучшей земли, как семье добровольца. Завтра выходи на поле.
– И возле бугра?
– Целая десятина.
– Спасибо, Свирид Яковлевич! – Она поклонилась. – Простите, что так поздно наведалась: дома у меня старый да малый.
Молодая женщина взялась уже рукой за калитку, но заколебалась.
– Еще что-нибудь, Уляна?
– Ох, еще! – Она тяжело вздохнула и опустила голову. Тень от платка упала на лицо, изменила его выражение. – Не знаю уж, как и сказать…
– Говори просто, мы люди бесхитростные. – Мирошниченко подошел ближе.
Уляна подняла на него глаза, полные муки, залитые слезами.
– Может, и грешно с такими словами к мужчине обращаться, – зашептала она, глотая слова и слезы, – только к кому же тогда? Свекор глухой как пень, с печи не слезает, а сестра каждый божий день гонит меня к знахарке. Тяжелая я, Свирид Яковлевич.
– Что ж горевать? Ты гордись этим, княгиней по земле ходи!
Уляна горько отмахнулась.
– Нищенкой пойдешь, если мужа убьют.
– Кто его, чудачка, убьет? – Мирошниченко даже потряс кулаком. – Да твой Денис, слышь, самого Врангеля в Черном море утопит! Ты что, своего Дениса не знаешь?
– Да знаю, – женщина стала понемногу успокаиваться.
– Еще и снег не выпадет, а Денис уже дома будет. Врангелю вот-вот крышка!
– Ой, Свирид Яковлевич, вас послушать – так всем не сегодня-завтра крышка: и Петлюре, и Пилсудскому, и Врангелю.
– А как же иначе? Конечно, крышка! Ты знаешь, что такое международный пролетариат?
Что такое международный пролетариат, Ульяна не только не знала, но и выговорить не могла и потому осторожно спросила:
– А он за нас или против?
– За нас, Уляна, за нас! А твой милый до зимы непременно прилетит.
– В самом деле?
– Конечно! – уверял Мирошниченко, всем сердцем веря, что так и будет. – А ты уж разнюнилась! – Он кончиками ее же платка вытер ей слезы.
– Как маленькой, – улыбнулась она, всхлипывая. – Ох, Свирид Яковлевич, недаром моя сестра говорит, что вы лучше всех умеете… врать.
– Сама она стерва брехливая! Прокоп Денисенко вертится вокруг ее юбки, гляди, насмеется над вдовой, еще кулацким подголоском ее сделает. Пускай дубиной гонит его от себя, коросту липучую. А заикнется еще раз про знахарку – в кутузку посажу. Ты, Уляна, роди такого казака, как Денис, или такую же курносенькую дочурку, как сама. Я больше люблю курносых – как-то они веселее других на свет глядят. Сам этот курносый носишко улыбнуться тянет.
– Скажете, Свирид Яковлевич! – Уляна повеселела и вытерла слезы.
– Истинная правда. Одни любят носатых – не знаю, что они в них нашли, – а я курносых.
– А пришла бы носатая, так вы сказали бы, что носатых любите. Правда? – рассмеялась Уляна, поправляя платок.
– Вот не нравится мне, когда бабы начинают все на свою куцую мерку мерить. Сказал – курносых, значит, курносых. Роди, Уляна, скорее, а меня в кумовья зови. Не позовешь – сам приду.
Он легонько хлопнул ее пониже спины, и она, не обидевшись, посмотрела на Мирошниченка из-за плеча, повела веселой бровью и мягко потонула в лунном свете.
А Свирид Яковлевич тяжело вздохнул. Говорил с Уляной, словно Керенский. Нет, лучше все-таки с мужиками шуметь и ругаться, чем иметь дело с этими плаксами… Он поднял голову и увидел сквозь листву, как щурился, расстилая над селом свою золотистую пряжу, месяц.
В такую ночь только на мельнице сидеть – отозвались далеким воспоминанием молодые годы.
Он подходит к хате и замечает на завалинке мисочку, прикрытую вместо тряпицы листом лопуха. Свирид Яковлевич приподнимает лист и вдыхает запах свежего творога. Ясное дело, Уляна принесла для детей. Немало помещичьих коров перешло к людям через его руки, а вот себе посовестился взять, потому и приносят ему подчас из бедняцких дворов то горшочек ряженки, то кружок творога, то комок масла. Даже заявление было уже в укоме, что председатель комбеда собирает себе подать молоком. Свирид знал, что это дело не темной бедноты, а кулацкой злобы, однако несколько дней на душе было противно: он ругался и просил, чтоб ему ничего не носили, но не помогло, даже укорять стали, что загордился.
Свирид Яковлевич тихонько отмыкает деревянным ключом дверь. Но чуткая Настечка уже услыхала, как звякнула задвижка, она бросается с постели на порог и повисает на шее у отца.
– Тише, баловница, мисочку выбьешь! – Он поднимает одной рукой хрупкое тело ребенка.
– Ой, как вы колетесь! – Настечка отстраняется от его щетины и пробегает по ней тоненькими пальчиками.
От этого легкого прикосновения с плеч его сваливаются будничные заботы, глаза веселеют, и только в глубине груди царапает сознание вины: мало, ой как мало бывает он с детьми! Растут они у него, что трава на берегу. Порой он диву дается: как его Настечка справляется со всем? И откуда только у нее умение берется? Вот закончится раздел земли, тогда его не оторвешь от детей… Правда, можно было бы жениться на какой-нибудь вдове, но к нему до сих пор не приходили ни любовь, ни даже та жалость, с какой он относился к первой жене.
Настечка зажигает плошку и, прикрыв рукой, несет к столу. Неверное пламя просвечивает сквозь розовые пальчики, тени ложатся на удлиненное смуглое личико с такими же большими, как у матери, глазами. Удивительно создает людей природа: мало найдется в селе мужиков здоровее Свирида Яковлевича, а вот ни его сила, ни простые черты лица не передались детям, оба в мать. Шесть лет Левку, а смеется мало, даже вздыхает так же часто, как покойная.
Свирид Яковлевич берет у дочки плошку, подходит к постели. Там под отцовской катанкой, подобрав под себя ножки, спит его сынок. Одно веко у него набухло от жары и пыли. Черные, по-девичьи длинные ресницы выделяются, как у взрослого. На смуглом личике белеет несколько щербинок – следы ветряной оспы. Припухшие розовые губы полураскрыты, как бутон.
– Ужинал наш Левко? – спрашивает отец, чувствуя, как от волнения у него спирает дыхание в груди.
– Поужинал, – звонко откликается от печи Настечка. – Я наварила галушек. Попробовал – и на кровать. «Что ж ты не ешь?» – спрашиваю. «Замерз!» Тогда я вашу катанку на него накинула. «Садись – за отца будешь». Он засмеялся даже, сел, поужинал, а потом и спать пошел с вашей одеждой, возился-возился под нею, так и уснул.
Свирид Яковлевич целует сына в висок и, жалостно, по-женски, улыбаясь, отходит от него, чтобы не разбудить. А тем временем Настечка хлопочет возле посудного шкафчика, ставит на стол немудреный ужин.
– Идите поешьте немного.
Девочка уже перемешала в миске творог с галушками и садится за стол, на то же место, где сидела мать.
– Настоящая хозяйка! – отведав галушек, хвалит отец дочку.
Та лукаво посмеивается:
– Что ни сварю и как ни сварю, вы все хвалите. Видно, хорошо с вами нашей маме жилось.
И от этих доверчивых слов отцу становится не по себе: не больно-то хорошо жилось с ним его жене, всяко бывало в жизни, но пусть дети об этом не знают – у них и без того немало плохого впереди.
– А правда, у меня галушки не хуже, чем у тетки Докии?
– Лучше!
– Ну, вот уж и лучше! – возражает Настечка, хотя в душе она убеждена, что так и есть.
Вот если б ее кушанья попробовал теткин Дмитро! Настечка улыбнулась своим мыслям и застыдилась. Еще этой весной, когда Дмитро насилу вытащил ее из Буга и на плече отнес домой, она полюбила его от всей души. Что ж тут такого? Могут же девчата постарше любить парней, почему и ей в одиннадцать лет не полюбить своего спасителя? Она век будет любить его, уже и платок ему фабричный заполочью[10]10
Заполочь – бумажные нитки для вышивания.
[Закрыть] вышила, только подарить боится.
– Папа, я завтра с Левком думаю пойти в лес за терном. Я знаю, как вы квашеную ягоду любите.
– За терном? – Отец кладет ложку на миску. – Не ходи, доченька, в лес, там еще неспокойно. Обойдемся как-нибудь в этом году и без терна.
– А мы далеко не пойдем, мы по опушке. – Настечка болтает под столом ногами и только этим отличается от настоящей хозяйки.
– И не вздумай, Настя, ходить в лес! Долго ли до беды!
– Тогда на луг пойдем – там тоже есть терн, только в лесу на нем ягоды побольше.
– Ну, на луг можете. Спасибо, дочка, за ужин! Расти большая! – говорит он, тепло глядя на свою хозяюшку.
– Спасибо и вам, – с достоинством отвечает Настечка, первая поднимается из-за стола, степенно несет к шестку ложки, обливную миску и принимается мыть их над ведром теплой водой.
– Вы куда пойдете ночевать – на луг или в овин? – спрашивает она, отрываясь от своей работы.
– Переночую сегодня с вами.
– Ой, лучше не надо! – испуганно возражает она. – Мы уж как-нибудь одни, а вы идите в овин. Не ровен час… Разве не хвастался вчера сынок Данька, что мы круглыми сиротами останемся? Ведь это он от старших слыхал…
На душе у Мирошниченка мрачно, однако он улыбается.
– Не горюй, доченька, скоро все страхи развеются, как дым. Я тебя тогда в город учиться пошлю и кожушок с немецким гарусом справлю.
– А я смогу стать учительницей? – в который уже раз спрашивает она отца. Нет на свете ничего лучше, чем стать учительницей: и книжки читай сколько захочется, и детей уму-разуму учи…
– А как же! Ты и теперь вроде учительницы.
– Вам только бы посмеяться… – Девочка вытирает ручонки холщовым полотенцем и подходит к отцу.
– А Левка кто научил читать?
– Так то ж Левко. Он такой понятливый, что сам уже до тысячи считает.
Свирид Яковлевич привлек дочку к себе и громадной матросской ладонью погладил ее косы. От этой ласки Настечка присмирела и опустила голову, как провинившийся ребенок. Так опускала голову и его жена. Даже это перешло от матери.








