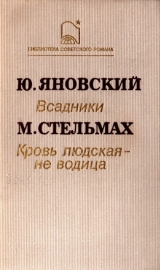
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
VI
Печальные осенние сумерки. На мраморе недвижных облаков как тень застыл высокий тополь. И как тени снуют вокруг тебя мысли, испуганно шарахаются от своего страха, летят за реку, за тополь, к тому клочку земли, на котором и до сих пор, как ты надеешься, ждут тебя человечность и счастье… Может, кого-нибудь они и ждут, только не тебя. Ты развеял их по пылинке, рассеял на чужих путях, расстрелял в тех битвах, которые не славой, а позором легли на твою изувеченную молодость.
А клочок земли от этого не становится хуже. То под громом стоит, ветви деревьев колышет, зовет: «Приди!», то весенними, в цветах, лугами, синими плесами расстилается и тоже шепчет: «Приди!» И давно пришел бы, целовал бы дорогу, где люди ходят, поклонился бы родным порогам, если бы не страх. Неужто ты такой трус, неужто душа у тебя заячья? Нет, если обрывать, так нынче же, все, с пуповиной!
Небо опускается ниже, поглощает тень тополя, подходит к самому берегу и шевелит на нем потемневшие тучи.
Словно в забытьи Данило Пидипригора спускается к реке. За плечами у него старая, сбитая коса; он задевает ею за кусты, и посеченные ольховые листочки шуршат в холодных росах. Впереди, с веслом в руке, насвистывая песенку, ковыляет босоногий паренек, позади тяжело топает сапогами подполковник. Как бы ему, Данилу, хотелось сейчас сесть с веслом в руке в свой вербяной челнок, прибиться на нем к своему тихому дому, к братьям, к жене. Где только она теперь?
Двадцатилетним учителем он встретил ее на каменистых берегах прихотливого Тетерева. После роскошной и ласковой природы Подолья его все удивляло в глухомани полесских древлянских дебрей – и гнилой, обветренный камень, на котором вырастают сосновые боры, и мраморное месторождение возле «Дьякова дубняка», и лесные каменоломни, где гнули спины смуглые красавцы каменотесы, потомки древних итальянцев, давно уже породнившихся с украинцами. Тут, на правом берегу реки, возле низкой, поросшей мохом террасы он как-то увидел группу семинаристов. Черноволосый студент с глазами бунтаря сжимал в руке камень и, размахивая им, гневно и горячо убеждал своих спутников:
– Только подумайте! Это пока что единственное на Украине месторождение подлинного серого и розового мрамора, на него, как на девичьи виски, легла прекрасная нежность белых и алых прожилок. – И он показал обломок породы. – Его украшают зерна черного лосняка и кристаллы пирита, флюорита и красного железняка. Из этого надо высекать богинь и героев, а всю эту красоту уничтожает на огне дикарь помещик Коростышев. Он из мрамора выжигает известь!
– Какой вандализм, какой вандализм! – возмущенно зазвенел голосок тоненькой миловидной девушки, и этот колокольчик сразу покорил Данила.
Ее звали Галей, а у разгневанного семинариста, с глазами и статью бунтаря, фамилия была тишайшая, от названия травки – Нечуйвитер. Как все это было давно и как недавно! Миловидная девушка стала его женой, из Григория Нечуйвитра, как и следовало ожидать, вырос каторжанин и коммунист. А он, Данило, вместо поэта стал петлюровцем. И кому какое дело, что он с романтических вершин свалился в смердящую яму! Идеи Нечуйвитра казались ему примитивными и слишком железными для его крестьянской души, влюбленной в величественные памятники старины и в свой тихий рай на семи десятинах.
– Чего, пан сотник, пригорюнился? – Подполковник ударом руки прибил к земле все воспоминания.
– Мыслей да забот полна голова.
– Страшновато?
– Не без этого, – признался Пидипригора, и босоногий парнишка с удивлением оглянулся.
– Чего там бояться? Красные простого мужика не трогают. – Он показал глазами на сбитую косу, и нельзя было разобрать, глумится он или ободряет.
Подполковник ощутил в тоне перевозчика лукавство и подозрительно глянул на него.
С прибрежья тянуло солоновато-кислым илом и рыбьей чешуей. Вот уже сквозь оконце примятого ивняка мелькнул плес Буга, у берега заштрихованный смолистыми тенями деревьев, которые, словно потонувшие великаны, стремятся восстать из глубин. Берег здесь черноземный, травянистый, и вода не шипит, как на песке, а глухо клокочет. На кого гневается она, отваливая землю с купами кустов и жесткой земли? На левобережье вместо верб и кустарника залегли горбатые тени. Чем встретит их мгла: мертвой тишиной или роковым выстрелом?
Как бы хотелось стать сейчас маленьким мальчиком, услышать материнское слово, забыть груз пережитого и ужас будущего! Кажется, все, когда сделают что-нибудь плохое, обращаются к своему детству. В этом есть утешение, но нет защиты: невинность детства не в силах смыть грязь, наросшую в годы зрелости.
Парнишка, согнувшись, вытаскивает из кустов челнок, показывает на него Погибе и Пидипригоре, а сам широко крестится. Сотник садится на носу, поближе к опасности, за ним подполковник, а перевозчик руками и грудью нажимает на нос лодки и вскакивает в нее, когда та с плеском отделяется от берега.
Темень придавила суденышко к воде. Два человека с оружием, а третий с веслом настороженно следят за берегом. Вода, как сама неизвестность, зажала долбленую посудину в тиски и что-то лепечет ей на своем языке. Пальцы, сжимающие ручку браунинга, затекли, а челнок все колышется и колышется, выхватывая из помятых волн то плеск, то вздох, то клекот гнева.
С размаху надвинулся берег. Челнок мягко, как щенок, ткнулся в него носом, развернулся. Данило выскакивает на податливые заросли, оглядывается вокруг, водя браунингом.
На берегу осенняя тишина, и только плеск воды подмывает ее. Все трое молча прислушиваются к ней, и у парнишки вырывается первый вздох облегчения:
– Слава богу, в добрый час приехали!
В это время за ивняком раздалось визгливое и пьяное: «Маруся отравилась, в больничный дом везут…» Неподалеку прогремела подвода, пролетели мужские и женские голоса, и тишина приглушила их. Но через минуту ее вновь нарушил прекрасный одинокий голос, неведомо для кого изливавший кобзарскую тоску на торной подольской дороге, умоляя не проливать людскую кровь:
Кров людська – не водиця —
Проливати не годиться.
И перед силой этой тоски, перед силою любви человеческой двое убийц невольно опустили оружие и головы. Только перевозчик с поднятым веслом поворачивал лицо, как подсолнух, в сторону песни своей кровью политой земли.
– Слепой Андрийко поет. Даст же бог такой голос! – с грустным восторгом промолвил паренек.
– Кто ж это? – обернулся Пидипригора.
– Человек, – уклончиво ответил перевозчик.
– Отроду слепой?
– Где там! Ослепили.
– Кто?
– А кто ж его знает? – Нахмурившись, парень помолчал было, но не выдержал: – Одни говорят – гетманцы, другие на вашего брата кивают…
– А ты знаешь, кто мы? – вскипел подполковник и резко обернулся к перевозчику.
– Поденщики, – спокойно ответил тот.
Но это показалось подполковнику едким намеком.
– Замолчи, паскуда, а то другую ногу окорочу! – зашипел он, поднимая оружие на калеку.
– Спасибо и за то. – У паренька зазвенел голос. – Вижу, не задаром перевозил.
Он прыгнул в челнок, молча оттолкнулся от берега. Вода заволновалась и понесла паренька на ту сторону, где его ждали с добрым словом.
– Зачем вы так, пан подполковник? – с укором проговорил сотник.
– А чего он распустил язык, как голенище? Не знает, а обливает нас грязью.
– Он знает! Видно дьякона по космам! – резко бросил Пидипригора, сердясь на себя за то, что не смог более достойно обрезать подполковника.
– Да пес с ним, – успокаиваясь, махнул рукой Погиба. – А голос у этого Андрийка просто из сердца жилы выматывает. Такому только в императорском театре петь. Но с нашим варварством…
Шурша кустами, они пересекают мягкую от размолотой пыли дорогу и полями шагают к хутору Веремия, который невесть почему облюбовал себе низину, тешился своими прудами, рыбой и засевал прежде свои поля не столько хлебом, сколько душистой коноплей на продажу.
– Вы тут не собьетесь? – спрашивает подполковник, теряя ориентацию в путанице полевых дорог, дорожек и троп.
– Все это босыми ногами исхожено. На этих стежках они росли, покрываясь ссадинами.
– Поэзия ссадин! – засмеялся подполковник.
– Да, истинная поэзия у нас всегда была поэзией ссадин. И смешного в этом очень мало.
В долине темнеют высокие, как холмы, осокори хутора. У плотины Погибу и Пидипригору встречает агент атаманской разведки Денис Бараболя. Для уверенности он чиркает спичкой, приглядывается к Погибе и Пидипригоре, который сразу запоминает невысокую круглую фигуру и обросшее, ворсистое, словно шерстяной мяч, лицо. Агент сердечно здоровается с Погибой и, как падкая до парней девушка, все цепляется за его рукав.
– Никого здесь нет? – Подполковник, недолюбливающий шпионов, осторожно высвобождает свой рукав из объятий Бараболи.
– Сейчас ни одной живой души! Но бывает, залетают на хутор красные казаки – поедят, возьмут пару снопов овса для лошадей. Во избежание неожиданностей я вас устрою в старой столярке. Туда никто не заглядывает.
– Фронт далеко?
– Отодвинулся отсюда. У красных не густо. И так и сяк латают свои линии. От Буга до Днестра у них только Четырнадцатая армия, бригада Котовского и Первая дивизия Красного казачества. У головного атамана сил значительно больше. Ударить в удобный момент – в порошок сотрем большевиков, – хихикает Бараболя.
– Скоро ударим, только надо хорошо подготовить тыл. Здесь есть кто-нибудь из надежных батек и атаманов?
– Под Литыном Гальчевский гуляет, в шести верстах отсюда орудует батька Палилюлька, близ Жмеринки стоит с крупными силами атаман Чорногуз. А еще есть поблизости одна волость – ни наша, ни ихняя.
– Это как же понять?
– Объявили хлеборобы крестьянскую республику и не признают никакой власти, кроме своих людей. Выбрали даже министров и не смущаются, что те в полотняных шароварах заседают. А одному всем миром сложились на сапоги: своих не было, а без сапог и мужикам не надо министра. – И он снова засмеялся, точно по заказу, отчеканивая каждое «хи-хи».
– Как вы на это смотрите, пан сотник? – У подполковника от уголков рта до подбородка залегли складки.
– Как? Очень просто! Крестьянин веками искал справедливости и хорошего царя. Если у него даже Иван-дурак стал царем в тридесятом царстве, так отчего же мужику не стать министром в своей волости?
– А как у них с деньгами? Тоже свои? – с улыбкой допытывается подполковник.
– Пока разными пользуются, но упорно ищут машинку. Где-то узнали, что наш головной атаман несколько раз во время отступлений бросал денежные клише и машины, и послали своих ходоков искать их: хотят что-то доделать в этих клише, чтобы иметь собственные денежные знаки, государственно-волостные. – И снова рвется цепочка хихиканья.
На хуторе для гостей заранее отворена калитка, заранее заперты собаки, они теперь отзываются надрывным лаем из-за сенной двери.
Денис Бараболя катится по двору, заваленному свежесрубленным лесом, останавливается на перелазе и грузно спрыгивает в сад. Здесь между высокими, как дубы, подольскими глеками[8]8
Глек – сорт груши.
[Закрыть] примостилась старенькая, облупившаяся от дождей столярка. Агент атамана со скрежетом отпирает многофунтовый замок, обеими руками срывает его. Пропустив гостей, Бараболя запирает дверь на засов, входит в мастерскую и чиркает спичкой. Спичка шипит, стреляет серой и смрадом и наконец зажигается.
Небольшие, в четыре стекла, окошки старательно завешены; на изрезанном и поцарапанном столярном верстаке стоит еда, самогон и темная варенуха; на земляном полу трещат под ногами гвоздики и бархатцы.
– Эге, да тут совсем неплохо! – с удовлетворением замечает подполковник, увидя два топчана со свежими постелями.
– По-варварски просто. – Лохматая физиономия Бараболи сразу приобретает солидность. – И я думаю, пан подполковник, теперь только варварством и язычеством можно спасти цивилизацию. Христианству эта ноша уже не под силу.
– Давненько не тянуло под украинскими вербами ницшеанским духом! – поморщился сотник.
Взгляды Пидипригоры и Бараболи скрестились, и оба сразу почувствовали друг к другу острую неприязнь.
– Прошу к столу! Самогон, скажу вам, просто мальвазия!..
Бараболя мячиком вертится перед подполковником, и Пидипригоре противно смотреть на этого мелкого картежника, который по капризу судьбы не раз был судьей и палачом единственной, неповторимой человеческой жизни. Очевидно, что-то подобное ощущает и Погиба.
– Денис Иванович, а вы сами ужинали? – деловито спрашивает подполковник, с удивлением замечая, что незримая линия делит круглое лицо агента пополам: одна половина, с угодливым глазом, веселенькая, а другая – угрюмая, и глаз на ней настороженный и недобрый.
– Был грех, был грех, – Бараболя вскидывает на Погибу разные глаза и снова разрывает тишину хихиканьем, и непонятно – от природы это у него или выработано на агентурной службе для отвода подозрений.
– Тогда прошу вас тотчас же слетать к Палилюльке – пусть прибудет сюда.
– Сегодня? – Один глаз агента удивляется, а другой злится.
– Как можно скорее!
– Что же, слетаю.
Бараболя неохотно укатывается в уголок столярки, вытаскивает из-под топчана кнут и полотняную суму. Он перекидывает суму через плечо, одним движением меняет форму шапки, меняет в тот же миг выражение лица, вяло щелкает кнутом. И вот уже перед удивленными гостями не угодливый агент, а убитый горем пастух, растерявший свою отару.
– Ну и артист же вы! – Опущенные книзу уголки губ подполковника поднялись вверх.
– Была на все хозяйство одна кобылка, да и та смоталась не то к Петлюре, не то к Троцкому… Э, беда! – Бараболя опечаленно повел бабьими плечами и даже искорки лукавства не высек из разных глаз. – Будьте здоровы, пойду поищу свою скотинку.
Он поудобнее закинул суму за плечо и вышел из мастерской настоящим пастухом.
– Видали? – Подполковник метнул на сотника взгляд. – Я его погнал к Палилюльке, чтобы не слышать этого скользкого «хи-хи», а он артист артистом.
– Артист из страшного балагана! – с презрением глядя вслед Бараболе, ответил Пидипригора.
– Не нравитесь вы мне сегодня, пан сотник, совсем не нравитесь, – пристально глянул на него подполковник и задумался: у него снова проснулось недоверие к этому мягкотелому учителю.
– Я и самому себе не нравлюсь, – понуро ответил Пидипригора, не пряча диковатых глаз.
– Нервы, все нервы! Водкой и женщинами надо лечить. А вы аскетом живете. На верность жены надеетесь?
– Моя жена святая! – ответил Пидипригора с гордостью и неприязнью: он терпеть не мог двусмысленных намеков и сальностей.
– Война и святых делает грешницами. Жизнь требует своего, – продолжал подполковник, не обращая внимания на тон сотника.
– Жизнь всегда требует своего, но нельзя же оправдывать этим каждую подлость.
Погиба собирался возразить, но в саду что-то топнуло, затрещало, приближаясь к мастерской. Оба схватились за оружие, отстранились от окон, вопросительно взглянули друг на друга: уж не заманил ли их атаманский агент в ловушку? А в саду, под самыми окнами, снова послышался треск и лязг железа.
– Да это же стреноженные лошади! – Пидипригора с облегчением улыбнулся. – Слышите – железные путы звенят!
– В самом деле? – Подполковник осторожно отодвинул одеяло и выглянул в сад. Там у самого малинника, подминая кусты копытами, паслись рослые кони. – Черт бы их побрал! Как ударили по нервам!
Он отошел от окна, засмеялся, потянулся к накрытым тарелками мискам.
В первой из них лежали роскошные влажные и потемневшие от сметаны жареные караси.
– Веремиевские! – пояснил Пидипригора. – Осенью старик возами вывозит на базар карасей и карпов. Карпы у него до полпуда выгуливаются!
– Как пахнут! – втянул запах рыбы подполковник. – Надо бы сразу за них садиться, но мы подождем еще минутку. Или вам не терпится?
– Я не голоден.
Погиба, морщась, стягивает с правой ноги тесноватый сапог, осторожно выворачивает край голенища, или, как здесь говорят, халявы, ножом подпарывает черный от пота поднаряд и вынимает смятые бумажки. Вот он разглаживает их, и Пидипригора читает собственноручно подписанные Петлюрой мандаты на формирование и руководство «повстанческими» отрядами. С помощью этих документов, сфабрикованных военно-походной канцелярией, головной атаман надеялся наплодить новых атаманов и атаманчиков и утвердить власть новоиспеченных батек, которые держались не идеями, а погромами, резней и самогоном. Погиба вписывает в свидетельство фамилию Палилюльки, а остальные снова засовывает в голенище, подмигивая изогнутыми, как и рот, бровями.
– Захалявные батьки! Когда-нибудь, может, потомки вспомнят нашу работу… Ну, а теперь ужинать!
Пидипригора протягивает руку к варенухе, но Погиба силой отбирает у него бутылку.
– Казацкое ли дело пить это бабье зелье? Нам горькую подавай! – Он с шиком разливает самогон по стаканам. – За ваше здоровье, пан сотник!
Он единым духом опрокидывает в горло первач, довольно крякает и трясет тяжелой головой. На тонкой шее, как шарнир, ходит кадык, подхваченный снизу двумя толстыми жилами, словно подпорками.
Хмель сразу огнем расходится по тугому телу сотника, глаза его загораются упрямым смелым огоньком.
Выпили еще по стакану, и подполковник, забыв осторожность, развеселился, даже пытается запеть любимую песню головного атамана и его армии: «Ой, что там за шум учинился, как на мухе наш комар оженился…» Но дойдет до мухи, глянет искоса на окно – замолчит и пускается в философию:
– Нет края лучше Украины, только жить бы да жить. А жизнь – это встречи и прощания, это хлеб и вода, это водка и кровь… «Ой, что там за шум…»
Из-за выгнутых губ Погибы все чаще выглядывают широкие подсеченные зубы. И они, и надоедливый комар, который «оженился» на мухе, и подполковничья философия вызывают у Пидипригоры раздражение. Он пьет, но не допивает крепкую с венчиком пены самогонку. Его мыслей и хмелю не заглушить.
– Так вы думаете, что ваша жена святая? – с масленой улыбочкой подкусывает его Погиба, поигрывая своим обручальным кольцом.
Данило выпрямляется.
– Я предпочитаю говорить о женщинах трезвыми словами.
– Чего же вы рассердились? – удивился подполковник, – разлив еще самогонку. – Пейте, пан сотник! Великолепный первач! Кто знает, когда еще доведется выпить вместе.
– Вряд ли доведется нам пить вместе!
Пидипригора в упор взглянул на Погибу и весь напрягся, как перед боем. Это пришло к нему то природное упорство, которое уже не раз выводило его на крутые повороты. Мягкий и мечтательный по натуре, он легко уступал более настойчивым и говорливым, не умел ссориться и грозить, но, когда брало за живое, никто не мог поколебать его.
– Вряд ли доведется пить вместе?! – повторил Погиба.
У него от неожиданности задрожала рука, самогон переплеснулся через край стакана, смочил шершавый, иссеченный верстак и жалобно закапал на пол, где умирали душистые бархатцы и гвоздики.
– Это как же прикажете понимать, пан сотник? – Тяжелое, полное подполковничье лицо трезвеет, но вдруг смягчается в улыбке. – Это вы об опасности, о нашей смерти?
– Нет, о своей жизни. – Пидипригора бережно положил хлеб возле миски. – Я честно привел вас на хутор, а сам иду домой. С меня хватит войны! – И он на всякий случай отступает от Погибы.
– Крысы первыми покидают тонущее судно? – Табачные глаза подполковника блеснули недобрым огнем.
– Нет, теперь крысы кусаются, защищаясь до конца!
Эти слова поднимают подполковника со стула.
Они стоят друг против друга, злые, уже непримиримые, готовые на все.
– Значит, пан сотник, руки вверх и в ноги комиссарам?
– Комиссары дают мужикам землю.
– И вам три аршина отмерят. Чтоб не больно жирно было.
– Это уж как выйдет, – отвечает сотник; его ударили в самое больное место.
– Они же только за одну любовь к Украине ставят к стенке. Интернационалисты…
– Как выйдет, – тихо повторяет сотник.
– Вы, герой святого дела, неужто станете изменником?
Подполковник улавливает сомнение на побелевшем как снег лице сотника. Но эти слова смывают с Пидипригоры противную волну расслабленности.
– Нет, пан подполковник, мы не герои святого дела, – покачав головой, говорит Пидипригора. – Это мы только думали так, пока не стали игрушками чужой политики и не пошли торговать своей землей направо и налево.
– Э, сколько вы тут наговорили! – укоризненно покачивает головой Погиба, едва сдерживая гнев. – Разберемся с одним, а потом за другое. Да, я не возражаю, чужие государства оказывают нам помощь, но зато у нас есть свое правительство, хоть плохонькое, но первое украинское правительство.
– А какая ему цена?
– Дороговато, как и всякое правительство, – пытается отшутиться Погиба.
– Нет, пан подполковник, дешевенькое у нас правительство, не дороже уличной девки. Какое же это правительство народной республики, если в столице у него – в Каменец-Подольске, на нашей же земле, – польский староста сажает в кутузку, как жуликов, сразу троих наших министров? Вы знаете в истории подобный позор?
– Случай и в самом деле позорный, – согласился Погиба. – Нам нужно иметь правительство получше. Хотя бы для Европы…
За эти слова и уцепился сотник, злобно изливая все наболевшее, саднящее, что скопилось в груди за два года без малого:
– Для Европы это самое лучшее правительство: оно отстаивает, как реликвию, самобытность украинского кожуха, а самое Украину продает ее же убийцам. Вот и выходит, как говорят простые стрельцы, не комар на мухе оженился, а Пилсудский на Петлюре. И невеста отдает Пилсудскому в приданое всю Украину.
– Вы и правда считаете, что мы продаем Украину? – От напряжения лицо подполковника становится свекольного цвета и каменеет.
– Я не говорю о нас лично. Нас даже приказчиками не пустили на этот торг. Мы только дешевые наемники, подслеповатые носильщики, которые на своем горбу тащат Украину на продажу.
– Браво, сотник! Вы сразу стали красным!
– Нет, я почернел от гнева и горя, ибо разве грех этой продажи не загонит нас в гроб?
– Так и ложись, падаль, в гроб! – Погиба со звериным проворством выхватил из кармана браунинг.
Но сотник с не меньшей быстротой одной рукою впивается в пальцы, а другой в шею подполковника, подставляя ему подножку, и Погиба шлепается на земляной пол. Сотник падает поперек его тела, чувствуя, как под пальцами лягушкой бьется твердый, тугой клубок кадыка.
Подполковник вывертывается, но через миг сотник снова лежит на нем перекладиной, не выпуская из руки его кадык. Погиба начинает задыхаться, и тогда Пидипригора обеими руками вырывает у него браунинг.
– Шутите, пан подполковник! – говорит он, приставляя оружие к груди Погибы. – Шутите!
– Стреляй, изувер, стреляй, предатель, твоя пора! – хрипит, неуклюже корчась на полу, Погиба. Под ним трещат, отлетая, оранжевые, хрупкие головки гвоздик.
– Я в лежачих еще не стрелял.
Сотник пятится к порогу, но оружие держит против головы Погибы.
– Может, для удобства прикажешь встать?
На тонкой, запрокинутой шее судорожно, как отвратительный гномик, шевелится кадык, и кажется, это именно он помогает Погибе выкатывать из груди тяжелые слова.
– Для удобства лучше лежи и не подымай шума. Вот так и попрощаемся. – И Пидипригора плечом отворяет дверь позади себя.
– Но мы еще встретимся! – Не благодарным, а ненавидящим взглядом провожает подполковник уходящего. – Еще сойдутся наши дороги!
– Тем хуже будет для тебя. Слабенек ты, – сквозь злость усмехается сотник. – Прощай! – И он скрывается за дверью.
– Нет, до свидания, изменник! До страшного свидания! – несутся ему вдогонку хриплые, исполненные ненависти слова.
«Может, вернуться и утихомирить навеки этот клубок злобы?»
Пидипригора на миг заколебался, но сплюнул и решительно вышел в сад. Тут только он вспомнил, что оставил в мастерской косу, но уже не стал возвращаться. Рвать надо один раз. И он сделал это скорее, чем думал.
А что же теперь дальше? Жизнь или три аршина земли? И снова ненависть и страх тяжелой лапой сдавливают его душу. Она всегда с трепетом летела домой, к родной земле, к пруду возле Мироновой хаты, к тем лесам, где на верхушках деревьев покоятся края туч, к золотым косам жены. Если бы можно было слиться с этими лесами, с землей, если бы там был конец его пути, если бы не надо было являться в страшные военкомат и Чека!
С Погибой он резко, смело говорил и про три аршина земли, а наедине с самим собой, перед завесой неведомого, смелость с каждым шагом по капле выцеживалась из него на росистую землю.








