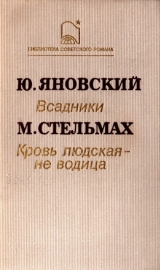
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
И этого чабана Григора угощали все, и Григор ругал богачей, с которыми пил, нес небылицы о попах и во все горло проклинал пропащую жизнь, но его слушали и не перебивали, все знали, что Григор сейчас запоет, а после его песни уже ничего человеку не нужно.
Данилко, разыскав отца, вел его домой, по пути ругал всякими словами, которые слышал от матери, а Григор шел, стараясь не шататься, и плакал всю дорогу.
Кое-какие ребята пытались дразнить Данилку, что у него такой отец, но Данилко, прислонив отца к ближайшим воротам, мгновенно догонял этих ребят и затевал с ними упорную баталию, дрался один против нескольких и возвращался к отцу с окровавленным носом, в разорванной сорочке, однако победителем, заставившим уважать нетрезвость своего отца и для полноты победы отобрав у разгромленного врага пасхальные гостинцы.
В хате за столом сидели мать и прадед, на столе скудная – только чтоб разговеться – еда, строго и вежливо протягивала мать отцу свяченый кулич, и пьянчужка, как глава дома, разрезал его накрест, потом на ломти и оделял семью. По окаменевшему лицу матери катились слезы и падали на кулич. Данилко, после битвы за честь рода, сидел решительный и непреклонный, прадед Данило метал молнии из-под мохнатых бровей, и пасха для Данилки становилась какой-то напастью, ведь на его долю в этот великий весенний праздник выпадало столько баталий, сколько другому мальчишке хватило бы на целый год. Данилко отнимал у богатых сопляков кулич и писанки, за нейтралитет качался на чужих качелях, кормил мышей свячеными крошками и напряженно приглядывался, как именно мыши превратятся в силу этого греха в нетопырей.
И пасха в светлом шествии весенних дней становилась не настоящим праздником: лучше было на Фоминой, когда все село собиралось на кладбище поминать родных и с каждой могилкой христосовались, потом садились над родными и поминали. Чарка ходила от старого к малому: «Пускай почивают да нас поджидают», «Чтоб им легко лежать да землю держать». А когда батько Григор заводил про страшный суд, со всех сторон сходился народ и ковыляли нищие: «Да подайте же вы, матушки мои, подайте», – а мать сидела пригорюнившись над бабушкиной могилой. «К нам страшный суд приближается», – пел Григор.
Прадед Данило выпивал добрую чарку и заедал луком. «Как настанет страшный суд, придется помирать и какое ни есть добро – покидать», – и все весны Данилкиного детства соединялись в одну, его жизнь протекала на открытой таврической степи, широта, простор запали в сознание, как детство, как расцветающий после Юрьева дня май, месяц, когда вырастают травы на сено и лекарства.
Тогда святили поля, и золотые попы помахивали кадилами, а Данилко был певчим. «Коли выпадут в мае три добрых дождя, – дадут хлеба на три года», – и святили источники и колодцы, зелень и воду, следили, когда закукует кукушка, – чтоб не на голом дереве, иначе будет неурожай, собирали в пузырьки целебную для глаз Юрьеву росу, пастухи и чабаны в этот день постились, чтобы умолить Юрия не давать скотину волку, которого считали его святой собакой, и наставал месяц май, и щедро расцветал густой терн.
И вот Данилко с прадедом вышел из села и подались прямо на юг в открытую степь, перед ними расступилась голубая даль, на южной стороне небосклона, над далеким морем выросли кудрявые-прекудрявые облака, точно вишневый сад в цвету на самом краю земли.
Прадед шел, напевая гайдамацкую песню о школяре: «Вот идет школяренок из польской семьи – штаны шаровары из кожи свиньи». А Данилко плелся, наблюдая, как буйно разрастаются на небе белые вишневые деревья и даже перегибаются на эту сторону, встречный ветер и попутный дул где-то в вышине, обрывая белые ветви расцветших вишен.
Данилко щурился, глядя на этот беспредельный мир, рядом с таким старым-престарым прадедом, который идет себе и напевает стародавние песни, рассказывает сказки да присказки, и как называется каждая травка, и какой цветок какую пользу приносит.
И в жизни много ходить нужно – тогда увидишь, какова она есть, и умирать не захочется, а весь наш род ходовитый. Отцы и праотцы, и Данилко, должно быть, будет ходить, пока ноги не отвалятся. Род строптивый, непоседливый – и казаковали, и на земле трудились, на Псле осели, село прозвали Турбаями[1]1
Смутьянами.
[Закрыть], и жило оно, полное смут, смятений да возмущений, и были те люди настоящими смутьянами, а пан решил их крепостными сделать, а у царицы Катерины полюбовник был из запорожского коша – Грицько Нечеса, он и поведал смутьянам об этом умысле; стали смутьяны своих казачьих прав добиваться, а пан выкрал их метрики из церкви да сжег, суд и не мог признать казачьи права, тогда смутьяны поубивали панов, отлупили судей и отбивались пять лет. Но войско окружило голодранцев, и пришла смерть. А тот Грицько Нечеса, как и все запорожцы, колдуном был, пробрался сквозь войско, и смутьянов провел, и направил на две стороны: к Днестру и к Перекопу, и мы из роду смутьянов, не бывали крепостными во веки веков, и Данилко пускай не будет.
«Велели школяру „Отче наш“ читать; сами стали вегеря танцевать», как раз сегодня Микола-весенний воду святит, поглядим одним глазком, как он по морю ходить будет да кропилом воду святить, чтобы народу можно купаться. Вот этак прямо по морю с кропилом и ходит и кропит, а кому случится тонуть в это время, тотчас вытащит, обсушит и в шинок заведет, «отче наш, иже еси, да еще будет и воля, не введи нас в огурцы, а введи-ка в дыньки», и гайдамацкая песня была долгая-предолгая.
Вот так и шли целый день, и все по господской земле. «Земли у пана, как лютости». Увидали море, у рыбаков подкрепились. «Нету хлебца слаще нашего рыбацкого, а вы, гречкосеи, гречу сейте, этот дед, чего доброго, и тот свет исколесил, вишь, какой сухопарый да черный, выпьем-ка, дед, по чарке, что ли, сам Микола сегодня по морю ходит, а мы вот на берегу полеживаем».
Прадед Данило выпил чарку-другую, садилось солнце, не торопясь по морю плыла груженая шхуна, держа курс на запад: мимо Джарылгачской косы, острова Тендера, Кинбурнской косы, Очакова, шла на Збурьевку, Голую Пристань, Кардашин или Алешки, а может, и в самый Херсон, Британы, Каховку.
Прадед Данило рассказывал рыбакам всякую бывальщину, распевал стародавние гулевые песни, те слушали, разинув рот. «Такого деда и черт пестом не уложит», – дивился и Данилко, таким он прадеда никогда не видел, – сколько еще оставалось сил в его костлявом теле; над морем смеркалось, плескались о берег волны, и ширился запах необъятной степи в вечернюю пору.
Рыбаки, купаясь, заплывали далеко в море, а прадед держался ближе к берегу, Данилко барахтался тут же, нырял в соленую воду, наконец совершенно замерз и долго бегал и плясал, чтобы согреться. Прадед вырыл в песке уютную ямку, уложил туда Данилку, а сам стоял тут же, глядел на бесконечные звезды, всматривался в темноту и, казалось, уносился в синий простор – и не мог наглядеться, и не мог вдосталь надуматься, а Данилко сладко заснул, повизгивая во сне, как щенок.
Поздно утром Данилко проснулся, а прадед все стоял, как и вечером; берег опустел – рыбаки отправились на ловлю. «Пойдем, сынок, – сказал прадед, – сегодня Симона Зилота, собирают целительные травы, пойдем натощак пракорень поищем, чтобы тебе еще долго грешную землю топтать, а мне стать к ответу».
Голос прадеда звучал торжественно и казался нездешним, они двинулись от моря прочь и углубились в степь, по лощинкам еще вздымался легкий пар от трав, большая степная птица парила в небе, ни ветерка, кругом безмолвье, и вот они вышли, казалось, на самое высокое место. Солнце пекло и размаривало, у Данилки полны руки трав, корешков и цветов; даж-корень пахнул сдобным хлебом. «Вот тебе, Данилко, и степной дзинзивер», – сказал прадед и наклонился к цветку, и вдруг ноги прадеда подкосились, и он упал в траву, раскинув руки, словно обнимая землю и слушая какую-то тайну, задралась его белая борода, мутные глаза мигнули Данилке: «Топчи землю, сынок». Смотрит Данилко на прадеда, а он – неживой.
Тогда Данилко, оглядевшись по сторонам, впервые почувствовал себя одиноким, и точно ветер сдунул его, и пустился Данилко куда глаза глядят под палящим степным солнцем, и расстояние между прадедом и правнуком все росло и росло, словно природа только сейчас захотела восстановить это равновесие поколений.
Шаланда в море
Трамонтан дул с берега, стоял январь или февраль, море замерзло на добрую сотню метров, гуляли волны, на горизонте они были черные с белыми гривами и катились против ветра к берегу, ветер сбивал с них белые шапки. Возле берега штормок разломал лед, все говорило, что вскоре заревет настоящий штормище, на берегу стояла старая Половчиха, одежду на ней трепало, как на каменной, старуха была статная и суровая, как в песне.
На другом берегу залива виднелась Одесса, ее обдувал трамонтан, и город высился, как остов старой шхуны, с которой убрали паруса и устанавливают мотор или паровую машину. Одесса переживала очередную морскую зиму: ветры всех направлений проносились над городом, с моря порой наползали туманы, влажные, густые, серые туманы. Вот и сейчас с моря внезапно надвинулся туман и скрыл Одессу. Половчиха стояла недвижимо, недалеко на берегу у шаланд хлопотали рыбаки из артели, море выбрасывало на песок осколки льдин, холод пронизывал до костей, трамонтан шел широкой ровной волной. Была приморская зима, в море за туманной завесой уже вовсю гремел шторм, волны раскатывались сильнее и выше, загорелся одесский маяк, забегали красные и зеленые полосы, красный и зеленый свет.
Половчиха, проводив мужа в море, высматривала теперь его шаланду, сердце ее пронизывал трамонтан, сердце готово было выскочить из груди, а с моря двинулись стужа и грохот, море, схватив ее Мусия, алчно ревело. Женщина не выказывала страха перед морем, она безмолвно стояла на берегу – высокая и суровая, и ей казалось, что она – маяк неугасимой силы.
«Ой, ушел ты в море, Мусиюшка, – причитала она про себя, – да и след твой смыла соленая вода. Да когда б я знала да ведала, я следок бы тот ладонями разгребла и тебя бы к берегу покликала. Ой, ты дуй, ветер трамонтан, прогони в море непогодь, развей туманы, а я останусь здесь одна-одинешенька, конца-краю дожидаючись, и когда бы в дерево оборотилася, то я всеми ветками бы над морем махала и листом бы шумела».
И после многих веков показалась шаланда в море, она едва мелькала среди волн, надолго исчезала за водяными гребнями, появлялась на миг и снова ныряла, точно проваливалась в бездну. Шаланда билась против шторма грудь в грудь, а на берегу слышится только шипенье волн, и страшно смотреть на шаланду одинокую, словно человек среди водяных гор. Раскачивает ее море, швыряет с волны на волну, разрезает ею валы, ледяные брызги жгут огнем, к телу примерзает промокшая одежда, и все же не поддается рыбак, Мусий с незнакомым мужчиной пробиваются к берегу!
Старая Половчиха не сводила с них глаз, сердцем она была с шаландой, на берегу переговаривались рыбаки из Мусиевой артели, из поселка к морю высыпали дети. У берега выросла толпа, старая степнячка Половчиха стояла поодаль и мужественно наблюдала за борьбой своего мужа, туман клубился над морем, был лютый холод.
«Гребут, – сказал кто-то, – да нешто им поможешь в такой шторм?» Рыбаки, кто помоложе, кинулись к шаландам, им преградили дорогу старики: «Не дурите, хлопцы, и шаланды загубите, и вас крабы съедят, артель наша бедная, староста Мусий Половец нам за шаланды головы оторвет, если живым выплывет».
Старая Половчиха видела, как переломилось весло, и на глазах стоявших на берегу шаланда закружилась на месте раз, другой, потом ее ударила волна, толкнула, подбросила, другая перевернула, – и посудина ушла под воду. Тогда рыбаки кинулись к лодкам и поволокли к морю «Ласточку» – гордость всей артели, в нее сели четыре великана и высоко подняли весла, чтобы сразу взлететь на волну, косматую большущую волну. «Ласточку» накренило, груда льдин ударила ее по обшивке, вода хлынула через борт, рыбаки очутились в воде и давай вызволять «Ласточку». Волна сбивала их в кучу, льдины ранили головы, рыбаки вцепились в «Ласточку», с берега им кинули конец с готовой петлей, они прикрепили его и вытащили «Ласточку» на берег.
По волнам вверх килем носилась Мусиева шаланда, рыбаки поскидали шапки и в эту минуту в море заметили взмах человеческой руки. Кто-то плыл среди покрытого льдинами моря, плыл саженками, мерно взмахивая руками, волна относила его обратно в море, в морской туман, а он снова плыл к берегу.
Вперед вышел великан рыбак с мотком бечевы, опрокинул в рот стакан спирта и полез в воду, сразу же посинев, а на берегу разматывали конец, и великан все плыл навстречу человеку в море. Льдины наскакивали на великана, но он выбрался на вольную воду, за ним волочилась бечева, а человек уже совсем погибал среди волн, он лежал на спине, его бросало во все стороны, великан рыбак плыл и плыл.
Оказалось, что человек вовсе не погибал, он только потерял от холода сознание, но очнулся и стал изо всех сил выгребать к берегу. Встретились они среди волн и долго не могли схватиться за руки, каждый раз их разделяла волна, наконец им посчастливилось, бечева натянулась до отказа, как струна, десятки рук схватились за нее, десятки рук потащили разом. Пловцов мчало к берегу, захлебываясь, они пробивались сквозь льдины. Незнакомый босой человек, добравшись до берега, не мог подняться на ноги. Половчиха узнала в нем Чубенко. Он совсем закоченел, в нем билось только горячее живое сердце, человека подхватили под руки. «Товарищи, – произнес с трудом Чубенко, – я плачу о герое революции, который вызволил меня из французской плавучей тюрьмы». И все пошли прочь от моря, а старая Половчиха осталась стоять на берегу, статная и суровая, как в песне.
В море видать опрокинутую шаланду, там утонул ее муж, Мусий Половец, немало он пожил на свете, зла она от него не видела, был заправским рыбаком на Черном море под Одессой, и всегда так случается, что молодое выплывает, а старое тонет. Из Дофиновки прибежал мальчик: «Бабушка, а деда Мусия не будет, тот дядька сказывал, что дед Мусий пошел под воду – раз и два и потом сгинул, дядька нырял за ним и ударился головой о лодку, и больше уж не будет деда Мусия».
Берег опустел, рыбаки ушли, и никто не удивлялся тому, что старая Половчиха не тронулась с места. Она справляла по мужу помин, трамонтан обдувал ее, точно каменную, шторм не унимался, льдины дробились одна о другую, на берег надвигался туман. Одесский маяк мигал то красным, то зеленым.
Половчиха думала о своей молодости в Очакове, когда она заневестилась, ее сватали владельцы трамбаков, не говоря уж о хозяевах шаланд, баркасов, моторных лодок, яхт! Она была славного рыбацкого рода, доброй степной крови, но женился на ней Мусий Половец, дофиновский рыбачок, неказистый парень, ниже ее на целую голову. Но такова уж любовь, так уж она сводит людей. Половчиха плечом к плечу стала с Мусием на борьбу за жизнь, и народили они полную хату мальчиков.
Мальчики росли у моря, и тесно стало в хате от их дюжих плечей, а Половчиха держала дом в железном кулаке, – мать стояла во главе семьи, стояла, как скала среди бурь.
Сыновья повырастали и разъехались кто куда, Андрий пошел в дядю Сидора – такой же лентяй и беспутный, а Панас привозил матери контрабандные платки и серьги, шелк и коньяк, Половчиха складывала все в сундук и дрожала за Панаса. Рожала она его тяжело, и Панас стал ей всех дороже, по ночам она выходила к морю, и ей все чудилось, что слышится плеск его весел и нужно спасать его от погони. А Оверко – артист, с греками в «Просвите» играл да книжки, написанные по-нашему, читал. Он на дядины деньги в семинарии учился, а рыбак был никудышний, но и его жалко, давненько и о нем не слыхать, и о Панасе не слыхать, и Андрия, должно быть, убили, – видела его во сне, будто венчался.
Один Иван на заводе работает да революцию делает, и Мусий винтовки прячет (даром что в Одессе французы). А есть и среди них наши люди, как-то за прокламациями приходили и Мусия до смерти перепугали.
Опрокинутая шаланда качалась на волнах, шторм бесновался без устали. Вдруг Половчихе показалось, что шаланда приблизилась. Шаланду к берегу волной прибивает, надо будет спасти, вытащить – и артель спасибо скажет, без шаланды рыбы не наловишь. Посудина приближалась неуклонно, настойчиво – пядь за пядью, минута за минутой.
Половчиха ждала шаланду, чтобы спасти артельное добро, она сошла к самой воде, волна окатила ее до колен. Шаланда медленно подплывала все ближе, ближе; вот уж слышно, как ударяются об нее льдины, уже видать просмоленное днище, и килевой брус торчит из воды. Волны перекатывались через черное, почти плоское днище, у Половчихи захолонуло сердце, за шаландой что-то плыло, вздувалось на воде какое-то тряпье.
Женщина глядела и боялась разглядеть, море в знак покорности перед нею, должно быть, прибивало к берегу тело Мусия Половца. Будет над кем поплакать, покручиниться, будет кого схоронить на рыбацком кладбище, где лежат одни женщины и дети, а мужчины только мечтают там лечь и ложатся в морскую глубь, под зеленый парус волны.
Половчиха всматривалась и боялась узнать, хотелось крикнуть, позвать своего Мусиечка, волны били ее по ногам, льдинки резали по икрам, шаланда подошла уже совсем близко. Она шла носом вперед, бурун перекатывал с грохотом камни. Половчиха хотела сначала вытащить посудину, а потом голосить над мужем, она уже различала в мутной воде его тело, сердце щемило, руки не чувствовали тяжести шаланды, и вдруг ее кличут. Она вскрикнула, это был голос мужа, такой усталый, такой родной.
«Артель наша бедная, – сказал муж, – бросать шаланду в море не приходится. Я – голова артели, вот и пришлось спасать, а Чубенко, должно быть, благополучно доплыл, он крепкий и упорный, никак не хотел плыть без меня, покуда я не нырнул под опрокинутую шаланду, а он все зовет да ныряет, все меня разыскивает».
Старый Половец встал на мелком месте с сапогом в руке, бросил его на берег и принялся возиться с шаландой. Половчиха ему помогала, свирепый трамонтан замораживал душу, берег оставался пустынным, его штурмовало море. На далеком берегу, сквозь туман, Одесса высилась, точно остов старой шхуны.
И чета Половцев направилась домой. Они шли, нежно обнявшись, в лицо им дул трамонтан, позади бушевало море, а они шли уверенно и дружно, как всю жизнь.
Батальон Шведа
Херсон – город переселенцев-греков, чиновничества, рыбаков, над раскаленными камнями улиц цветет липа, обильно, пряно, солнце греет по-южному, по-июльски, по-новому в этот пламенеющий девятьсот девятнадцатый год. Цветет липа, и пахнет необычайно, по улицам течет рекой, марширует алешковский партизанский отряд в составе двух босоногих сотен – батальон Шведа.
Ведет его молодой комиссар, товарищ Данило Чабан, липа цветет так буйно, так щедро, что весь город погружен в удушливое марево. За алешковцами четко марширует еще отряд матросов: в черных бушлатах, в форменных штанах, в башмаках, на затылках вьются ленты бескозырок. Впереди алешковцев, колотя изо всей мочи в тарелки, шествует гарнизонный оркестр, капельдудка размахивает палочкой; поправляя на носу пенсне, известный всему городу корнетист, связавший свою, судьбу с батальоном Шведа, заставляет трепетать местных Чайковских и Римских-Корсаковых и станет несколько позже героем.
Цветет липа, и каждое дерево – будто кипящий ключ, кружится аромат лип над Херсоном, пьянящий, пряный, впереди оркестра шагает сам командир босоногого батальона – товарищ Швед, алешковский морячок. На ногах позвякивают шпоры, длинная никелированная гусарская сабля гремит по мостовой, товарищ Швед, как и всякий моряк, мечтает о кавалерии и понемногу врастает в эту блестящую разновидность военного искусства.
О девятнадцатый год поражений и побед, кровавый год исторических битв и нечеловеческих побоищ, решающий по силе, несокрушимый по воле, упорный и трогательный, краеугольный и узловой, бессонный девятнадцатый год! Год обороны Луганска и мужественных походов на Царицын, год боев с французами, греками, немцами под Николаевом и Одессой. Год Сталина, Фрунзе, Ворошилова, Буденного, Чапаева, Щорса, и вот Херсон стоит под июльским зноем девятнадцатого года, его затопила липа, за Днепром – белые, Харьков, Екатеринослав, Царицын в руках белых армий, Херсон как полуостров во вражеском море, и полчища Деникина стремительно катятся на Москву. И еще не свершали своего прорыва под Касторной товарищи Ворошилов и Буденный, пока еще июль и херсонское пекло! Подымается даль великих сражений, безумствует пахучая, настойчивая торжественность херсонских лип. О клятый и трогательный девятнадцатый год!
И капельдудка размахивает палочкой вдохновенно и величественно, точно дирижирует всеми революционными оркестрами, дирижирует ароматом лип, и музыканты покорно дуют в свои медные страшилища. Товарищ Данило ведет батальон босоногих алешковских морячков, которые полегоньку да помаленьку вырастают в боевую единицу, всем им выдали по случаю этого дня зеленые брючки и рубашки старой армии, на желтых поясных ремнях – патроны, идут в ногу, твердо отбивая шаг.
Накануне товарищ Швед долго выбирал маршрут парада и приказал расчистить батальону путь через площадь, чтобы не лезли под ноги репейник, чертополох, курай и прочие колючки, чтоб не валялось под ногами битое стекло и чтобы можно было молодецки продефилировать церемониальным маршем перед старым большевиком-политкаторжанином, продефилировать, не глядя под ноги, печатая босыми пятками шаг. Алешковский батальон Красной гвардии старался показать, что умеет не только попросту драться с белыми, но и утереть кое-кому нос на гвардейском плац-параде.
Вот и марширует херсонский гарнизон во главе с товарищем Шведом, направляясь на площадь, где уже стоят на трибуне весь ревком и приезжий гость, полжизни проходивший в кандалах из тюрьмяги в тюрьмягу. И совершал он побеги удачно, а порой и неудачно, и легкие у него отбиты сапогами самодержавия, почки раздавлены прикладами, уши оглушены кулаками приставов, глаза близоруки от мрака казематов, а кости ноют от ревматизма и хорошей жизни на каторге.
Стоит он на трибуне, палит солнце, аромат лип веет над площадью, за Днепром смутно виднеются плавни и Алешки, над протоками и Конкой зеленеют камыши да вербы. На площадь вступает товарищ Швед, за ним гарнизонный оркестр, бархатное красное знамя и товарищ Данило во главе алешковского босоногого отряда, славного в боях, но не совсем натасканного плац-парадной муштрой.
Жители толпятся вокруг площади, разглядывают защитников революции, оркестр сверкает и гремит, горит и бряцает, палящее синее небо вздымается все выше и выше, становится голубее и прозрачнее.
Политкаторжанин произносит речь, призывая в бой за революцию херсонский гарнизон, из Алешек белые начинают обстрел Херсона шестидюймовыми орудиями, а зрители тем временем пускаются бежать по домам, чтобы укрыть от снарядов скотину. А парад идет своим чередом. Швед незаметным движением сбрасывает с пути острый осколок бутылки, алешковские партизаны маршируют как ни в чем не бывало, а приезжие из Николаева матросы вдруг почему-то разбегаются, хотя никто им этого не скомандовал, воет снаряд и разрывается недалеко от площади, матросы тут же падают куда попало.
Капельдудка, не растерявшись, шпарит польку-кокетку, и оркестр забывает за игрой про страх. «Смирно, орлы и гвардия!» – командует Швед и салютует, как умеет, саблей. Знойный день пропитан нагретой липой. «Ура гвардии!» – приветствует политкаторжанин. Он щурится, вдыхает чудный днепровский воздух, и разрывы снарядов представляются ему салютом свободы и жизни.
Алешковцы идут и терпеливо переносят колючки и орудийный обстрел, мечтают о сладком кухонном дымке, о шевровых сапогах белой офицерни, о сабле товарища Шведа и прочем боевом снаряжении.
Бомбардировка продолжается, снаряды бьют по улицам, по садикам, по домам, матросский отряд, смотав удочки, улепетывает по Говардовской к вокзалу. Там упомянутые матросы митингуют и требуют паровоз, чтобы махнуть домой. Впрочем, они вовсе не матросы, а николаевский сброд, навербованный за матросскую форму, непривычный воевать против пушек.
Их не громили и не разоружали, как этого требует фронтовой порядок, их не угоняли под стражей в тыл, потому что, собственно, не существовало и тыла. Их просто выстроили в казарменном дворе и начали с ними канителиться, потихоньку докопались до контры, желавшей большевиков, но не желавшей коммунистов и комиссаров, сыскали организаторов этого маскарадного отряда – офицеров с белым душком и продажных главарей налетчиков, специалистов по мокрому и по сухому делу, и этот матросский отряд изменил бы при первом удобном случае. Кругом пахло липой, был день неслыханных резонансов, батареи белых в Алешках то умолкали, то снова били по Херсону, а им отвечала единственная гарнизонная шестидюймовка.
Товарищ Данило стоял возле орудия и смотрел в бинокль на Алешки, там от снарядов горели строения, по улицам бегали матери с детьми на руках, матери израненные, дети окровавленные, он видел простертые к небу ручонки, – в ту сторону, откуда летяг неумолимые выстрелы, – видел многое такое, чего ни в какой бинокль не увидишь.
«По своим квартирам лупим, товарищ комиссар, – произнес, криво усмехаясь Даниле, бледный наводчик, – триста снарядов!»
Товарищ Данило поехал к Днепру, где готовили ночную экспедицию. Все дубы и шаланды, что привозили овощи из Алешек, Кардашина и даже с Голой Пристани, Швед осматривал сам, отбирал лучшие и нанимал, соблюдая необходимую конспирацию.
К вечеру обстрел затих, с плавней вернулись пароходики крейсерской службы: «Гром победы» и «Аврора» – когда-то буксиры, – «Дедушка Крылов» и «Катя», вдоль бортов – мешки с песком, пулеметы и отважная команда, а капитаны – заправские морские волки, хотя несознательные обыватели и прозвали их лягушатниками и жабодавами.
Вечер был ясен и по-июльски щедр, в июне лили обильные дожди, впрочем, хлебам это помогало мало, зато буйно разрослись травы да бурьян, рокотал подземными водами девятнадцатый год. Вечера ниспадали на Днепр – напряженные, вечера фиалковые, вечера черные, как смоль, и запахи воды, а в воде – отражение трепетных трав, и верб, и дыма.
Эти вечера напоминали товарищу Даниле его детство и юность, зарождалась боль, вырастал страх за свою собственную жизнь, запечатлевались слова ненаписанных книг.
Капитаны-лягушатники докладывали Шведу о корсарских дневных подвигах, на катер посадили несколько «клешников» из николаевского псевдоматросского отряда и повезли их в «штаб Духонина». А попросту говоря, повезли на «коц», чтобы шлепнуть где-нибудь на пустынном берегу Днепра за Херсоном, как значилось в приговоре трибунала. Сверху, из города, струились к воде вечерние запахи липы, пряные, жуткие, – запахи безумных экзальтаций.
Между Алешками и Голой Пристанью – Кардашинский лиман и Кардашин, которого, по сообщениям заднепровских баклажанников, белые не занимали, стоял только небольшой пост. Ночью можно захватить Кардашин и пойти фланговой атакой на Алешки, до рассвета подступить к городу, а там – выручай, Микола, угодник рыбачий. В самую глухую пору отчалило шаланд с тридцать, на передней – сам командир Швед, на задней – товарищ комиссар Данило.
Пересекли Днепр и поплыли по рукавам, между плавней тучами насели комары, кусали куда попало. Партизаны молча давили их на своих шершавых рыбацких и матросских шеях, давили на лицах, на разутых ногах. Товарищ Швед сидел на баке, зажав между колен свою гусарскую саблю. Время близилось к полуночи, потому что комаров стало меньше, лоцман вел шаланды Конскими Водами, через протоки, мимо ямин. Кряхтели лягушки, парило, шелестел камыш, плескала рыба.
О девятнадцатый год двадцатого столетия и месяц июль южной Херсонщины, непроглядные ночи, неоткрытые земли, босые колумбы! Сколько книг о вас еще не написано, какие драмы грохочут на земле революций, какие симфонии и хоры звенят в грозном воздухе, каких полотен еще не выставлено в академических залах, о неповторимый год великих людей угнетаемого и восставшего класса, о земля борьбы!
Товарищ Данило плывет в арьергарде десантного флота, выполняет приказ штабарма «произвести глубокую разведку», взяв курс на Кардашин, флот в темноте разрознился, люди батальона товарища Шведа с детства навострились плавать по ночам без компаса и лоций.
Сколько раз впоследствии, сидя ночами над листом бумаги и тщетно пытаясь схватить образ, ускользавший, точно силуэт рыбы за кувшинками, Данило тянулся руками и мыслью к этой июльской ночи, к чудесным ночам юности. А тем временем, обогнув лес камышей, шаланда выплывала на Кардашинский лиман.
И разверзлась перед ней бездна. Вереницы звезд на темно-синем небе, и Млечный Путь, звезды, как серебряная пыль, звезды, как бесчисленные огоньки, зеленоватые и красные, Плеяды, и Большая Медведица, и «Девка с ведрами» мерцали на безмерной высоте и колыхались в бездонной глубине, шаланда одна-одинешенька плыла в глубокой высоте лимана, тихо плескали весла. Огляделись – батальон Шведа бесследно исчез в ночном мраке плавней. Шаланда осталась одна.
«Отбились от ватаги, – гнусавит лодочник с провалившимся носом, – а тебе печенки отобьем, чертов баклажан, чтобы знал морской порядок; где их у черта найдешь, к кадетам в ручки заплывем». Из камышей прозвучал спокойный голос: «Ты, малец, правей держи, на ту вон вербу, там по рукаву и потрафишь на дорогу». – «Дед, а наших здесь не было?»
«Швед проплыл той стороной, – ответила темнота, – только не бросайте гранат, не то рыбу разгоните, черта лысого потом поймаешь, в Кардашине кадет не много, они вас под Алешками поджидают». – «Трогай», – скомандовал Данило.
Глухой голос рыбака растаял во мраке, поблуждав немного, отыскали рукав, кто-то пихнул лодочника кулаком под ребра, тот даже зубами щелкнул, бойцы налегли на весла, и спустя несколько минут среди полного безмолвия шаланда мягко коснулась земли.
Высадились на кардашинский берег, наткнулись на зарубленного кадета, поняли, что пир тут окончен, а гости, должно быть, отправились мыть руки, и всё без единого выстрела и крика. Наконец встретили живое существо, чуть не выстрелившее в них из нагана. Это оказался начальник красной заставы.
Товарищ Швед развернул батальон точно по уставу и повел его на Алешки, часа через два, может, доведет, а заставе приказано наблюдать и дать отпор контре, ежели она двинется с Голой Пристани через Кардашин.
«Говоришь, не догоним Шведа?» Начальник заставы был испуган и растерян. «Не успели мы с Шведом высадиться на берег и придушить контру, как наши шаланды все до единой поудирали в камыши, что мне делать?» Рассказав, что ему делать, Данило опять уселся со своими бойцами в шаланду и среди кромешной тьмы, какая наступает перед рассветом, поплыл в Алешки.








