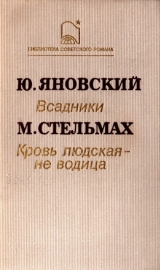
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
XII
На окнах, как черные птицы, распластались тяжелые, с бахромой платки, – пусть свет не проникает ни во двор, ни со двора.
На столе железная лампа, узкая бутыль с сизым самогоном и толсто нарезанное сало, – видно, не женская рука готовила ужин. А гости, кажется, пьют не самогон, а отраву – ни одной улыбки не вызывает на угрюмых лицах хмель.
Улыбается в светлице Созоненка лишь последний царь на портрете. Он хитроватыми, все понимающими глазами косится из-за спины Денисенка и не обращает внимания на холодный взгляд белогрудой, в жемчугах царицы. Такими глазами он смотрел и на деньгах, но царь давно в земле, а деньги его живы, правда, четвертные мужик берет неохотно, ему подавай теперь серебро да золото либо «катеринки», «петровки».
Сафрон Варчук задумчиво смотрит на царя и не знает – жалеть, что его нет, или гневаться? Царицу он давно уже ругал последними словами – все за Гришку Распутина, – а царя лаять не поворачивался язык, да и злости не хватало. Все-таки при царе он переселился на хутор, оброс земелькой, деньжат на черный день припрятал, на все село стал Сафроном Андриевичем. При царе он и в дворяне вышел бы, а теперь его только в насмешку голодранцы называют столыпинским дворянином. Да, до недавней поры не знал Сафрон, сколько бед падет на его умную голову. Легко было когда-то говорить: беден потому, что глуп, – а теперь и самый богатый может дураком стать. И тоска перемешивается в нем со злостью, как вода с землей.
За столом бушует подогретый хмелем Ларион Денисенко. Он поворачивает во все стороны свою обросшую колесом волос голову и кричит:
– Хозяева, мир погибает! Погибает и погибнет, потому что как заберут у нас землю, так все с голода опухнут!
От натуги в грубом голосе Лариона пробиваются козлиные ноты, и это забавляет одного только Сичкаря, который, кажется, веселее всех воспринимает весть о погибели мира.
Ему даже в это время приходят в голову непристойные мысли про жену Лариона Настю: эта хоть и глядит на всех навеки обозленными глазами, но привечает не одних только лохматых, – и он посмеивается в душе над Денисенком, который не видит, как жена с другими прыгает через плетень. Впрочем, и это нравится в ней Сичкарю: женщина с огнем, перцем и жадностью всегда лучше, чем покорная размазня.
Он украдкой окидывает взглядом присутствующих: не заметил ли кто у него в глазах блудливого, не ко времени, огонька? Вздыхает и начинает внимательно прислушиваться и приглядываться к тому, что делается в светлице. Вот он останавливает взор на печальном Супруне Фесюке. Над сухим, с глубокими глазницами лицом Фесюка нависает копенка переспелых волос; надменные складочки в уголках рта сейчас больше говорят о скорби. Он обхватил рукой острый подбородок и думает свою нелегкую думу.
Сичкарь недолюбливает Фесюка: тот хоть и выбился в настоящие хозяева, а все хочет жить по правде. В конце концов, если уж так тебе хочется повсюду правды, живи ею, только не суй нос в чужие дела! А Фесюк не раз подбивал людей поймать Сичкаря на краже леса. Думает – так легко его за руку схватить. И не догадывается, чудак, какую радость, какое удовлетворение может принести по-настоящему ловкая кража.
Дело даже не в деньгах, а в том, как ты схитрил, как вышел сухим из воды, обойдя все ловушки. Вот только зря в каталажку угодил. Но тут не ловкость, тут подвел гонор. Ну, да недолго уж сидеть! Снова взгляд его останавливается на Денисенке, и вспоминается Настя. Что за бесовская сила в ее злющих глазах!
После Денисенка шмелем загудел Данило Заятчук; его грубо вытесанная голова только до половины обросла волосами, а уже от висков идет голая, как коленка, лысина. Ну прямо недоделанный Денисенко: у того целое колесо вокруг головы, а у этого полколеса.
– Советская, можно сказать, власть нашим хозяйским хлебом живет. А чем она будет жить, когда наша земля попадет тем голодранцам, которые и сами ею не прокормятся, потому – голодные? Что означает такая власть? А означает она – дери, бери да назад не ворачивай. Словом, коммуна: кому – на, а кому – нет. Вот я и думаю: не одну власть мы пережили, переживем, даст бог, и эту, потому – не сможет заграница отдать Украину Мирошниченкам, загранице Украина, как пасхальная писанка, нужна, заграница ей – богатая родня. Вот как я думаю!
– Завтра у нас землю отбирают, а он до утра завел про свою заграницу! – поморщился Созоненко. – Ты говори, добрый человек, что нам сейчас-то делать.
– А что ж теперь делать? Взять топоры и стать стеной возле своей земли, а то так ее обчекрыжат, что не оставят и клочка, чтоб земной поклон положить. Стало быть, остается одно – рубить! Всякого рубить, кто ни подойдет.
– Глупый поп, глупая у него и молитва, – не выдержал Яков Данько. – В бороде уже гречиха цветет, а в голове и под зябь не пахано. – И он постукал себя пальцем по лбу. – Рубанешь одного, а они всем селом навалятся, дадут сколько влезет, а потом отправят туда, где козам рога заправляют.
– Все равно надо рубить! А как же иначе? – упрямо махнул волосатой рукой Заятчук и обернулся к Даньку: – Ты как хочешь, а я уж и топор навострил. Мирошниченку первому в голову засажу по самый обух.
– Вот это уж поумнее! – Данько кивнул пышноволосой головой, а Фесюк поморщился. – Бить – так уж бить, только в сердцевину! А что нам даст, если мы развалим голову какому-нибудь Поликарпу Сергиенку?
– Только сделаем из него советского мученика, с флагами на кладбище снесут, как ему и не снилось, – осторожно вставил Сафрон Варчук: он предпочитал оставаться в стороне от споров.
Созоненко взял со стола бутыль с самогоном, взболтал, и Сичкарь заметил, как со дна дымком поднялся целительный отстой «христовой слезы». Даже крякнулось человеку: до чего же пользительное зелье!
Молча выпили, потянулись жирными руками к салу, а Фесюк и закусить позабыл. Тяжко, ох как тяжко доставались ему десятинки! Другие получали наследства, другие плутовали, продавали душу черту, а он понадеялся на свое здоровье, на свои руки и самолюбие, он не продал черту душу, но чуть ли не всю силу свою заложил в Крестьянский банк. И в глаза и за глаза смеялись над ним те, с кем он сегодня пьет и горюет в ужасе перед завтрашним днем. Отгоняя дурные видения, он тряхнул копенкой переспелых волос, зажал в горсти острый подбородок.
А Заятчук снова заводит про заграницу и про то, что богатая родня поможет бедному Петлюре.
– Не бедный он, а обманщик! – с сердцем выкрикнул Денисенко и этим развеселил Ивана Сичкаря.
Когда петлюровский министр финансов Мартос издал приказ об обмене всех денег на гривны, недалекий Денисенко один из первых понес в Каменец-Подольский банк свое золото и царские бумаги; он привык, что власть есть власть и ее надо слушаться. Но из Каменец-Подольска он принес даже не гривны, а одни только расписки. Потом иные ограбленные богачи пострелялись, а он с отчаяния повесил в овине вожжи и полез в петлю, – насилу жена и родня вытащили и отходили его.
Во дворе залаяла собака, и все примолкли, подняли глаза на завешенные окна.
Но собака, верно, просто тявкнула на луну и замолчала.
– Поздний час, – ни к кому не обращаясь, проговорил Сафрон Варчук, надеясь этим замечанием подогнать тех, кто должен был сказать главное, и посмотрел поверх голов на божницу, где из-под перемятой фольги прислушивались ко всему, что тут говорилось, молчаливые боги.
– Что же будем теперь делать, люди добрые? – вырвалось у Созоненка. – Не возьмем греха на душу – пропадем, как мыши. А греха этого, ежели подумать, немного и будет: село запугано, и никто не знает, что станется через несколько дней. Одно надо: избавиться от Мирошниченка.
– И от Степана Кушнира! – прибавил Данько. – Он хуже Мирошниченка, злее!
– А Тимофия Горицвита на расплод оставить? – удивился Сичкарь и решительно поднялся над столом. – Утихомирим эту святую троицу, и никто не полезет на нашу землю! – Сырой румянец заливал ветряные лишаи на полных щеках богача, челюсть обвисла в злобной гримасе.
Все притихли, не дыша слушали Сичкаря. И он выставлял напоказ свою смелость, которую никогда не обнажил бы осторожный Сафрон, хотя его и радовала решимость Ивана.
– Нечего нам долго лясы точить! Надо сейчас же вырывать свою погибель с корнем. А как ее выкорчевать? Я беру на свою душу Мирошниченка. Сам беру, чтобы тише было. А вы возьмите Горицвита и Кушнира. Поделитесь между собой! И еще до утра божьего мужики отшатнутся от нашего добра: тяжелым им оно покажется.
– Будь по-твоему! – стукнул кулаком по столу Яков Данько. – Я с Денисенком наложу руки на Горицвита. Пошел бы к Кушниру, да люди видели, как мы сцепились на улице… Господи, помоги нам! – Он глянул на образ спасителя, державшего в руке землю, поклонился ему и перекрестился, чувствуя, что в груди все обрывается.
Но не успел еще Данько оторвать щепоть от живота, как с лавки тяжело поднялся Супрун Фесюк; надменные складочки вокруг его рта тревожно дрожали.
– Делайте, люди, как знаете, только меня в свою компанию не тащите. Не по моим силам это делать. За чапыги я брался, а за обрез – не возьмусь. Не злобою мир держится. Будьте здоровы!
Первым к нему кинулся Сафрон Варчук.
– Ну, где это видано, Супрун? – закричал он, вырывая у Фесюка шапку. – Чего люди выпивши не скажут, когда их за живое возьмет? Это же только слова, полова. Ну, кто из хозяев убьет бедного человека? Что у нас – нет бога в душе и детей в хате? – Черное клиновидное лицо Сафрона побелело от волнения и затаенной злобы: нашли же кого позвать в честную компанию! Теперь с ним лиха не оберешься.
Созоненко многозначительно подмигнул другим гостям, и все, кроме разгневанного Сичкаря, засуетились вокруг Фесюка. Но тот уперся:
– И говорите и делайте что хотите, а я пойду домой. – Его глаза, налитые болью и тревогой, не могли смотреть на суетившихся вокруг людей.
– Ну и пусть идет, черт его дери! – не выдержал Сичкарь. – Чего вы цацкаетесь с ним, как с путным?
– Вы не бойтесь, я никому не скажу, но сидеть больше не могу. – Все еще оправдываясь, Фесюк неверными шагами направился к порогу.
За ним вышли встревоженный Созоненко и Сичкарь. Воцарилась гнетущая тишина.
Когда во дворе хлопнула калитка, первым с горечью заговорил Сафрон:
– Все, про что мы говорили, пошло кобыле под хвост. Надо другую думу думать. Принес же его черт! Что будем делать, хозяева?
Но хозяева теперь ждали его слова.
У калитки Созоненко попрощался с Фесюком, а Сичкарь вызвался немного проводить его.
Эти проводы не очень обрадовали Супруна, но он ничего не сказал. Шли молча, волоча за собой по улице тени, которые бились головами о чужие тыны.
– Так, Супрун, и отдашь свое кровное задаром? – спросил наконец Сичкарь, подняв круглую голову и пожирая Фесюка презрительным взглядом.
– Так и отдам! Всякая власть от бога, – не глядя на него, ответил Супрун.
– Теленок ты! Какая же это власть от бога, когда она бога не признает? – У Сичкаря отвисла тяжелая челюсть. – Такую не грех и скинуть.
– Так чего ж ты тогда в кутузке поселился? Селись в лесу с бандитами! – обозленно бросил Фесюк, но тут же понизил голос: – Ступай-ка ты от меня, не мути душу, она и так едва в теле держится.
– Ну и держи душу в обеих горстях, а земля пускай сквозь пальцы утекает. Ты гляди, молчок! – подсек напоследок Сичкарь и, не прощаясь, свернул в боковую улочку. Он раздумывал: вернуться ли на совет к Созоненку или хоть на минутку забежать к Насте?
У двора Денисенка Сичкарь слегка свистнул, на знакомый свист от овина, скуля, отделилась собака. Он еще поколебался: стоит ли в такую ночь про баб думать, но чего там совеститься – однова живем! Он перелез во двор, подкрался к боковому окну, тихонько постучал в раму.
В хате послышался вздох, шорох, потом на крыльце загремела щеколда, и высокая Настя в одной юбке, накинутой поверх сорочки, потягиваясь, вышла на порог.
Сичкарь припал к ее губам.
– Бешеный! – вздохнула Настя, изгибая тонкий стан. – Увидят!
– Кому теперь взбредет в голову на улицу выйти…
Сичкарь хмелел от ее губ больше, чем от самогона.
Настя обвела долгим взглядом улицу и огород, охнула и крепко обняла гостя.
XIII
Всегда занятому Супруну Фесюку некогда было любоваться природой, но и он знал, что лучше всего село выглядит при луне. Солнце было ласково к воде, к деревьям, к цветам и девичьей красоте, но оно безжалостно выставляло напоказ, а то и на посмешище по-кротовьи подслеповатые халупы, заваленные навозом дворы. А луна жалела и обитателей халуп, она так играла светом и тенью, так ворожила над какой-нибудь лачужкой, где на крыше гордо возвышался в гнезде аист, что больше верилось в человеческое счастье, чем этого счастья было на земле.
Но в эту ночь Супруну село показалось страшным: тихое, забытое людьми, оно смахивало на погост, и луна кадила над ним холодным болезненным светом. Озаренный этим светом, он шел как лунатик, глядя в землю, и думал о земле. Он по капельке, по ломтику отдавал ей всю свою молодость, всю свою силу, а она по бороздке, по четвертинке, по полдесятинке скапливалась у него, радовала и возвышала его в собственных глазах.
А как тяжело начиналась его охота за землей! Во все стороны кидался человек, чтобы раздобыть копейку, ходил на заработки и в Таврию, и в Крым, и в Одессу, и в Бессарабию. И вдруг счастье принесла ему спокойная и крепкая, как орешек, Олеся.
Он встретил ее в осенний престольный праздник в соседнем селе. До вечера пьяное село гуляло возле церкви, до вечера он все ходил вокруг да около и, видно, не надоел девушке. А вечером, когда над тополями прорезался тонкий молодой месяц, Супрун пошел следом за Олесей к ее хате у самого выгона, где на приволье паслись краснолапые гуси. От хаты потянуло на него таким диким смрадом, что он удивленно уставился на девушку, а та покраснела, опустила голову.
– Отец мой – кожевник, шкуры дубит… – еле слышно, чуть не сквозь слезы, объяснила она.
– Вот и хорошо! – обрадовался Супрун. – Стало быть, оказия. Мне как раз надо на подошвы. Может, найдется у отца? – Он уже с любовью глядел на ее смущенное лицо.
– Наверно, найдется. – Девушка еще больше покраснела, догадываясь, куда клонит этот глубокоглазый, со стожком переспелых волос парень.
В хате, пока старый Омелян метал перед ним подбрюшные, нутряные и шейные заготовки, Супрун едва не задохнулся, – тут же, в полу, были вкопаны дубильные чаны и зольник. Как можно было жить в такой хате, да еще спать на полу? Казалось, переспи тут одну ночь – и голова у тебя превратится в такой же вот чан. Но семья Олеси не обращала внимания на запахи сыромятной и дубленой кожи и дубильного раствора.
Супрун, не торгуясь, купил половину добротной кожи, но сказал, что зайдет за нею в другой раз, а то неловко возвращаться с престольного праздника с покупкой. Так он и зачастил в семью кожевника, а со временем привык к скверному запаху и выучился обрабатывать воловьи, конские и козьи шкуры.
В кожевенном ремесле, где все делается на глаз и на нюх, Супруну повезло: ему равно удавалась белая и черная юфть, на коже не оставалось живцов, и красный сафьян сиял нежным, текучим лоском – его сразу же вырывали из рук ярмарочные перекупщики и сапожники.
Постигнув до тонкости ремесло старого Омеляна, Супрун забрал у него дочь, справил простенькую, непышную свадьбу и стал лучшим кожевником в волости. Чуть ли не все свое достояние он бухнул в постройку дубильни, где можно было вырабатывать тридцать – сорок кож, сам натуго обшил досками яму для замочки на краю огорода, сам сделал зольники, чаны, ступу, а скребок и штрихель принесла из дому Олеся. Супрун, смеясь, назвал этот инструмент «жениным приданым» и со всей самоуверенностью юности взялся за работу.
То были дни его великих надежд. Он не продавал черту ни души, ни шкуры, а сам обдирал шкуры с падали, брал их в долг и так становился на ноги, в смраде коровьей крови и дубовой коры, в грязи от мездры и произвесткованной шерсти.
Дубить он умел на славу, однако ненавидел это ремесло всем своим земледельческим сердцем. Не грязь дубильни, а золотой и зеленый сафьян полей видел он перед собой, когда готовил на продажу разноцветные кожи. И они принесли ему сперва хлеб и кое-что к хлебу, а потом и землю. Он дневал и ночевал на поле, летом и обедал, опершись на косье, и жене отдыха не давал. Она у него на лугу, под стогом, и сына родила; истекая кровью, перегрызла пуповину, а он растерянно постоял у телеги, потом, чтобы не ехать порожняком, догрузил воз, затянул рубель и осторожно подсадил родильницу наверх. Так он впервые взял жену на руки…
Только теперь Супруну становилось понятно, как тяжко он мучился и как мучил непосильной работой жену. Мучил даже при батраках и батрачках, потому что уже завертелось его хозяйство чертовым колесом, а он и жена стали в этом колесе только послушными спицами. И вот кто-то одним ударом разбил это колесо, разметал и обод, и спицы, и ступицу. А земля, которую он годами сшивал из цветного сафьяна и юфти, переходила в чужие руки, и он оплакивал ее, и крупные слезы скатывались прямо в душу.
Один бог знает, как тяжело ему лишаться своих богатств. Но он не возьмет в руки топор – руки у него для работы, а не для убийства. Только почему его поставили в один список с Варчуком и Созоненком, Денисенком и Сичкарем? В былые годы, когда он только еще становился на ноги, они звали его шкуродером. Но ведь он драл шкуры со скотины, а они – с людей, он кормил своих батраков хлебом, а они – цвелью да слезами, он никогда не нарушал слова ни перед большими купцами, ни перед последним батраком… Так почему же и с ним новая власть не может хоть поговорить по-людски? Стало быть, записали на бумагу – и конец твоей судьбе?
Он, как чужой, подходит к своему просторному двору, отворяет глухую калитку, навстречу с темных бревен поднимаются Олеся и Гнат. Сынок ростом уже догоняет мать. Все трое молча сходятся посреди двора. Первым, не поднимая головы, нарушает молчание Гнат.
– Что там решили? – Он показывает рукой в сторону, откуда пришел отец.
– Ничего не решили, – отвечает Супрун, дивясь, откуда сын знает, что он идет от Созоненка.
– Побоялись, что ли? – Сын поднял тяжеловатую для подростка голову. И там, где у отца под усами горделивая линия рта, у сына скользнула недобрая улыбка, и он прикрыл ее рукой.
– Цыц! – Супрун огляделся по сторонам. – Я оставил это сборище, первым домой ушел.
– И зря оставили. Дом не убежал бы и через час.
Сын снова поднял голову, с вызовом посмотрел на отца. Глаза его, колючие, так же глубоко посаженные, как и у Супруна, потемнели от злого упорства.
Супрун видел только эту тьму и не различал за нею глаз сына.
– Ты когда это научился так с отцом разговаривать? – хмуро спросил он.
Однако и это не остановило парня, рот ему кривили не по летам зрелая злоба и неукротимость.
– Когда бы ни научился, а от людей в такое время бежать не надо!
– А ты знаешь, что эти люди готовы убивать?! – едва сдерживая гнев, проговорил Супрун.
– За землю и убивать можно, – твердо проговорил сын, повторяя чьи-то слова. – Она святая.
Супрун на миг оторопел, а потом дал Гнату оплеуху.
– Молчи, сукин сын! Ты откуда, падаль, знаешь, что такое земля и дороже ли она человеческой крови?! Сперва заработай ее, надорви на ней жилы! От Карпа Варчука погани набрался? Я у тебя это дикое мясо огнем выжгу!
Он размахнулся второй рукой, но на ней повисла его молчаливая Олеся.
Успокойся, Супрун, успокойся, дорогой! Дитя неразумное, сболтнуло с чужих слов…
А «дитя» выплюнуло на ладонь кровь, посмотрело на нее, а потом недобро покосилось на отца, отвернулось и, бормоча под нос, зашагало к овину. Ворота овина так хлопнули, что у колодца зазвенела защелка журавля.
В кого только уродился его сын? Кто посеял у него в сердце такую злобу? Ни своей упорной, трудолюбивой, ни Олесиной ласковой крови не чувствовал в нем Супрун. Эх, трудней всего с детьми, которые с колыбели богато живут! Им неведомо, что такое насущный хлеб, размоченный потом.
– Вырастили сынка, хорош! – Супрун поднес руку к глазам. – Такой и земле в тягость.
– Варчуков сорванец возле него целый день вертелся, тот и святого на подлость подговорит. – И Олеся бережно, как ребенка, увела мужа в хату.
В сенях Супрун почему-то повернул на ту половину, где у них была дубильня. В долгие годы войны он изредка брался за свое старое ремесло, чтобы изготовить себе и соседям кожу на обувь или на упряжь.
Луна заглядывала в дубильню, освещала зольник, чаны, мешки с золой и козлы, на которых висела неочищенная шкура.
Супрун вместе с женой сел на самодельную скамью, и Олеся прижалась к нему, как в тот день, когда они, полные надежд, впервые сели в своей дубильне. Это был не совсем еще ясный, но надежный рассвет их жизни. А теперь ночь смотрела в их налитые тоской и страхом перед неизвестностью глаза. Супрун твердо положил руку на плечо Олеси. Что ни говори, а жену ему бог послал будто ясный денек.
– Что же теперь будем делать, Олеся? – спросил он, впервые в жизни советуясь с нею.
И она, его тихая тень, его смущенная улыбка, его печальная думка, тоже впервые в жизни принялась его утешать.
– Жили мы, Супрун, на двух десятинах, жили и на пяти, стало у нас десять, а потом и за двадцать перевалило. Так что ж мы – не как все люди?! На норме не проживем?
– Да разве человеку норма нужна? Я хотел, чтобы ты у меня на старости лет княгиней жила.
– А может, обойдемся без княжества? – грустно улыбнулась Олеся, не зная, не остановит ли ее вспыльчивый муж: у него для порядка жена приучена молчать. – Побывала я раз на веку княгиней, и будет с меня.
– Когда же это было? – спросил он, не сообразив.
– А когда ты князем был, на свадьбе у нас. Помнишь тот день?.. Тогда небо хмурилось и прояснялось, и дождик пролился на землю, как солнечный сок…
– Да, тогда солнце светило.
Супрун поглядел на луну. Как давно это было! Ему вспомнился свадебный двор, бояре, дружки, невестины подруги. И снова на глаза надвинулась мгла.
– Не могу, не могу, Олеся, без своей земли, она уже небось и в сердце набилась. Как мы мучились над ней!
– Мучились, Супрун. И кто его знает, надо ли было? Может, когда-нибудь дети или внуки посмеются над тем, как мы жили, гоняясь за богатством.
Он с удивлением взглянул на свою тихую жену: она ли это говорит? Когда же она этому выучилась?
– Смеяться будет только тот, кто земли не понимает, кому все равно, колос ли над нею покачивается или бурьян цепляется за грунт… А новая власть понимает землю?
– Должна бы понимать, раз хочет, чтобы у каждого мужика был надел, – снова нашла неожиданные слова жена.
– Раздать землю – то меньше половины дела. А вот понять землю – это потруднее. – Супрун подумал и вдруг встал. – Пойду-ка я к Мирошниченку, спрошу его, понимает новая власть землю или нет.
– Может, завтра пошел бы? – поднялась вслед за ним и Олеся и потянулась руками к его плечам. – Чего ночью людей будоражить?
– Нет, сейчас пойду. Не могу я иначе, не могу – так и печет в груди.
Олеся знала, что отговаривать его бесполезно. Молча, как тень, проводила его до улицы и долго жалостно смотрела, как он уносил в глубь ночи свое сильное тело. Не легко, не хозяйкой, батрачкой прожила она у него. Из-за проклятого богатства подурнел Супрун и лицом и душой, из-за денег враждовал не только с людьми, но и с богом: на что господь столько праздников дал? Однако Супрун ни разу не ударил ее, ни разу не пошел к другой и перед людьми не лаял, только хвалил, – а это походило уже на женское счастье.
Супрун не постеснялся-таки разбудить Свирида Яковлевича и, когда тот вышел из хаты, попросил его присесть на завалинку, расшитую тенями вишен.
– Давно ты не бывал у меня, Супрун. – Мирошниченко вглядывался в измученное думами лицо гостя.
– Не пристало кулаку к партийному идти, – ответил Фесюк, забыв спросить, понимает ли новая власть землю: свое больше болело. – Хотя, как подумаешь, не всегда я был кулаком.
– Не всегда, – согласился Мирошниченко. – Я еще хорошо помню, как вы с Олесей выгоняли первый воз кож. Тогда и я к вам частенько заходил, сам перенимал кожевничью науку.
– А помнишь, как у нас горели пальцы, как с них шкура слезала, когда мы с тобой вымывали шерсть, настоянную в извести?
– И это помню, Супрун. Проклятая была работа!
– Не всякий кожевник гнался за такой шерстью. Ну, а теперь ты приравнял меня к Варчуку и Сичкарю. Так что мне делать – брать обрез и убивать тебя?
– А это уж, Супрун, как тебе совесть подскажет, – спокойно ответил Мирошниченко. – Если она за годы твоего богачества стала комом грязи, бери обрез и ступай убивать людей. Большое богатство всегда с этого начинается или этим заканчивается.
За короткое мгновение Супрун перебрал в голове с десяток известных ему в уезде богачей и подумал, что слова Свирида Яковлевича многим из них не в бровь, а в глаз.
– А мое, Свирид, богатство с правды, с кровавых мозолей, а не с паскудства начиналось, не паскудством и кончится. Я-то свою землю честно заработал?
– Не всю, Супрун.
– Как – не всю?
– Ту, что ты заработал, – честно заработал. Эта твоя земля чиста, как солнце. А про ту, что для тебя батраки зарабатывали, – прости, но скажу так, – на тех нивках чужой пот поблескивает.
– Я же батракам работу, хлеб давал.
– А Варчук по-другому скажет? То же самое. Вот в этом и сошлись вы на одной дорожке.
– И в одном списке нам судьбу записали?
– Список, Супрун, один, – заметил Мирошниченко, начиная понимать, о чем тревожится Фесюк, – да не одно думают люди про тебя и про Варчука.
– Спасибо, Свирид, и за то. Тебе, как партийному, можно и поверить – вы нашего брата не больно почитаете. Н у, а что же мне дальше делать? Землю-то заберете?
– Заберем.
– Страшный ты, Свирид, человек: в глаза все говоришь. В глаза-то хоть ложью бы утешил.
– Ложь, Супрун, и впрямь немалая утеха, – помолчав, проговорил Мирошниченко, думая о лжи в мировом масштабе: всю землю оплела она, правдой вырядилась, нелегко будет людям выдирать ложь из мозгов, из протертых коленями храмов. – Может, Супрун, я тебя правдой утешу?
– Правдой, ежели много ее, тоже можно невзначай человека убить.
– А в революцию, Супрун, ничего понемногу не бывает, кроме хлеба.
– Ну, спасибо, утешил, полегчало! – Под губами у Фесюка дрогнули морщинки. – И знаешь как полегчало? Сдавили тебе петлей шею, так что глаза на лоб полезли, а потом чуток отпустили ее – глотни, бедный человек, воздуху. Хорошее облегчение?
– Глупости говоришь, – нахмурился Мирошниченко. – А мне кажется, ты сам своим богатством все больше затягивал на себе петлю. Что тебе дало богатство? Землю и деньги! А что оно отняло у тебя? Отняло твой веселый смех, искалечило твою добрую душу, истощило щедрость. Прежде ты не раз угощал меня яблоками, купленными на ярмарке на трудовые медяки. А развел большой сад – злыми собаками от людей отгородился и сам набивал патроны солью да резаной щетиной. На кого ты готовил соль и резаную щетину? На врага? Нет, на детский задок да спинку, – жаль тебе стало яблок для малышей, свои, не купленные яблоки стали для тебя дороже детской крови. С ярмарки ты яблоки как человек приносил, так почему же ты возле своих яблок, прости меня, псом становился? Это твое богатство делало. Я против тебя злости не держу. Мне жаль тебя. Ты человек умный и гордый. Мы оставляем тебе целых десять десятин твоей прежней земли. Неужто тебе для трех душ больше надо? Или, может, тебе надо, как царице, есть не простые галушки, а золотые? Вылезай из своей петли, поживи хоть немного не для богатства, а для семьи, возьми да купи хоть теперь своей Олесе цыганские сережки. Помнишь, лет двадцать назад она со слезами на глазах просила их у тебя, а ты рассердился, обозвал ее скверными словами, а сережек и до сей поры не собрался купить…
– Въелись тебе эти сережки в печенку! Я бы на твоем месте поменьше потакал бабьим прихотям, а то сам бабой станешь… Послушал я тебя, Свирид. Все говорят – за словом в карман не лазишь. При новой власти ты уж не станешь волам хвосты вертеть, выйдешь в начальники. И может это погубить тебя, как меня богатство. Ну, скажи еще одно: сегодня вы раскулачили меня, ну, а не захочется вам это и завтра сделать?
– Будут у тебя батраки, – все может статься, не поручусь.
– Значит, послушаться тебя, Свирид, так все надо начинать заново?
– Если сможешь начать…
– И то верно, – кивнул головой Супрун и недоуменно посмотрел на Мирошниченка: а чем же, мол, ты живешь? Партия, конечно, партией, а с экономии надо было брать корову, а не луковицы георгинов. В святые все равно не попадешь – коммунист!
И вот они расходятся, унося с собой нелегкую путаницу мыслей и соображений, не зная, как встретятся поутру, как повернется завтра их жизнь.
В человеке всегда великое соседствует с малым, и мысли его похожи на свежеобмолоченное и неотвеянное зерно, где перемешаны хлеб и полова. Так сейчас и с Фесюком. Идет он по дороге, до боли в голове думает о земле и черт знает о чем еще. И вдруг, увидав мерцающий огонек у заядлой самогонщицы Федоры Куцой, поворачивает к ее вдовьему двору.
На его стук из хаты испуганно выскочила хозяйка.
– Кто это? – спросила она с порога.
– Отвори, Федора! Это я, Супрун.
– Ой, батюшки! Неужто вы?! – обрадованно воскликнула вдова, отворила сени, засмеялась. – Такого гостя никак не ждала! Спасибо, что не побрезговали нами…
Федора засуетилась вокруг него и, задевая сборчатой юбкой, повела в хату, где за столом тупо пропивал свою дань с кулаков Кузьма Василенко. Он тоже изумился, увидав Супруна, хотел подняться, сострить, но ни язык, ни ноги уже не слушались его.
– Нагрузился, – кивнула очипком в его сторону Федора. – Вам первачка с огнем или паленухи с дымком? – Быстрые глаза и полные губы вдовушки заиграли в улыбке.
– Я, Федора, к тебе, пусть это будет между нами, не по такому делу… – замялся Супрун.
Федора насторожилась, загадочно улыбнулась, покосилась на Кузьму и руками подперла груди. Их белые краешки выглянули сквозь прорезь сорочки.
– Прямо и не знаю, что такому дорогому гостю надо? – понизив и без того низкий голос, проговорила она, и Супрун только теперь увидел, как по-бесовски соблазнительны ее налитые румянцем щеки, какая сладкая улыбка дрожит на ее полных губах.
– Мне, Федора, сережки нужны. – Он покрутил пальцем возле уха. – Тебе ведь люди всякое добро таскают. Может, и такая цацка найдется?
– Золотые вам? – уже ровным голосом спросила Федора и погасила улыбку в глазах.
– Какие ж еще! Ясное дело, золотые, – сказал Супрун так, словно никогда и не покупал других.
– Поищу для вас. Ради того, что первый раз заглянули.
Она выбежала в светелку, заперлась там и принялась стучать чем-то.
В это время заскрипела сенная дверь. Супруна так и передернуло: не больно-то ему хотелось попасться кому-нибудь на глаза у Федоры Куцой. На пороге появился босоногий, с длинной, как дыня, головой подросток в изодранном картузе, из-под которого торчали давно не стриженные вихры. Вот он увидал за столом Василенка, потихоньку подошел к нему.








