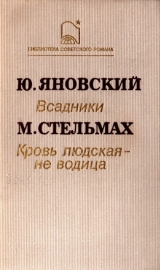
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
XVI
Под недовершенным сводом вековых лип серой лентой в спорышовых каемках тянется старый чумацкий тракт. Время давно уже выело сердцевину деревьев, и в дупла вселились рои одичавших пчел или влюбленные пары лесных голубей. Бывает, что из трухлявого отверстия, как из черного рукава, выглянет и проржавленная голова совы, но об этой нечисти Свирид Яковлевич всегда думал неохотно – он любил природу в ее красивых и могучих проявлениях. Бывали времена, когда в подольских лесах меньше водилось всякой погани, а пчелы носили мед прямо на землю, ибо не хватало им ни дуплистых деревьев, ни бортей. Недаром старые люди передают, что возле местечка Меджибожа[11]11
Меджибож (Каменец-Подольская обл.) – упоминается уже в летописях XII века. Знаменитый меджибожский замок и крепость не раз принимали на себя удары татар и турок. (Примеч. автора.)
[Закрыть] пчелы однажды не пустили в лесные села и выселки татар: те, не зная дорог, поехали наобум по роям земляных пчел, и насекомые дождевой тучей обрушились на врагов и их коней.
Мотоцикл сердитым зверьком подпрыгивал на тракте, по обе стороны которого тянулись дубовые леса. Здесь даже на высоких обочинах, рядом с липами, выросли вековые дубы, устлавшие желудями ровно четыре версты дороги. Из глубины дубравы веяло запахами диких яблок, увядшей зеленью валерьяны, гниловатым брожением прелой листвы и грибной влажностью.
Дубовые рощи больше всего нравились Мирошниченку осенью. Весной они долго не зеленели – стояли голые сверху донизу, – потому что ни белый колокольчик подснежника, ни желтый первоцвет, не белые, ни алые, ни пурпурно-лиловые соколки не пробивались сквозь жесткую лиственную подушку. Только незавидный цветок гусиного лучка одиноко торчал на этом кладбище листьев. А осенью дубы хороши были – и в дни медного созревания желудей и позже, когда желтели и краснели их курчавящиеся листья.
На обочине зачернели дымчатыми капельками ягод кусты терна, и сразу вспомнились дети, которые собирались идти сегодня в лес. Как там они? Невольно вздохнулось, мысли снова вернулись к селу, и стало несказанно жаль, что не он наделяет односельчан землею. И среди этих мыслей запуталась еще одна: ведь он забыл что-то сделать. И только у самого въезда в город Свирид Яковлевич вспомнил: не сказал Горицвиту, чтобы тот отмерил Марийке Бондарь чуть больше земли.
«Теперь прокляпет все мои косточки», – с улыбкой подумал он о нраве Бондарихи, которую неведомо как терпит Иван.
Замриборщ залихватски остановил мотоцикл перед главным входом у исполкома, напугав двух оседланных лошадей, подгрызавших зеленоватую кору молодого дерева, к которому их привязали. Свирид Яковлевич нахмурился, увидав такую бесхозяйственность: «Нашли коновязь, умники». Он подошел к дереву, отвязал лошадей и подвел их к потемневшему плетню. Не успел он затянуть ременные поводья, как его окликнул с крыльца вестовой.
– Скорее, скорее, товарищ Мирошниченко! – кричал он, размахивая обеими руками. – Вас дождаться не могут!
– А что там? Пожар? – осведомился он, поднимаясь на крыльцо. – Или банда напала?
– Не банда, а товарищ Кульницкий, – понизил голос вестовой. – Разнес всех в щепы.
Свирид Яковлевич поморщился – он недолюбливал падкого на блестящие речи, вылощенного Кульницкого, называл его в душе краснобаем и франтом с Молдаванки. Встреча с этим начальством не обещала ничего приятного…
В комнате Ивана Руденка, заместителя председателя уисполкома, было сине и сизо от табачного дыма. «Разнос», очевидно, закончился, потому что все уже стояли, одни собирались идти в свои отделы, другие толпились вокруг смуглого, с красивым хищным носом Кульницкого. На узком лице его смешались выражения неудовольствия, пренебрежения и снисходительности. Весь он был, как в панцирь, затянут в черную кожу: на плечах лоснилась кожанка, от которой несло касторкой, галифе спереди и сзади щедро подшиты хромом, на голове такая же фуражка, на ногах лакированные сапоги.
«Вот такими и рисуют враги коммунистов», – недоброжелательно думал, разглядывая картинную фигуру Кульницкого, председатель Новобуговского комитета бедноты.
– А, вот и Мирошниченко! – улыбнулся ему невысокий Иван Руденко, и вокруг его носа шевельнулись потревоженные улыбкой оспинки.
Кульницкий резко обернулся к Свириду Яковлевичу, смерил его воинственным взглядом и холодным, прокурорским тоном спросил:
– Товарищ Мирошниченко, вы почему опоздали? – И, не ожидая ответа, задал другой вопрос: – В Новобуговке уже разделили землю?
Вопрос ошпарил Мирошниченка словно кипятком. Что кроется за ним? Выговор за медлительность или что похуже? Он краешком глаза покосился на Руденка, стоявшего как раз за плечами Кульницкого, взглядом попросил: «Помоги». Заместитель председателя уисполома, партизанский друг Мирошниченка, чуть прикрыл веками глаза и опустил голову. Этого было достаточно.
– Разделили, – твердо ответил Мирошниченко, а Руденко с облегчением улыбнулся.
– Когда же вы успели? – Губы Кульницкого саркастически искривились.
– Рано вставали, поздно ложились – и успели. Кое-кто уже вспахал, а иные даже засеяли, – деловито продолжал Мирошниченко.
Из карих глаз Руденка лукавые искорки, казалось, осыпались на ресницы.
Кульницкий нервно побарабанил по столу, что-то обдумывая, а потом решительно стукнул костяшками пальцев по столешнице.
– Нам, товарищ Мирошниченко, надо отрезать у вас шестьсот десятин. Как вы на это смотрите?
Перед глазами Свирида Яковлевича пошли туманные круги, к горлу подкатилась боль. Мысленным взглядом он окинул сразу всю землю своего села, и ему стало так жаль ее, словно она принадлежала ему самому. Вдруг подумалось, что и Фесюку вот так жаль разлучаться со своими десятинами, но ведь Фесюк заботился лишь о себе, а он видел сотни людей. Они как на спасение надеялись на землю, которую одним росчерком пера может оторвать у них этот щеголь в кожах.
– Отрезать шестьсот десятин? – Мирошниченко слышал, как деревенеет его голос. – Это же половина земли, полученная селом от революции!
– Мы и отберем именем революции. – Кульницкий выставил вперед длинную ногу.
– А вы подумали о том, что скажут о революции крестьяне? – Мирошниченко отвел ладонью туман от глаз. – Одной рукой она дает, а другой отбирает?
– Меня, товарищ Мирошниченко, не интересует, что скажет мелкобуржуазная стихия, не она вершит судьбы будущего.
– Вы бы полегче на поворотах, товарищ Кульницкий! – вскипел Мирошниченко. – Эта мелкобуржуазная стихия вас хлебом кормит и кровью защищает свое зерно.
– И плодит бандитов, разных атаманов и батек, – подкусил его Кульницкий.
– И еще больше расплодит, если вы будете землю отбирать! Не трожьте больных ран села, вы для них не врач! – Голубые капельки моря в серых глазах Мирошниченка потемнели.
– Вот как думает коммунист, – зловеще понизил голос Кульницкий. – Он обещает нам, что будет больше банд! Не скучает ли он сам по чину атамана?
У Мирошниченка побелели губы. Еще слово – и он не знает, что сделает с Кульницким. Может быть, выбросит в окно… Мертвую тишину нарушает недовольный голос Руденка:
– Далеко вы, товарищ Кульницкий заехали! Вы что, Мирошниченка не знаете? Как можно бросаться такими словами?
Худое лицо Кульницкого залилось румянцем, но он сдержался – увидел, что и в самом деле далеко зашел. И уже спокойное обратился к Мирошниченку:
– Вы не поняли меня, земля нам нужна для общего дела – для Любарского совхоза. Надо помочь ему.
Свирид Яковлевич с облегчением вздохнул и едва не улыбнулся – с его плеч свалилась огромная тяжесть.
– Любарскому совхозу мы не можем дать ни единой десятины. О совхозах есть постановление Всеукраинского революционного комитета, и мы не нарушим его.
– Но надо же помочь любарцам! Помощь не противоречит постановлению революционного комитета. Они говорят: у вас земля лучше.
– Такой же чернозем. Но при нынешних порядках любарцам не поможет самая лучшая на свете земля. Не землю, а порядки меняйте у них! – горячо возразил Свирид Яковлевич.
– А чем вам не нравится их порядок? – Выпуклые глаза Кульницкого стали злее.
– Мало ли чем! Руководят совхозом не хлеборобы, а дачники.
– Коммунисты, товарищ Мирошниченко! – обрезал его Кульницкий.
– Может, где-нибудь они и коммунисты, а в глазах крестьян стали дачниками. Где же это видано, чтобы в жатву, когда день год кормит, работать восемь часов!
– Норма промышленного рабочего.
– Вот из-за этой нормы и осыпался хлеб на корню, из-за этой нормы и протягивают руку к государству: «Подайте, дяди, нужды нашей ради!» А надо, чтобы они государству помогали. Нет, для такого совхоза я и ломаного гроша не дам, не то что земли…
– Вы абсолютно не понимаете, что такое крупное хозяйство! Если нам удастся охватить все государство совхозами и трестировать их – объединить в гигантские тресты, – мы добьемся экономической эмансипации от мелкого собственника! Вот куда нам надо нацеливать свои силы! – горячо закончил Кульницкий.
– В вашей эмансипации я могу запутаться, как в арбузной ботве, – с едва скрытой насмешкой проговорил Мирошниченко. – А знаю одно: сейчас не тресты, а крестьянин должен получить свой надел. Убьете в хлеборобе вековую надежду на землю, он и на тресты станет смотреть как на барщину.
– Вы не коммунист, вы – тряпка! – прорвалось у Кульницкого, и он красиво понес к дверям свое затянутое в кожу тело.
– От кожаной куртки слышу! – крикнул вдогонку Мирошниченко.
Он имел привычку все доводить до конца, даже ссору.
– Я не забуду вам этого разговора! – бросил с порога Кульницкий. – Мы еще не так потолкуем.
– Очень возможно, – ответил Мирошниченко.
Когда в комнате остались только он и Руденко, Свирид Яковлевич отворил окно.
– Ну и начадили, задохнуться можно! – Он, морщась, с отвращением стряхнул с себя гадкую муть перебранки с Кульницким.
– Ты чего, Свирид, так сегодня развоевался? – щурясь, спросил Руденко.
– Да ведь эти красавцы в кожаных куртках святое дело губят, – не мог успокоиться Свирид Яковлевич. – Он думает, что революция – это только стрельба да митинги, красивые посулы да заседания.
– Не знаю, что он думает, а врага ты себе лихого нажил, не завидую.
– Черт с ним, Иван! Дай мне еще свою чертопхайку: поеду скорей землю делить.
– Ладно, Свирид, поезжай и скорее своди концы с концами… А то как принесет к вам нечистая сила Кульницкого, тут уже горя не оберешься. Выставит тебя старым вруном.
– Только бы до послезавтра не приехал. – Мирошниченко крепко пожал Руденку руку.
– Ну, а мелкобуржуазная стихия здорово еще сидит в тебе? – Неглубокие оспинки вокруг прямого носа Руденка снова добродушно шевельнулись.
– Ох, и здорово же! – вздохнул Мирошниченко. – Как сказал Кульницкий про землю, – кажется, не десятины, а сердце вынул из груди.
– Недаром говорят: у нашего мужика в груди с одного боку сердце, а с другого – земли комок.
– Про комок не знаю, а что в крови она кипит, это правда, Иван. Разве ты по себе не чувствуешь?
– Чувствую, Свирид, – согласился Руденко и, вспомнив что-то, повеселел. – Чуть не позабыл: нашли в уезде подпольную лавчонку. Чтобы не подвести одного председателя комбеда, выделили для вашей школы пятьсот аршин товара.
– Спасибо, Иван! – Мирошниченко растроганно посмотрел на друга. – Теперь не разбежится наша школа. А учитель как обрадуется!
– Еще какой-нибудь слушок пустишь? – рассмеялся Руденко.
– И не подумаю. Если в этом году мужики получат материи на детскую одежду, все поверят, что на будущий год уже и сапоги выдаст власть. Мужика, Иван, понимать надо и не только бранить, но и жалеть.
– Стараюсь, стараюсь, Свирид! – с деланной скорбью вздохнул Руденко, и друзья расхохотались. Им не хотелось расставаться, но обоих звала земля. Одного – в натуре, а другого – расчерченная на бумаге.
Вскоре Замриборщ во весь дух мчал Мирошниченка в Новобуговку. Но в дубняке мотоцикл обиженно зачихал, зашмыгал, запрыгал черным кузнечиком и остановился.
– Гуляйте, Свирид Яковлевич, пока я свою чихалку налажу. – Замриборщ соскочил с прогнутого седла.
Он отвел машину на обочину тракта, а Мирошниченко вышел на опушку, сбивая носком сапога ведьмовское кольцо тонконогих грибов. До недавнего времени он считал эти грибы поганками, но в партизанских лесах узнал, что они съедобны, а приправа из них хоть куда и даже чесноком припахивает.
За опушкой подымались роскошные вековые дубы, и клочки неба врезались в них, как синие роднички в зеленую землю. Кое-где на этой сентябрьской сини чеканными колокольчиками выделялись гроздья желудей или выступал силуэт птицы. Совсем недалеко ссорились, как барышницы на базаре, две сойки, на миг они нарушили чистую гармонию лесных звуков, но от этого только прозрачнее звенела чуткая глубь лесов.
Под сводом черемухи и дикой яблони глубоко дышал лесной родник, и его дыхание порождало чистый, как слеза, ручеек. По обе стороны родника зеленым пушком курчавилась меленькая и на диво тонкая травка, для нее и капелька росы была тяжкий груз. Спугнув плавунца, который, как бронзовая пуговица, стал ввинчиваться в воду, Мирошниченко напился из родника и прилег неподалеку от него, положив голову на сложенные руки.
Поклоннику симфонической музыки, желающему насладиться красотой и чарами новых мотивов, надо подремать в сосновом молодняке, когда его слегка перебирает ветер, а человеку не слишком музыкальному достаточно и мягкого шума лиственных лесов. Этот шум обволакивал Свирида Яковлевича, уносил его в родные места, и уже показалось человеку, что он легко-легко взлетел над лесами и приглядывается – где село? Но какой-то жалобный писк разбудил Мирошниченка. Он раскрыл глаза, и то, что увидел, удивило и надолго поразило его. На самом краю родничка сидела большая пучеглазая лягушка, заглатывая широкой пастью ножки маленькой птички. Доверчивая голубая синичка, собравшаяся напиться воды, теперь в смертельном страхе махала крылышками и тоскливым писком взывала о спасении.
Свирид Яковлевич сорвался с земли, подбежал к роднику и не сильно, чтобы не повредить птичке, ударил лягушку сапогом. На обведенных концах лягушечьего рта показались пузырьки, она выпустила птичку, и та, прихрамывая, помогая себе крыльями и хвостом, насилу выбралась на берег. А лягушка стремглав нырнула в родник.
XVII
Братья собрались не в хате, а в овине. К ним присоединилась было и Василинка, но отец сразу же прогнал ее. Она побежала на пруд, села в челнок и, сложив руки на коленях, задумалась о том, какую еще тайну скроют от нее, – ведь старшие не умеют жить без того, чтобы не скрывать что-нибудь.
Тихо покачивался крохотный, на одного человека, челнок, и камыши убаюкивали своим шорохом воду. Девочка с разгона ударила по ней рукой, гребнула, и челнок отделился от берега: надо же для дяди Данила потрясти вентеря. Василинка выезжает на середину пруда, а над ней, как цветок, вспыхивает звездочка и, мерцая, падает в лес.
В овине между тем идет свой разговор.
– Не ты, брат, первый, не ты и последний. Вернулись в наши села и хорунжие и сотники, есть и офицеры. Известно, с музыкой их не встречали, но и к стенке не ставили. Такое дело. Живут себе тишком, трудятся помаленьку, кое-кто даже паек получает. А иные на Врангеля пошли, так их семьям и землю дают наравне со всеми, – успокаивает брата Олександр.
– И взяли офицеров на фронт? – встрепенувшись, спрашивает Данило.
– Еще и спасибо сказали. Новая власть злая только со злыми. Такое дело.
– Может, и мне попроситься?
– Погоди с этим, – возражает Мирон. – В теперешнее время не знаешь, кто завтра станет хозяином. Нынче самое лучшее притаиться потихоньку, как заяц под кочкой.
– Что же ты, Мирон, не подождал землю брать? – Олександр бросил насмешливый взгляд на брата. – Притаился бы, как заяц под кочкой, и глядел бы оттуда, как люди наделы берут.
– Землю мне власть дала. Я тут ни причем. Кто ж откажется от земли?
– Уже и оправдания на всякий случай на языке вертятся? – хмурится Олександр и обращается к Данилу: – Завтра на зорьке будем ждать тебя на перекрестке за селом. Втроем пойдем в уезд, раз такое дело.
– Спасибо, брат! А что мне со своим оружием делать? В пруду утопить?
– Нет, в уезде спросят тебя, куда ты его подевал, – возражает Олександр. – Надо сдать.
– А ну как по дороге перехватит его с оружием черт какой-нибудь? Тогда пиши пропало, – морщится Мирон.
– Дай-ка мне, брат, оружие. Так лучше будет, – решительно говорит Олександр.
Данило вынимает из карманов плоские браунинги, достает гладкие тельца патронов и с облегчением отдает их брату.
– Вот, кажется, и все.
– Сядем на дорогу, – предлагает Мирон.
От него пахнет рыбой и медом. Пройдет еще десяток лет, поседеет человек и станет совсем похож на доброго старого пасечника, но сейчас доброту его разрушает страх, от которого усы подергиваются, словно возле них и ночью летают пчелы.
Братья садятся прямо на ток, под их руками выбоины – следы от цепов, пальцы чувствуют прохладу. Потом все трое поднимаются, пересекают двор и у ворот трижды целуются.
Данило уже перешел плотину, когда позади послышался топот детских ног.
– Дядя Данило, – к нему подбежала Василинка с торбой, – возьмите домой немного рыбы, все гостинец будет. – И она подала ему полотняную торбу, с которой еще стекала вода. Внутри билась свежевыловленная рыба.
У Данила сердце сжалось от боли: не он принес подарок девочке, а она ему.
– Спасибо, Василинка. Не надо мне…
– Почему не надо? – удивилась девочка. – Она свеженькая, еще живая. Одни караси, как золото.
– Одни караси, говоришь? – переспросил он.
Девочка кивнула головой.
– Осенью, при звездах, они очень хорошо ловятся, если в вентерь подкинуть макухи.
– А знаешь, что мы сделаем с ними? – Данило подошел к вербе, всем стволом тянувшейся к воде.
– Не знаю.
– Возьмем и кинем снова в воду. Пусть поминают нас добрым словом.
– Да разве они умеют говорить? – засмеялась девочка.
– Говорить, может, и не умеют, а вспоминать нас с тобою будут – им тоже лучше в воде, чем на сковороде.
Они осторожно сошли с берега на мостки, над которыми свешивались ветви верб, и вынули из торбы первого карася. Он и впрямь лежал на руке как тусклый слиток золота и тяжело поводил боками.
Данило опустил его в прудок. Рыба на миг замерла в воде, потом встрепенулась и скрылась в глубине. Когда они выпустили всех карасей, Данило передал торбу девочке. Она вопросительно посмотрела на него и вдруг спросила:
– Дядя Данило, а скажите мне, только по правде: почему вы пожалели карасей?
У Данила задрожали губы, и он, не то вздыхая, не то посмеиваясь, ответил:
– Потому, Василинка, что теперь твой дядя сам похож на карася в торбе.
– Скажете тоже! – засмеялась девочка и прижалась к нему всем тельцем.
А у него от этого смеха на глаза набежали слезы.
Он обнял девочку, попрощался с нею и чуть не бегом устремился в дубраву. Опушка встретила его тишиной и слезами вечерней росы. В темном небе, как в черноземе, стояла сверкающая Чапыга[12]12
Чапыга – по-украински созвездие Ориона.
[Закрыть] и своим сиянием напоминала, что высшая человеческая мудрость – землю пахать. В сознании тускнело прощание с братьями, с племянницей, приближался страшный и радостный час встречи с женой. Порой Данило останавливался возле дерева, чтоб не расплескать свои чувства, яснее разглядеть образ, маячивший вдали, тот образ, который он пронес, как святыню, сквозь годы разлуки.
Он знал, что не много встречается по-настоящему счастливых семей. Даже те, что женились по любви, часто рассыпают ее по мелким житейским бороздам и через год-два не думают уже о тихом рае, а тащат скрипучее брачное ярмо. А у него семья сложилась как в хорошей песне. Сперва он очень побаивался, что тень Нечуйвитра будет омрачать его радость: его мучило, что девушка уже ласкалась к другому, знала вкус поцелуев, а может, и больше. Но напрасно он боялся. С Нечуйвитром Галю связывала дружба, а с ним любовь. Он брал ее миловидной девушкой с роскошными золотыми косами, у него она стала красавицей, ее полудетское личико сразу расцвело, небольшая хрупкая фигурка развилась, и нередко ему приходилось с сердцем сплевывать в сторону при виде какого-нибудь лоботряса, слишком уж таращившего глаза на его жену.
«Соль тебе в глаза», – трижды повторял он мысленно, ибо хотя и стал учителем, но крестьянские предрассудки еще были в нем живы. Не раз он приходил в отчаяние, что не может одеть ее по-человечески, а она утешала, что когда-нибудь и у них все будет. На что она надеялась? Конечно, не на их жалованье, а на то будущее, которое обещал ей Нечуйвитер. Данило не мог ей и этого посулить.
Как же Галя встретит его теперь? Что осталось от ее любви? А вдруг одна только горечь? Ведь он отрезал ей все пути… Нечеловеческая тоска закрадывается в его душу. Ведь для него жена – это жизнь.
Вот и редеют леса, расходятся островками и перелесками. Впереди при только что взошедшей луне показались черные силуэты построек. Данило, чтобы не наскочить на самооборону, идет по краю вырубки, а оттуда огородами к центру села.
В закоулке, выходящем на улицу, он видит дубовый крест, похожий на раскинувшего руки великана. На его деревянных плечах печально белеет крестьянский рушник. Такой же крест с рушником виден и на другой улице. И еще один возле чьей-то сонной хаты. Выходит, все вокруг огорожено крестами! В эту весну, когда сыпной тиф нещадно косил и старого и малого, село крестами молило бога защитить его от несчастья, и до сей поры стоят на всех поворотах и возле каждого колодца эти деревянные свидетели человеческого бессилия и страдания.
Он минует чей-то сад, проскальзывает через улицу, и вот перед ним маленькая, выстроенная земством школа. Неужели здесь она, его любовь, его будущее? Данило останавливается возле перелаза, над которым позванивают стручками невысокие акации. Ему бежать бы к школе, к тому окошечку, откуда жена и Петрик каждый день глядят на солнце и на тучи, а может быть, и высматривают, не идет ли он. Но сила его словно ушла в землю. Данило, пошатываясь, обходит школу с другой стороны, где каменное крыльцо ведет в комнату учителя, и там присаживается в тени на холодные ступеньки. Он прислушивается к школе, словно она и ночью таит в себе чьи-то голоса и может ответить ему, что здесь нет никого, кроме его близких.
Каменные ступеньки оттягивают жар его тела, и он, махнув рукой, как пьяный, поднимается и стучит пальцами в краешек стекла. Как долго тянется минута ожидания! Он стучит еще. Из глубины комнаты доносится мелодичный колокольчик ее голоса, от которого сердце может оборваться в груди:
– Ой, кто там?
Ему хочется улыбнуться, но слезы сдавливают горло.
– Галя, это я, Данило…
И слышит крик, слышит, как что-то падает в комнате, как жена бежит к двери. Он в круговороте мыслей выбирает для нее самые лучшие слова, но краше тех, с какими он обычно возвращался домой с дороги, не находит. Так он и сейчас скажет: «Ну вот и я, сердечко мое…»
Наконец скрипит, отворяясь, облупленная дверь, и на шею ему бросается плачущая жена.
– Данилко, родненький! Это ты?
Вот и его она называет детским именем. Сказано – мать.
Он обнимает ее, прижимает к груди и забывает произнести свои слова. Потом неловко увлекает, почти вносит ее в комнату, молча целует косы, бьющиеся о его руки, подносит ее к окну, смотрит на нее, узнает, радуется и, наконец, вспоминает, что у него есть сын. Впрочем, это, может быть, сон, выдумка?
– Галя, у нас сынок?
– Сынок, Данило. – Она выскальзывает из его рук, становится босиком на пол и подводит отца к люльке, где из вороха тряпок выглядывает детская головка.
Склонившись, он обходит люльку вокруг, трогает перильца и наконец говорит:
– Ну вот и я, сердечко мое…
В ответ снова раздается всхлипывание. Галя находит его руку, ведет его к освещенному луной окну и сквозь слезы смотрит на побледневшее от волнения лицо мужа. Вот и стоит перед нею ее судьба. Она сама выбрала ее, гордилась, тешилась ею, а теперь сердце обрывается, как подумаешь, что будет с ними… Чего бы она не сделала, только бы остаться вместе, только бы ребенок не рос без отца!
Он видит слезы на ее загадочных при лунном свете глазах и вспоминает чьи-то слова, что глаза его жены – лесные черешни в утренней росе. Они и в самом деле чудесно мерцают на белизне щек своей глубокой влажной мглой.
Данило прикасается губами к ресницам жены, и с них опадает соленая теплынь.
В сенях внезапно запели ломающимися голосами молодые петушки. Их пение разбудило ребенка, он завозился, заплакал. Галя бросилась к люльке, взяла сына на руки, укачала его, запела колыбельную и поднесла малыша к окну.
Маленький человечек уютно лежал перед отцом, и мать, забывая горе, сквозь слезы улыбнулась ребенку, а потом мужу.
– У него уже два зуба! – проговорила она с гордостью.
Данило, еще не очень понимая, что означает такое великое событие, но, видя, как мать радуется этому, с удивлением переспросил:
– Неужели два? – словно речь шла не о двух зубах, а по крайней мере о счастливой судьбе.








