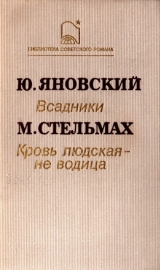
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– Держись теперь крепко, Степан! – Бондарь, пригибаясь, побежал наперерез надвигавшейся лавине.
Кушнир с тоской огляделся, вздохнул и двинулся за Иваном Тимофиевичем, на ходу стреляя из своего громобоя.
Пули наполняли погожую ночь печальным, пронзительным визгом, злобно фыркая, боронили свежую пашню, сбивали гребни отвалов. «Вот какой первый посев принимает наша земля», – вдруг пришло в голову Мирошниченку.
Небольшая группа бандитов бежала к орудию. Донелайтис и Мирошниченко первыми кинулись им навстречу. Но в это мгновение из овражка коротким, злым перебором по бандитам ударил пулемет, закашлялся и, словно сердясь на себя, снова застрочил отрывисто и решительно.
– Рабочий отряд подошел! – радостно закричал Свирид Яковлевич, простреливая пашню, усеянную фигурками убегающих врагов.
– Почему так думаешь? – спросил Донелайтис, напряженно прислушиваясь к звуку выстрелов.
– Узнаю руку машиниста Фиалковского. Слышишь, как строчит? Коротко, решительно, с душой. По-рабочему!
– Вот хорошо! Теперь Савченко не выпустит бандитов. Ох и молодчина же он!
– К нам идет. О людях первым делом заботится.
И правда, вскоре комитетчики соединились с рабочим отрядом сахарного завода.
– Ну как, орлы? Бьем врага? – спросил, подходя с наганом в руке, высокий котельщик Савченко. Голова командира рабочего отряда даже в сумраке светилась мягкой, волнистой сединой, а глаза горели веселым, юношеским блеском.
После революции 1905 года Павла Савченка, курчавого веселого парня, отправили из Каменец-Подольской крепости в Сибирь. Оттуда он вернулся спокойным, даже строгим человеком. Лоб изборожден морщинами, виски тронуты сединой; вернулся грамотным большевиком-подпольщиком, с немалым партийным опытом. Дома Савченко никого не застал: мать, не дождавшись сына, умерла в холодной вдовьей хибарке, братья и сестры разбрелись по экономиям и заводам на заработки. Управляющий сахарным заводом, помнивший, что у котельщика золотые руки, поломавшись, все-таки принял его на работу. А в 1917 году Савченко с передовыми рабочими разогнал вооруженную охрану, выставленную на заводе его владельцем, князем Коханом, и взял предприятие под контроль профсоюза…
– Кажется, вовремя поспели! – Командир рабочего отряда нагнулся к сырому от росы лафету пушки. – Занятно воюете!
– Ох и вовремя! – весело отозвался Мирошниченко. – Я уж думал… да что говорить, туго нам пришлось. Пропали бы без вас.
– А вы скверное место для маневра выбрали. Артиллерийский огонь перенесем на лес. Свирид, отсекай отступающую контру, пока они без памяти от страха.
– Есть, отсекать!
Савченко бегом бросился к Фиалковскому, нагнулся над ним. Руки опытного пулеметчика дрожали на гашетке, как в ознобе, и, дрожа, извиваясь змеей, пробивалась сквозь замок тугая полотняная лента.
– Э, у Фиалковского пулемет перегрелся! Товарищ Ильин, поднеси пулеметчикам воды.
– Есть, поднести воды!
– Слышишь, как голоса у всех зазвенели? – улыбаясь в короткие усы, проговорил Бондарь.
– Как же не радоваться! Сказано, рабочие пришли! – Кушнир выстрелил, нацелясь на вспышку, и совсем неожиданно мечтательно добавил: – Поглядите вокруг… Видите, как подымается земля с рассветом?
XXV
Потемну из Литынецких лесов не спеша тронулся отряд Крупьяка. В темноте, как туча, движутся всадники, мелодично позвякивают уздечки и стремена. Позади бандитов едет на своей бричке Сафрон Варчук, успевший незадолго перед тем побывать у фельдшера и раздобыть у него несколько порошков хинина. Сафрон уже раскаивается и ругает себя за поспешность: ну стоило ли, в самом дело, не спросясь броду, лезть в воду? Не обратись он к Крупьяку с мольбами о помощи, а поговори с ним поспокойнее, может быть, он теперь ехал бы уже не с бандитами, а в губком за своей землей. Какой там ни есть новый закон, а лучше он, чем разбой. Это Сичкарь падок на такие штуки, а он и без них обошелся бы, если б его не тронули, если б не добрались до печенок.
Сафрон до боли в голове думает, как бы ему выскользнуть из этой движущейся массы: ведь кто знает, не заметит ли его кто-нибудь из односельчан… Тогда уж дадут ему норму не в десять десятин, а в три аршина… Перед глазами на миг мелькнуло изгорбленное кладбище, от часовенки долетели голоса певчих, заблестели похоронные свечи. Варчук даже трижды сплюнул через левое плечо, отгоняя дурные видения, но снова повернул голову туда, где их увидел. И вдруг заметил два явственных огонька в поле. Кто это там разложил костры – ночлежники или какие-нибудь голодранцы, получившие чужую землю и не дождавшиеся утра?
К бричке прижимается худущий бандит с искалеченными войной глазами.
– Из Новобуговки? – спрашивает он Варчука.
– Вроде, – неохотно отвечает тот.
– Там у всех такие добрые кони?
– У комбеда и получше есть. Поезжай – достанешь!
– Может, сменяемся?
– Кто меняет, тот без штанов щеголяет.
– Жаль, что ты родич нашего батьки! – смеется бандит и отъезжает от брички.
Отряд уже выезжает на большак, а мысли Сафрона все еще без толку толпятся в голове, и никак он не найдет хитрой дорожки, по которой можно бы сбежать от бандитов. Как он устал от этих мыслей! Никогда еще так не уставал, с тоской думает он, а впереди уже маячит на обочине крест с распятием. Здесь должен ждать его Сичкарь.
Сафрон с Крупьяком берут поближе к обочине, придерживают лошадей.
– Иван, ты тут? – негромко окликает Варчук.
Из придорожного рва, отделяющего липы от полей, поднимается черная фигура, и даже в темноте по силуэту можно узнать характерную сутуловатость Сичкаря, которую еще увеличивает подвязанная за плечами сума с продовольствием.
– Ну, спасибо за помощь, большое спасибо! – Сичкарь почтительно знакомится и осторожно взвешивает в своей тяжелой руке легкие пальцы Крупьяка.
Тот подсвечивает папироской и видит круглые, как клейма, следы ветряных лишаев на залитых сырым румянцем щеках Сичкаря, жуткие отблески папиросного огонька в его зрачках и белках.
Жестокость глаз Сичкаря поражает даже Омеляна. «Только война могла породить такие буркалы», – думает он, вынимая изо рта папироску, чтобы не видеть взгляда своего случайного помощника.
Сичкарь замечает, что смутил Крупьяка, и улыбается: он любит, когда от его пронзительных глаз отскакивают чужие взгляды – стало быть, тот человек слабее.
– Как, Иван, ничего нового нет? – спрашивает Варчук, все еще надеясь, что ему повезет и он сумеет отделаться от бандитов.
– Нет, есть, – подходит к нему Сичкарь. – Мирошниченко по стал ночевать в поле – вернулся в село.
– А Горицвит?
– Остался над Бугом.
Сафрон опасается, как бы ему не пришлось вести бандитов на Мирошниченка, и мысль его лихорадочно работает. Он быстро говорит Крупьяку:
– Экая неудача! Ну, тогда я мигом наведу несколько человек на Горицвита, а Иван пусть мчится к Мирошниченку.
– Добро, – согласился Крупьяк.
Он подъезжает к бандитам, назначает старшего в отряд, отправляющийся в село, отдает короткие команды и взмахом нагайки делит банду на две части. Бандиты срывают с плеч карабины и обрезы и разъезжаются в разные стороны.
Вот уже и село, забелелись хаты. Бандиты пускают лошадей вскачь, и Сичкарь, вцепившись в стремя, летит во весь дух по пыльному тракту. Ему мешает сума, дает себя знать и сердце. Цокают копыта, цокает и оно, напоминая, что молодость уже позади.
Проклятая сума жмет под мышками, груз белых буханок и сала выжимает из тела пот, он со спины растекается на поясницу, на живот и бедра. В глазах кружатся звезды, хаты. Но вот и двор Мирошниченка. Сичкарь, как пьяный, отрывается от стремян и повисает на воротах. Они скрипнули под его тяжестью, закачались и снова заскрипели. Давно, видно, хозяин не поправлял их. Бандиты со всех сторон окружают хату и овин. Кто-то бьет прикладом в окно, с жалобным звоном рассыпаются расколотые стекла.
– Гей! Выходи, коммуния!
– Выходи, а то спалим всех живьем!
Блеснул огонь, и в хате раздался детский плач.
На него и пошел от ворот Сичкарь. В такт его шагам хлеб в суме ерзает, трет запотевшую спину. Видно, Зинька скверно увязала харчи.
В сенях и в хате уже суетятся бандиты и мечутся тени от факела. Озаренные мерцающими красными отсветами, застыли две маленькие фигурки в одних полотняных рубашонках.
– Где отец? – допытывается худощавый бандит, наставив на детей оружие. Один глаз у него вдавлен, а другой выпучен, на нем одиноко дрожит отблеск факела. – Слышишь, где отец?
– Я… я не знаю… Он поехал под вечер в поле, – дрожа от испуга и слез, отвечает Настечка, слыша, как под ногами ее раскатываются ягоды терна, рассыпанные бандитами по всему полу.
Сичкарь переступает порог, поправляет суму и вынимает из кармана наган. Он смотрит на детей злобно. Это ведь кровь Мирошниченка. Вырастут – в отца пойдут, помрут – у отца сил поубавится. Мертвые дети хоть кого согнут в дугу.
Он, давя ягоды терна, заложив руку с наганом за спину, подходит к бандиту, ощупывает детей не знающими жалости глазами. На их белых рубашонках мерцает кровавый отблеск, на побелевших личиках ужас. И вдруг Настечка узнает его, искорка надежды мелькает в ее больших глазах.
– Дядя Иван, – вскрикивает она, – спасите нас! – Она закрывает лицо руками, из-под пальцев выбиваются слезы.
– Скажи, Настечка, где отец, тогда не тронут, скажи, дитятко. – Сичкарь подходит ближе.
– Я же не знаю! Ей-богу, не знаю, дядя Иван! – Девочка смотрит на Сичкаря правдивыми глазами.
Тот понимает, что она не обманывает, и наводит на нее оружие.
Левко в ужасе обхватывает сестренку обеими руками, заслоняет ее собой и умоляет Сичкаря, которого видит впервые в жизни:
– Дяденька, не убивайте мою сестричку! Я вам за это буду даром гусей пасти…
Слово «гуси» чем-то поразило Сичкаря, вспомнилась песенка раннего детства: «Гуси-лебеди, летите, меня с собой захватите…» Он вдруг заметил, что к волосам Левка прилип желтый лепесток подсолнуха, и вспомнил свой ответ Заятчуку: «Отцам надо рубить головы, а дети пускай остаются».
Будь дети немыми, он бы оставил их жить; может, и пасли бы они гусей, а может, и в школу пошли бы…
Два коротких выстрела – и дети разом падают. И в это самое время из развязавшейся сумы Сичкаря выскакивает буханка, колесом катится к детям, по полу, где уже темнеет детская кровь и раздавленные ягоды. А Сичкарь с наганом в руке бросается к хлебу, подымает буханку, старается поглубже засунуть ее в суму.
Худощавый бандит, который зарубил немало живых душ и привык к убийству как к ремеслу, посмотрел на него своими разными глазами.
– Обеднеешь без этого хлеба?
– Это уже не хлеб, а улики, – отвечает Сичкарь и змеей выскальзывает из хаты.
XXVI
Луна взошла поздно, и облака, раструшенные, как охапки ромашкового сена, вдруг посветлели, задымились, ожили и побежали на запад. Между берегами неясно обозначилась лента Буга. Лошади дремали, свесив головы, а Тимофию все не спалось.
Погруженный в свои мысли и надежды, он медленно ходил по полю, как никогда еще по нему не ходил. Молчаливый дома и на людях, он теперь, по горицвитовской привычке, вволю говорил сам с собой, без конца советовался сам с собой, а иногда с женой и сыном; все казалось, они рядом, стоит окликнуть – отзовутся на его голос, подойдут.
Слова у Тимофия были теперь теплые, ласковые, как нагретая июльским полуденным солнцем пшеница. И по-новому вставали перед ним извечные надежды и заботы, что живут бок о бок в сердце бедняка, ни разу в жизни не поевшего досыта. И мысли его были поэтичны, как всякая мечта о честной, хорошей жизни.
«Распашем тебя, поле, засеем! Не зерно, сердце свое вложим в тебя, чтобы уродило ты нам счастье, чтобы не было больше на свете нищих да убогих, чтобы не гнало ты своих тружеников на край света за копейкою, за горьким куском батрацкого хлеба…» Всем существом принимал Тимофий землю, данную ему по закону Ленина.
Вспомнился рассказ Мирошниченка. Крестьяне одного русского села пришли к Ленину в гости, принесли ему в подарок каравай хлеба. Принял Ильич тот каравай, поблагодарил людей…
И снова он мысленно любовался и пересыпал в ладонях теплое зерно, которое уродится на его поле. Так вот и шел бы, так и шел бы по нивам до самого края земли, молча беседуя с колосьями, лаская их руками, словно своих детей.
Вдруг неподалеку застучали копыта, прозвучали винтовочные выстрелы, а затем глухо откликнулся пулемет.
По звуку Тимофий безошибочно определил, что стреляют из кольта. Тоскливо, как человек, застонал раненый конь и, вырастая на глазах, промчался, задрав голову, возле самой телеги, а потом круто свернул на восток. Надорванный молодой голос плеснул в небо высокое «ой» и умолк.
Тимофий кинулся было к телеге, но на полдороге вспомнил, что винтовку забрал Мирошниченко, и остановился в раздумье.
Въедливый писк пули, пролетевшей, казалось, над самым ухом, вывел его из оцепенения. Он припал к росной земле и осторожно пополз на выстрелы.
Через несколько минут Тимофий убедился, что неподалеку идет бой, и уже предугадывал его безотрадный исход: четверым красноармейцам не удастся долго продержаться против трех десятков бандитов, которые, спешившись, полукольцом прижимали к реке горсточку смельчаков.
Внезапно пулемет замолчал. Тимофию впервые на миг стало страшно, но он тут же по движениям пулеметчика понял, что тот меняет ствол.
Тимофий весь напрягся, видя, как бандиты взметнулись с земли черными тенями и побежали вперед.
«Только бы успел, только бы успел!» – молила каждая клеточка его тела.
Еще несколько перебежек и… конец.
Молодой встревоженный голос что-то тихо сказал пулеметчику. Тот спокойно и зло процедил сквозь зубы:
– Сейчас, товарищ командир, сыпанем им страху в зенки.
И дуло пулемета, захлебываясь, полыхнуло огнем. Цепь бандитов сразу же с криком и матерщиной бросилась на землю. Красноармейцы под прикрытием кольта быстро отбежали назад – концы бандитской цепи вытягивались к Бугу.
– Товарищ командир, – Тимофий поднялся и застыл перед невысоким бойцом в кубанке с пистолетом в левой руке, – спускайтесь за мной к Бугу, перевезу на лодке.
– Ты кто будешь? – К нему приблизились пытливые, строгие глаза; в полутьме лицо командира казалось иссиня-белым, почти прозрачным.
– Я? – Тимофий не нашелся что ответить. «Что ты ему скажешь? Еще за бандита примет!» – Бедняк я. За Советскую власть.
– Все! – Пулеметчик выругался. – Ни одного патрона!
Он схватил пулемет и, обжигая руки горячим стволом, еще раз выругался горестно и тоскливо.
С правой руки командира стекала черными струйками кровь. Пуля, должно быть, пробила руку навылет, и кровь капала с растопыренных болью пальцев, словно все они были ранены.
– Тьфу! Черт!
– Что ты, Иваненко?
– В плечо кусанула, – отозвался лежащий в борозде боец, продолжая бешено отстреливаться.
– Бежать можешь?
– Смогу, товарищ командир.
Под нестихающими выстрелами они побежали к Бугу. На заросший кустарником берег с въедливым свистом сыпались пули, но сила их уменьшалась, как уменьшалось с приближением к реке ощущение опасности.
Из-за разорванной тучи выглянула луна, и на реке в текучем пятнистом сиянии ожили черные долбленые челноки; их, вздыхая, неуклюже баюкала тугая осенняя волна, прибивала к пенькам верб, быть может тех самых верб, из которых они были сделаны. И челноки снова трепыхались, как птицы в клетке, отбиваясь от берега, и над водой раздавался скрежет и звон их цепей. На желтом прибрежье из руки командира сильнее забила кровь, и прерывистая дорожка протянулась до самой лодки. Казалось, это не живая теплая кровь напоила песок, а дети, играя на берегу, повтыкали в желтую отмель ровные чашечки желудей.
Ни на бледном, спокойном лице командира, ни в его темных с янтарным отливом глазах не увидел Тимофий ни признаков боли, ни обычного при большой потере крови выражения слабости, тоски. Раненый был подтянут, сосредоточен в своей стойкости.
– Подыми руку, товарищ командир! Жизнь вытекает! – как всегда, строго проговорил Горицвит и рванул изо всей силы тонкую ржавую цепь.
Пальцы, сдавленные железом, заныли, но звено разогнулось, и Тимофий повеселел: не надо было отпирать замок, сберегалась дорогая минута.
Они выплыли уже на середину реки, когда на берегу показались темные фигуры и засверкали вспышки. Вокруг лодки взлетали маленькие певучие всплески воды, похожие на голубокрылых крячков.
Выйдя на берег, все облегченно вздохнули.
– Спасибо. От Красной Армии спасибо. – Командир пожал левой рукой твердую руку проводника.
– Вам спасибо. За все. Давайте я вам рану перевяжу. Сорочка у меня чистая. – Тимофий решительно рванул ворот полотняной рубахи, в которой ходил к причастию. Мелкие пуговицы росой посыпались к ногам.
– Не надо. – Командир, улыбнувшись, вынул из кармана пакетик, велел пулеметчику перевязать плечо Иваненку, а сам поднял руку, и кровь с пальцев потекла в рукав. – Как вас зовут?
– Горицвит. Тимофий Горицвит.
– А меня Марков. Чем же вас отблагодарить?
– Ничего не надо. Говорю, сам солдатом был… Не для того революция пришла…
Хотелось сказать многое, но и всегда-то ему было трудно разговаривать, а теперь, когда густеющая кровь все капала и капала на синеватую осеннюю траву, и подавно. Он уже ровным голосом неторопливо добавил:
– В Ивчанку идите, там ежели банда и наскочит – люди отобьют.
– Будьте здоровы!
Побелевшими, крепко сжатыми от боли губами Марков поцеловал Горицвита, прижал запеленатую раненую руку к груди и пошел по луговой тропинке к хатам. А Тимофию долго еще казалось, что кровь капает на берег и вдавливается в песок, как желудевые наперстки.
«Славные ребята!» Тимофий думал о бойцах, как отец с своих детях. И красноармейцы в эту минуту думали о нем, поминая добрым словом незнакомого человека.
То, что он сейчас сделал, – ведь все могло и не так кончиться, смерть-то вокруг ходила! – поднимало Тимофия в собственных глазах, наполняло радостью. Но потом его охватило беспокойство: ведь бандиты могут забрать лошадей… Он прислушался.
По воде с того берега отчетливо донеслась перебранка бандитов. И вдруг он расслышал голос Сафрона Варчука.
«Может, показалось?..»
Темные фигуры медленно подымались на кручу. Топот копыт затих вдали.
А Варчук узнал Горицвита еще раньше, когда тот прыгнул с обрыва, ведя бойцов к лодке. Узнал и до того перепугался, что капли пота выступили на его плоском лбу.
«А вдруг и Горицвит заметил меня?»
Чуть не на коленях упросил он раздраженного неудачей Крупьяка разделить банду на два отряда – большую часть отправить в село, а несколько человек оставить в кустарнике.
Приближался рассвет.
Круглыми, расширенными от напряжения глазами Варчук всматривался в реку, тоскливо думая все о том же: разглядел ли его Тимофий и вернется ли на эту сторону? И, как большинство верующих людей, в трудную минуту он обратился со всеми своими заботами к богу, посылая ему неумело сложенные молитвы, прося вернуть Тимофия.
И вот на середине реки простуженно скрипнуло весло. Сафрон тут же забыл и молитву и самого бога.
Рассекая мглу, показалась лодка. Высокий, сильный гребец, стоя во весь рост, неторопливо и умело орудовал веслом. Плоскодонка мягко ткнулась в песок, Тимофий прыгнул па берег, и тут же звонко треснул выстрел.
На миг Сафрону показалось, что это разорвалось его сердце. Он схватился руками за грудь, не спуская глаз с Горицвита.
«Пошатнулся!» – обрадовался Варчук. Руки его сползли с груди, но он сразу же вновь схватился за сердце судорожно сведенными пальцами, – Тимофий с неожиданным проворством бросился в реку. Его голова не скоро показалась над водою, потом исчезла, снова появилась.
Бандиты выскочили из засады. Вода вокруг плывущего Тимофия закипела фонтанчиками.
А Сафрон, очумев от страха и злобы, метался среди бандитов, тыкал пальцем.
– Вон он! Вон! Показался.
– Да пошел ты… двоюродный брат Гальчевского! – наконец заорал на него высокий, косолапый бандит, тот самый, что стоял часовым на мосту. – Не видим, что ли?..
Варчук обиженно притих, но, когда появлялась над водой голова пловца, все указывал на него пальцем.
Студеная вода словно кипятком ошпарила Тимофия. Все тело его напряглось. Проворными движениями он под водой сорвал с себя пиджак, сапоги, рывком вынырнул, вздохнул всей грудью и снова погрузился в воду. Сильные руки, как весла, разгребали плотную воду. Пловец не слышал, как вокруг него шлепались пули: уши словно залило горячим клеем, они болезненно ныли.
«Ничего, Тимофий, на тебя еще пуля не отлита», – утешал он себя, как бывало на фронте. Под пулей он разумел не кусочек свинца, а смерть, ибо ранен бывал не раз. На его георгиевских крестах, лежавших в углу сундука, на оранжево-черных ленточках темнели пятна честной солдатской крови. Нет, он даже и мысли не допускал, что его могут сейчас убить. «Ранить могут. Так это не новость. А реку переплывем!»
Вода так и шипела, расступаясь перед ним. Он рассекал тугие подводные течения, могучими руками дробил водовороты, каждой мышцей ощущая сопротивление ледяных наэлектризованных мускулов реки. «Ничего, Тимофий, на тебя еще пуля не отлита!» И в напряжении не замечал, что вода уже окрасилась его кровью.
Вдруг произошло что-то необычайное и страшное. Все его сильное тело согнулось, передернулось в корчах, израненные кости мучительно свело, точно сковало морозом. Тимофий, превозмогая боль, рванулся из каменного плена. Руки, голова, плечи послушались, но оцепеневшие ноги тянули вниз.
И Тимофий все понял.
В последний раз поднял голову над водой, окинул печальным взглядом широкие берега, утопающие в рассветной дымке. И стало ему жаль чего-то. Страха не было, но все его полуживое тело охватила тоска о чем-то, что никогда уже не придет. И невдомек ему было, что жалел он о непрожитых годах, тех, что давно поселились в его лучших надеждах, а наяву не приходили еще. Только теперь он приблизился к ним – и вот уходит навсегда… «Может быть, Докия, Дмитро…» И глаза его подобрели. Вся жизнь за миг прошла перед ним, как проходит бессмертная армия мимо убитого товарища.
Промелькнуло детство, дождливые галицийские ночи на фронте, ближе стали убитые друзья и земля… «Барская?» – «Да нет, наша». – «Значит, барская?» – «Барская была да сплыла. Теперь наша, ленинской правдой дана…»
И он видит, как они с Мирошниченком и Дмитром вышли на большак среди хлебов, расшитых красными маками и подернутых желтой пыльцой, на которой держится крестьянская доля… Какова-то будет она!
И в последние секунды бытия весь он устремился к нераспознанной и к такой близкой уже грани будущего, – ведь и всегда он жил только будущим, в прошлом не было у него отрадных минут.
Тимофий уже не чувствовал, как ледяная вода сковала набухшие, усталые жилы, будто вымывая их из тела, как быстрое течение подхватило его и понесло на широкий плес…
– Капут! – сказал высокий, косолапый бандит, вскинул обрез на плечо и направился по тропинке в гору.
– А упорный, черт! – удовлетворенно выругался другой, закуривая цигарку. – Сколько проплыл в такую холодину!
Сафрон хотел попросить бандитов, чтоб еще подождали, – может, выплывет Тимофий, – но, улавливая охватившее их настроение, не осмелился, только стоял на месте, не сводя глаз с реки. Его носатое лицо все еще было сведено судорогой напряжения.
Бандиты уже взобрались на обрыв, зацокали наверху копыта, уже раскинулись полотнища зари, уже подбитая волной пустая плоскодонка шевельнулась, вздохнула и тронулась за хозяином, а Варчук все еще не выходил из прибрежных кустов.
«Господи Иисусе милосердный, помоги мне, грешному, в тяжелый час. Только бы…» И он перечислял все свои неотложные заботы, а его темные, без блеска, глаза, отороченные дутыми сережками лиловых подтеков, туманились от рассветной сырости, боли и злости.
Между тем в однообразное бормотанье Сафрона ворвалась песня, доносившаяся с реки. Сперва она не мешала молитве, но вдруг Варчук вскочил – вместо песни плеснула задиристая частушка. В голосе певца слышались и озорство и робость. Но вот частушка пропета до конца, певец с облегчением расхохотался, и уже два голоса, захлебываясь от изумления и восторга, должно быть впервые в жизни вывели:
Ой, на небі безпорядки,
Кажуть, бог змінився.
Пішов грітися у пекло
I весь обсмалився.
«Ироды, черти поганые!» – Варчук в бешенстве чуть не выскочил из своего убежища. Но вовремя опомнился, взглянул на реку.
К тому месту, где последний раз показалась голова Тимофия, подплывал долбленый челнок. На дне его лежала верша, в челноке сидели двое подростков – Грицко Шевчик и Варивон Очерет.
– Хороша песня, Григорий! Жаль, что дома так не запоешь, – старики вихры с кожей выдерут! – засмеялся Варивон и, оглянувшись, шепотом добавил: – Гляди, вентеря чьи-то стоят. Вот бы потрусить!
– Что ты, что ты! – замахал руками Шевчик, и на его смуглом красивом лице отразился неподдельный испуг.
– А мы только один попробуем. Никого же нет. Ну никогошеньки. – Варивон ухватился за палку и потянул к себе вентерь. – Ну и тяжелы же! Наверно, полно рыбы набилось. Григорий, помогай!
Еще одно усилие – и вдруг оба оцепенели от ужаса. Из воды, опережая вентерь, появилось спокойное, с полузакрытыми глазами лицо Тимофия Горицвита. В лучистых морщинках вокруг глаз и губ искрились на солнце влажные зерна песка.








