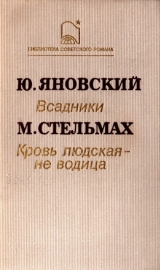
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
– И вы не боитесь пускать ее на реку?
– Она сама без воды жить не может. Привыкла. А как брал ее – на рыбу и смотреть не хотела.
– А на вас смотрела? – смеется Марийка.
– И на меня не смотрела, некогда было. – Побережный, говоря, как будто взвешивает каждое слово. – Я ее один раз увидал в церкви и сразу сватов прислал.
– Проворны вы были!
– Да, не как теперь – по три года живут, а на четвертый расходятся. Вот некому бить по одному месту! Садись, милая. Ты, может, за рыбкой?
– Нет. А ловится теперь что-нибудь?
– Да разве теперь рыба? Вот прежде была рыба! Она тоже спокойствие любит, а где оно теперь, спокойствие-то?
– Нет его ни человеку, ни рыбе, – подтверждает Марийка. – Говорят, в Проскурове Петлюра бессовестная всю рыбу поглушила. – С тех пор как Петлюра угрожал ее наделу, она готова была приписать ему все, что слыхала и чего не слышала, а называла его только в женском роде, почему-то сближая понятия «Петлюра» и «холера».
– Откуда он только взялся на нашу голову? – Побережный резко хмурится, его тяжелые брови нависают на глаза. – Вот откатилась немного война от нашего порога, а он снова гонит ее сюда.
В хате залегает тишина, и только под шестком играет на своей скрипочке неутомимый сверчок.
– А знаете, дядя Семен, зачем я к вам пришла? – разрывая последний страх перед Иваном, говорит Марийка, не подымая глаз на рыбака.
– Скажешь – узнаю.
– Говорят, вы продаете своего вороного.
– Продаю. – Побережный удивленно подымает брови. – Завтра еду с ним на ярмарку.
– Добрый конь?
– Справный. Только теперь земли прибавилось, так я хоть на паршивенькую, да на пару сколачиваюсь.
– Так, может, станем сватами?
– Это что же, вы хотите у меня вороного купить?
– Истинно так.
– Так чего ж ты, Марийка, в эти дела мешаешься? Почему не Иван пришел?
– А это, дядя Семен, тонкое дело, – понизила голос Бондариха. – Денег у нас, как говорится, кот наплакал, вот и решили мы продать полдесятинки, а добыть коня!
– Вон как! – Побережный задумался. – И все-таки почему ты, а не Иван хлопочет?
– Да разве он может это сделать при своей комбедовской должности? – пустилась во все тяжкие Марийка. – Вот и просит вас, чтобы тихонько раздобыли ему скотинку, а землю либо сами берите, либо продадите, как вам лучше покажется.
– Беда мужику! – сочувственно проговорил рыбак. – Вот уж и земля есть, а не уколупнешь ее пятерней.
– Сколько еще к ней надо, – пригорюнилась и Марийка. – Скотину дай, плуг дай, скоропашку дай, борону тоже, да и без телеги не обойтись. Как подумаешь – мозги сохнут. – И она сразу забывает, что говорила рыбаку неправду, – горькая мужицкая правда захватывает ее.
– Ну что ж, Ивану я пособлю, хороший он человек. – Побережный задумчиво шагает из угла в угол, – Его земля и мне бы пригодилась, да сам на лошаденок сколачиваю. Какую полдесятинку думаете продать?
– Ту, что от Сичкаря к нам перешла. На вырубке.
– Какую же цену положили?
– Был бы конь добрый.
– Э, где мое не пропадало! – решительно махнул рукой рыбак. – Забирай моего вороного, а завтра устроим твою землю. Есть у меня один человек на примете, только из Бессарабии вернулся, к разделу запоздал. По рукам!
Марийка едва не подпрыгнула от радости, но своевременно сдержалась, степенно промолвила:
– Ладно, дядя Семен, только с вас еще магарыч, – и хлопнула рыбака по руке. Ей явно нравилось барышничать.
– Ты что же, хочешь, чтобы я с тобой без мужа пил? – засмеялся Побережный.
У Марийки задорно блеснули глаза.
– А хоть бы и со мной, раз муж побоялся пойти! – Она уже верила, что Иван и в самом деле испугался идти к Побережному.
– Нет, милая, нестоящее дело пить магарыч с бабами, – покачал головой Побережный. Он достал из шкафчика маленькую липовую кадушечку, пошел с нею в чулан и налил меду. – Вот тебе мой магарыч, – сказал он, подавая кадушечку Марийке.
Та нагнулась над медом, попробовала с мизинца на вкус. Приятная терпкость сразу подсказала, с каких цветов нанесли мед пчелы.
– Подсолнечный?
– Подсолнечный, самый свежий. Коня сейчас возьмешь или Иван зайдет?
– Где уж ему ходить! – Марийка жеманно подобрала губы. – Ему только за жениной спиной на собраниях сидеть.
Они вышли из хаты, открыли маленькую конюшню. Нагибаясь в дверях, Побережный скрылся в стойле, зазвенел уздечкой и вскоре вывел рослого коня.
– Бери, Марийка, пусть он тебе золотой пласт распашет. – Семен передал женщине повод, погладил коня по спине, вздохнул.
И только теперь на Бондариху напал страх, только теперь она увидела перед собой глаза Ивана, однако на этот раз не смеющиеся, а гневные.
«Ну и бес с ним!» Она стряхнула с себя минутную слабость, поблагодарила Побережного и по-бабьи повела за собой коня.
На другой день Семен продал их полдесятины, а Марийка выехала с ночи пахать в паре с Есипом Киринюком, немолодым, на редкость молчаливым человеком. Марийка была очень рада такой компании – Есип даже не спросил ее, откуда она взяла коня, сколько за него заплатила, и ни слова не промолвил об Иване. У него был свой взгляд на разговоры: ежели у кого есть что сказать, то и так скажет, а языком трепать нечего.
На пашне он разложил под грушей-дичкой костер из хвороста, натаскал с чьего-то поля немного картошки, положил ее на жар и уселся, прислушиваясь к фырканью лошадей в низинке. А Марийка сперва улеглась на телеге, уже каясь, что нетерпение погнало ее сюда на долгую осеннюю ночь; можно бы и на рассвете выехать. К тому же было и страшно: а что, если ночью вернется Иван?
А он и в самом деле вернулся ночью из Винницы, удивился и разозлился, застав в доме одну Югину. В нем внезапно проснулась ревность.
Он разбудил дочку, спросил, где мать.
– А она поехала с дядей Есипом на ночь пахать. – Заспанная Югина отбрасывала кулачками с кругленького личика волосы, щурилась на свет.
– Что ее понесло в осеннюю ночь? – оторопел Иван.
– Свой конь, – вдруг засмеялась Югина, вспомнив, как мать увивалась вокруг покупки.
– Свой конь? – Иван не верил ушам. – Откуда он взялся?
– Мама его за полдесятины выменяла, – защебетала Югина и побежала к шкафчику, – еще и меду в придачу принесла. – И она подала отцу липовую кадушечку.
Иван Тимофиевич с ненавистью глянул на кадушечку и в бешенстве выскочил во двор. Подумать только – чтоб собственная жена выставила его на такое посмешище! О чем только теперь кулачье не зашипит! «Голодранцам дай землю, а они ее завтра же промотают, променяют, проедят, пропьют…» От стыда и ярости он то размахивал кулаками, то хватался за голову.
В поле он издалека приметил Киринюка и Марийку. Они сидели друг против друга перед золотым кустом костра, а над ними чудесно темнела густая груша. Иван как гром обрушился на них, выхватил из-под Киринюка кнут, размахнулся и хлестнул по плечам Марийку, которая уже пустилась наутек от костра.
– Убивают! Спасите, люди добрые! – завопила она, бросаясь к телеге.
Но муж не погнался за ней, только проговорил глухим от возмущения голосом:
– Не будь ты тяжелая, я б для первого раза не так еще отстегал, чтоб тебя черти на том свете стегали! Однако и сейчас так проучу, что не полезешь с глупой головой в умные дела. Ишь какой барышник нашелся!..
Он пошел в низинку, разыскал вороного, повел к костру, для верности спросил Киринюка:
– Он?
Тот кивнул головой.
– Добрый конь, – похвалил Иван. – Я, дядя Есип, возьму ваш кнут.
– Бери. А сам куда?
– Поведу коня в уезд. Сдам на врангелевский фронт.
– Господи! Боженька! Спасите мою душу! – заголосила у телеги Марийка. – Иван, на коленях прошу!
И она в самом деле выбежала из тьмы и упала перед костром на колени. Огонь заиграл на ее скорбно заломленных руках, осветил на ресницах красные, как кровь, слезы.
Но Иван и не глянул на жену. Схватившись рукой за гриву, он вскинул свое грузное тело на коня, выпрямился и поехал полями на дорогу.
Топот вороного отдавался в истерзанном сердце Бондарихи как похоронный звон.
– М-да, – только и проронил Киринюк.
Он дождался, пока по искорке не облетел весь костер, потом тоже сходил в низинку, привел своего коня, запряг и показал Марийке на телегу. Они ехали домой как две тени. У Марийки не хватало сил, даже чтобы зареветь или отругать Ивана: так страшно расправился он с ее надеждами.
В хату она вошла пошатываясь, а когда зажгла свет, увидала на столе, как горькую насмешку, щепотку соли в тряпочке. Что просила она, то и привез муж.
XXXIV
На объединенном Ялтушковском совете министров Украинской народной республики и руководства армии верховный главнокомандующий Симон Петлюра со свойственным ему театральным вдохновением не обрисовал, а прямо-таки изваял план захвата Правобережья и Левобережья. Он обеими руками подымал фронт, раскинувшийся от Днестра до Летычева, и фронт совершал чудо: петлюровцы шли вперед, а красные бежали, петлюровцы въезжали в Киев, а их встречали колокола Софии, горожане подносили хлеб-соль на вышитых рушниках.
Оперативный план наступления был проще плана немцев и гайдамаков в восемнадцатом году, кстати говоря, повторенного Петлюрой без малейших изменений в девятнадцатом.
От этой розовой и совершенно неквалифицированной болтовни волевое, с массивным, четырехугольным подбородком лицо генерал-хорунжего Юрка Тютюнника злобно кривилось. Он видел перед собой не глаза вождя, а фосфорический, с косинкой взор маньяка, упивающегося пустым звоном собственных слов. Тютюнника передергивало от этой смеси военной безграмотности и ничем не обоснованных уверений в победе. На это обратили внимание и министры и премьер Андрий Левицкий. Тютюнник надеялся, что петлюровский поток слов оборвет командующий армией Омелянович-Павленко, но тот лишь удивленно поднимал руку к маленькому клинышку бородки, а сам отмалчивался, чтобы уклониться от всякой ответственности. В искусстве взваливать ответственность на чьи угодно, только не на свои плечи, хитрый и осторожный Омелянович-Павленко был родным братом Симона Петлюры.
И тогда резко выступил Юрко Тютюнник. После его речи от петлюровского плана пошел дурной запах, как от лопнувшего пузыря. Вместе со своим планом наступления Тютюнник предложил на всякий случай разработать и план отступления: война есть война, и всякие могут быть неожиданности. Вокруг этого предложения разгорелись споры; об отступлении все министры и головной атаман не желали думать – бежать можно было и без плана.
Когда рассерженный Тютюнник, заломив черную высокую шапку, ушел в штаб своей части, а министры, под охраной стрельцов, разбрелись на ночь по комнатам каменного дома директора Ялтушковского сахарного завода, кто-то пустил слух, что генерал-хорунжий собирается арестовать «правительство» Украинской народной республики. Перепуганные министры сбились в одну комнату, с ужасом ожидая решения своей судьбы. Но арестовывать их никто не пришел, и утром сам Тютюнник немало был изумлен тем, что все «украинское правительство» собралось в такой тесноте. Кто-то сказал, что министры обдумывали дату наступления, хотя на самом деле они больше всего были озабочены мыслью, как бы выскочить на своем грузовике из Ялтушкова в Каменец-Подольск.
Наступление по всему фронту было назначено на двенадцатое ноября. А на рассвете одиннадцатого под Старой Мурафой заиграли трубы Четырнадцатой советской армии. Восьмая конная дивизия первой ударила на петлюровцев. У нее был приказ прорвать фронт и отрезать от него петлюровскую конницу, стоявшую возле Могилева-Подольского.
Рейд Восьмой дивизии начался удачно: уже в селе Шестаковке вчерашние новоушицкие хлеборобы, насильно мобилизованные Петлюрой, стали бросать оружие и сдаваться в плен. Пока Восьмая дивизия захватывала Ивашковку, Лучинец, Кукавку, Вторая бригада прорвалась на Могилев и после жестокого боя с конницей Фролова ворвалась в город. Южная петлюровская группа, не сдержав натиска Четырнадцатой армии, отступила, частью переправилась через Днестр в Румынию. Несколько дней петлюровцы с успехом сражались на севере: здесь дивизия Яковлева на Летычевском направлении взяла Литын, а дивизия генерала Перемыкина из Дерашни продвинулась на Жмеринку. Но уже шестнадцатого ноября обе дивизии отступили под ударами Красного казачества.
Петлюровская свеча горела с обоих концов. Тогда головной атаман бросил в бой свои последние резервы – десять тысяч стрельцов, бросил уже не для победы, а для того, чтобы они своей кровью прикрыли переброску за Збруч имущества министров и казначейства. Петлюра и все министры, кроме Архипенка, бежали от своих войск на ту украинскую землю, которую они отдали во владение Пилсудскому. И польский Бонапарт не забыл услуг кобеляцкого корсиканца: Пилсудский подыскал для Петлюры столицу – маленький городок Тарнов. Там в гостинице «Бристоль» уместилась вся «государственность» головного атамана: все министерства, послы, военно-походная канцелярия, типография и сам головной атаман со своим Малютой Скуратовым, как прозвали его приспешники Чеботарева.
В пропахших кухней покоях «Бристоля» головной атаман, быть может впервые в жизни, ощутил эфемерность своей власти. Петлюра созвал все свое высокое окружение и на межпартийном совещании трагическим голосом известил об «акте величайшего исторического значения»: он, головной атаман, подписал свое отречение.
Он надеялся, что межпартийное совещание будет слезно умолять его остаться у власти. Но совещание, деморализованное последними событиями, молчало.
И это ошеломило Петлюру больше, чем поражение на фронте. Он глазами молил, чтобы хоть одна живая душа сказала, что Украина не может существовать без своего головного атамана. Но на него смотрели полумертвые души, лишенные дара речи и веры в атамана. В ярости он хотел было гордо покинуть мертвый зал, но жалость к себе и возмущение неблагодарностью единомышленников вынудило его произнести новую импровизированную истерическую речь, после чего головной атаман неожиданно для всех порвал свое отречение, найдя, должно быть, что лучше иметь хоть гостиничную государственность, чем не иметь никакой.
Двадцать первого ноября последние петлюровские части и обозы под прикрытием войск Тютюнника бежали через мост на правый берег Збруча. Переправой никто уже не командовал. На мосту все смешалось в кучу. Возы наскакивали на возы, стрельцы и ездовые с бранью пробивали себе дорогу кулаками, телеги и лошади летели в воду, и предсмертное лошадиное ржание не трогало полуошалевших людей. Призрак Котовского наводил ужас на остатки петлюровских частей, и только самые смелые ломали на берегу оружие, чтобы оно не досталось полякам, и, плюнув на имущество, перебирались с голыми руками к своим вчерашним союзникам. А те бесцеремонно ощупывали их, забирали все, что можно забрать, не брезгуя даже часами с руки или шинелью с плеча, была бы только не слишком потерта.
Бригада Котовского уже приближалась к Волочиску и летела на Збруч, когда на мост, пробиваясь сквозь остатки «дикой» дивизии черношлычников и желтошлычников, прямо в месиво тел втиснулся подполковник Погиба. Его, одетого в крестьянскую свитку, чуть не столкнули в холодные волны реки, на которую уже ложились густые сумерки. Погиба с ужасом вцепился в ближайших петлюровцев, и человеческий водоворот выбросил его на другой берег. Можно было бы наконец легко вздохнуть, но сразу же на него налетел низкорослый, толстый жовнир с сизым носом, под которым торчали клыкастые усы. Оружия у подполковника не было, но жовнир вцепился в его руку, пытаясь сорвать обручальное кольцо. Погиба, не долго думая, тихо, без размаха ударил кулаком в то место, где сходились нос и усы мародера; тот дико вскрикнул, пошатнулся, и подполковник метнулся в темноту, где звенело оружие и смешивалась отборная брань союзников.
После голодных мытарств в Тарнополе Погиба вместе с пятью тысячами петлюровцев попал в болотистый Вадовецкий лагерь, сооруженный еще австрийцами для русских пленных. И здесь польские коменданты принялись голодом, холодом, жестокостью донимать солдатское мясо, готовое отправиться хоть к черту в зубы, лишь бы оставить обнесенный колючей проволокой полуразрушенный лагерь.
Гороховый суп, на поверхности которого вместо шкварок плавали свернувшиеся колечком черви, вонючая конина вызвали в лагере возмущение, но оно тут же было подавлено оружием союзников. Труднее было справиться с желудочными болезнями, чесоткой и страшными язвами.
Тысячи людей, загубленных за чужие грехи, оплакивали свою Украину, и лишь названия родных городов и сел звучали над ними отдаленным пасхальным благовестом. Вчерашние воины в соломенных или долбленых деревянных башмаках тенями сновали по лагерю, проклиная и себя и головного атамана, который так и не отважился приехать к ним из своей резиденции в отеле «Бристоль».
Подполковник Погиба, потеряв надежду, что его спасет Петлюра или кто-нибудь из высокого окружения атамана, с ужасом смотрел на последние конвульсии атаманщины и боялся только одного: опуститься до того уровня, когда жизнь потеряет уже всякую ценность. Пока у него были разные дорогие мелочи, он выменивал их на харчи, следил, сколько мог, чтобы не заели вши, а когда снял с исхудалого пальца последнюю ценность – обручальное кольцо, почувствовал, что все в жизни уже позади и не за что больше бороться. И в тот же день вши, предчувствуя обреченность жертвы, прямо-таки градом посыпались на него.
XXXV
Из-под серебряной стужи утреннего тумана выходят с солнцем тополя. На потрескавшейся коре тает розоватый иней, и вскоре деревья окутываются паром, словно теплое дыхание обвевает их. На ветках золотыми сережками покачиваются последние листочки, а на побелевшей траве еще темнеет прошва заячьих следов.
Данило Пидипригора, прижимая к груди закутанного Петрика, выходит на край села, разбросавшего по лесу беленькие хатки. У колодцев и на перекрестках уже меньше крестов – тиф больше не свирепствует в повеселевших селах, и реже налетают по ночам бандиты. После разгрома Петлюры власть сразу взялась за атаманов и батек, не сложивших оружие. Вот и сегодня где-то под Вербкой стрекотали пулеметы, и лошади без всадников добегали до самых Березовских лесов.
– Мама-мама, мама-мама! – кричит Петрик и размахивает ручонками.
Он заметил между деревьями мать.
Она легким шагом подростка спешит к своей семье, а в руке у нее раскачиваются нанизанные на лозину самые поздние грибы – зеленки, которые уже в первые заморозки подымают землю в сосняке и упрямо стоят под ее прикрытием.
– Соскучился, маленький? – Галина берет из отцовских рук сына, и Петрик привычно ищет грудь, хотя мать уже отняла его.
Лесная дорожка вздыхает, шелестя опалым листом, вьется между стволами и, словно в сказке, ведет в неведомые дали, туда, где солнце просыпает зернышки лучей на остывшие прогалины. Петрик снова переходит к отцу, а Галина, поправив под платком тяжелые косы, углубляется в дубраву, бережно срывает гроздь спелой калины и вдруг вскрикивает:
– Данило, иди сюда!
Он подходит и удивленно останавливается возле большого пня: между его отрогами, как два маленьких колокольчика, склонили свои головки только что расцветшие подснежники. Почему им, первенцам весны, вдруг вздумалось расцвести осенью, почему им не захотелось ждать своего туманного марта?
Галина, и до сих пор верящая в приметы, радуется цветам, но сомневается: к добру ли расцвели?
– Цветет все к добру, – заверяет ее муж. – Так и знай: с этой осени начинается наша весна.
И она по-детски верит его словам, осторожно, у самой земли срывает цветы, украшает ими свою еще девичью жакетку.
Дорожка выводит их к лесному пруду, от плотины, разметав косы, с радостным криком бежит Василинка. И только теперь Данило замечает, что у нее печально очерченный рот, да и темно-серые глаза не из веселых, хотя и блеснула в них радость при встрече. «Это лес делает людей такими», – решает он и отдает Петрика девочке.
– Ты мой маленький, ты мой славненький, пташечка ты моя! – воркует над ним Василинка, сообщая мимоходом взрослым, что мать ушла в церковь, а отец только что вынул соты и разрезает их на куски, а то скоро по тракту повезут красноармейцев, раненных в бою с бандой, надо же хоть медом их угостить.
В хате у стола, под вышитой богоматерью, стоит в чистой полотняной рубахе брат и торжественно разрезает соты, укладывая куски в большую деревянную миску. Ниточка меда блестит на его усах, и по ней сонно ползает пчела. Сейчас лицо брата больше нравится Данилу, чем несколько дней назад. Ага, это с него сползли тени страха, недаром он так радовался, что Петлюра бежал за границу, – теперь далеко головному атаману до Мироновой земли.
Мирон, улыбаясь, идет к гостям, наклоняется к Петрику, а тот с размаху бьет его ручонкой по лицу: мол, не колись своей щетиной…
– Гляди, какой забияка, – удивляется Мирон, а ребенок с криком «э-э» снова воинственно заносит на него руку, готовый по-настоящему защищаться. Все смеются. – Хороший у вас, Галя, сынок. А мне вот не везет на сына, – с сожалением говорит Мирон.
Позавтракав, все выходят на старый большак, где ветерок подымает золотые вороха липовых листьев. То тут, то там стоят в ожидании мужчины и женщины, держа в руках мисочки с едой, румяные пампушки, яблоки, хлеб, пачки медового табаку. Вокруг слышна жалобная бабья речь; мужики задумчиво переговариваются о том, как под Вербкой вдрызг расколошматили сучьих бандюг. Вдалеке из-за поворота высыпает кучка детей. Они бегут, крича на все село: «Едут, едут!»
Старый Горицвит с Дмитром подходят к родне Мирона, и Данило узнает подростка, которого видел в ветряке.
– Помнишь меня? – сердечно улыбаясь, спрашивает он.
– Помню. – Подросток бережно пожимает ему руку.
В другой руке у Дмитра котомка с грушами. На лице – ни кровинки: он вспоминает в эту минуту отца, и старик уже раскаивается в душе, что взял на тракт внука.
Между липами появляются первые всадники, высокие шарабаны и скрипучие крестьянские подводы, на которых лежат раненые. Женщины провожают их вздохами.
Люди обступают печальную вереницу подвод; над ранеными наклоняются девичьи платки, мужицкие бороды.
– Может, медку, сыночек?
– Белого хлебца свеженького попробуй…
На солому ложатся простые крестьянские дары. Молоденький, с перевязанной рукой красноармеец берет из рук Галины кусок душистых сотов и смеется.
– Спасибо, красавица, спасибо, златокосая! Пошли тебе бог неревнивого мужа!
Галина краснеет и тоже смеется. Она подает еще кому-то, и вдруг муж дергает ее за рукав. Она смотрит на его побелевшие глаза, потом переводит взгляд в ту сторону, куда глядит Данило, и видит знакомое лицо. Над высоким лбом разлохматились черные волосы, запали и побледнели смуглые щеки, заострился прямой нос, болезненно сжаты ресницы. Это Григорий Нечуйвитер. Галя со стоном бросается за подводой, и Григорий, словно услыхав ее стон, с трудом раскрывает глаза, но не видит ни свою первую любовь, ни своего соперника. Галина дрожащей рукой срывает с жакетки нежные колокольчики осенних подснежников и кладет их на грудь Нечуйвитру, как две капли своей чистой материнской любви к настоящему человеку. Данило обнимает жену, словно боится, что она теперь оставит его, и шепчет посеревшими губами:
– Вот и встретились, Григорий. Вот и встретились. Эк они тебя искалечили.
Подвода удаляется, изредка роняя на тракт капельки крови.
За подводой, погруженный в сумрачное раздумье, медленно едет смуглый, весь в кожаном, горбоносый красавец. При виде хорошенькой златокосой женщины, припавшей к Нечуйвитру, лицо всадника на миг оживила саркастическая улыбка, но он сразу же согнал ее с губ: этой ночью он лишился права подсмеиваться над Нечуйвитром, как подсмеивался еще несколько дней назад над его романтичностью, над тем, что Григорий находил время разбираться в делах какого-то петлюровского сотника. Этой ночью произошло нечто ужасное: когда бандитам удалось рассечь надвое их отряд и Кульницкий увидел над головой Нечуйвитра мертвенное в лунных лучах сияние скрещенных сабель, он ахнул в душе и со всех ног помчался в лес. Оттуда ему было видно, как от Нечуйвитра отлетели бандиты и лошади без всадников и как сам Нечуйвитер опустил голову на шею своего вороного. Тогда Кульницкий бросился на помощь, он опередил красноармейцев, но Нечуйвитер отвернулся от него, как от жабы, и упал на горячие руки бойцов.
«Выживет ли?.. Лучше умереть, чем мучиться от таких ран…» – думает Кульницкий, с сожалением глядя на раненого Григория, и ловит себя на том, что заглушает сочувствием подленький, недостойный его страх перед будущим. Хотя в конце концов не такой уж это смертный грех, что он на несколько минут убежал в лес. Может, и он там отбивался от бандитов, как Нечуйвитер на опушке?.. Это можно было бы назвать рождением подлости, но так мог подумать кто-нибудь другой, а не он. Лучше обдумать отчет о разгроме банды, прикинуть, сколько в конце отвести места Нечуйвитру, а сколько себе… Но и это, впрочем, зависит от того, выживет ли Нечуйвитер.
Когда печальная процессия уже выехала за село, к Мирошниченку подошел Иван Бондарь. Скорбь и сдержанная улыбка перемежались на его лице.
– Счастливо им выздоравливать! – Он кивнул головой вслед подводам. – А теперь, Свирид, может, пойдем ко мне?
– Что там у тебя?
– Сын родился!
Свирид Яковлевич дрогнул, но тут же овладел собой.
– Пусть растет на радость родителям и добрым людям. Когда родился?
– Вчера еще. Марийка хочет, чтоб я непременно с тобой первым выпил по чарке.
– Мать надо слушаться, – согласился Мирошниченко, чувствуя, как под веками накипает боль.
В хате Бондарей суетилась Югина и бабка-пупорезка, которая как раз в эту минуту клала в постель родильницы кусок железа, чтобы всякая порча от дурного глаза шла на железо, а не на младенца.
Свирид Яковлевич, увидав всю эту ворожбу, улыбнулся, а измученная Марийка махнула на него рукой:
– Нечего смеяться, хоть ты и коммунист.
Иван Тимофиевич достает водку, настоянную на калгане и семибратней крови[18]18
Семибратняя кровь – порошок красного (драконова) камня. (Примеч. автора.).
[Закрыть], наполняет чарки, а Свирид Яковлевич склоняется над колыбелькой, где спит маленький, сморщенный, как старичок, мальчишка.
– Ну как он? – с опаской спрашивает Марийка.
– Красавец! Весь в отца! А носик точеный! – отвечает Мирошниченко, и Марийка облегченно вздыхает: ей все казалось, что у сынка слишком приплюснутые ноздри. – За твое, Марийка, здоровье, за детей! – Свирид Яковлевич опрокидывает в рот чарку и лезет в карман, чтобы бросить новорожденному на зубок, но денег в кармане не оказывается.
– Ничего, Свирид, придешь покачать, – успокаивает его Марийка.
– Охотно, – соглашается он. – А твоему сыну я десятинку своего Левка дарю.
– Что ты, Свирид! Опомнись! – запротестовала Марийка, испуганная таким щедрым подарком. – Это ж земля дорогая…
– Пусть детский надел ребенку и послужит, – отвечает Свирид Яковлевич и быстро выходит из хаты, не в силах сдержать слез: больно уж ослабели у него глаза после смерти Левка и Настечки.








