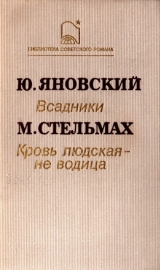
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
XX
Земля не может жить без солнца, а человек без счастья. В часы больших переживаний и тревог сердце наше похоже на родничок, который очищается от ила, – тогда познается истинная цена человечности, познается и счастье. В такие времена с удивлением узнаешь, как мало и как много надо тебе на веку, как плохо ты шел по своей дороге, как заученно повторял «добрый день», не творя этого доброго дня и, хуже того, сетуя на него, ибо щепки будней часто заслоняли для тебя золото лучей.
Такие мысли теснились в голове Данила Пидипригоры, и он растроганно смотрел и на землю, и на жену, и на ребенка. Он видел солнце и улыбался ему, дул на белые волосенки Петрика и задыхался в волнах нежности; он целовал стройные ноги жены и благоговел перед святостью женского тела.
Как на золотом снопе, лежала жена его на своих расплетенных косах, и ее милое, почти детское лицо напоминало ему святую Инессу Риберы. Она и до сих пор стыдливо прятала от него грудь и до сих пор опускала перед ним большие глаза, не познавшие еще, что такое страсть и что такое ложь. Его даже подчас пугало это: за что она могла его полюбить? Может быть, она просто вышла за него, как выходят замуж девушки, сами не зная зачем, в свои шестнадцать лет? Заворожит за воротами молодой месяц, ударит хмелем в голову терпкий поцелуй – и, глядишь, унеслось навек девичество, как волна по реке…
Нет, не такой была любовь его Галочки. Сердце ее уже обращалось к Нечуйвитру, когда он, Данило, увидел ее. Для нее Нечуйвитер был набатным колоколом, а он стал дудочкой, негромко перебирающей журчание знакомых мелодий. От звука колокола было радостно, просторно и страшно; он гремел от Украины до самой Сибири, а дудочка вела прямо в петровчанские ночи, к душистым стогам, к розмай-траве и любви. Девичья душа повздыхала по великому, неведомому и повернулась к привычному, к знакомым берегам. И вот уже по вечерам вместо: революция, партия, восстание, прогнивший царизм, буржуазия, кадеты, октябристы она слушала: рыбонька, ласточка, горлинка, сердечко – да изредка про автономию Украины и ее национальные притязания.
Летом они встретились, зимой поженились. На свадьбу пришли все приглашенные, кроме Нечуйвитра: в день их свадьбы у него был обыск, и жандармы погнали его в острог, только и успел передать через хозяйку квартиры шелковый платок для невесты. И этот цветастый шелк лег не на голову, глубоким укором лег он на совесть. Галя в смущении спрятала платок от себя и от мужа и только теперь, через несколько лет, надела его, потому что больше нечего было надеть. Данилу почему-то пришло в голову, что большевизм, быть может, становится необходимым не сразу, не каждый легко приходит к нему, – но об этом после, а сейчас он хочет только насладиться счастьем человека, возвращенного к жизни, раствориться в этом счастье без остатка.
Вечер льет в их комнату потоки несказанной сини, на небо выходят частые сентябрьские звезды. А может, это не звезды, а небесные слезы, дрожащие на ресницах ночи и тихо скатывающиеся на землю? Он чувствует, как этот вечер, и звезды, и стыдливая улыбка жены распрямляют его согбенную душу, омывают ее новыми надеждами.
– Галя! – Он склоняется к ней, подсовывает руки под ее плечи.
– Что, милый? – шепчет она.
– Ничего. Просто хорошо, что есть такое слово на свете.
– А я так же про твое имя подумала.
– Да? – И он еще ниже склоняется к жене и ощущает на своих щеках прикосновение ресниц. И это тоже счастье.
У каждого человека, как бы он ни был скверен, есть свой чистейший уголок в душе или хоть воспоминание. А у него было два таких прибежища: вешняя земля, запомнившаяся ему с детства: с желтыми от курослепа прогалинами, с вогнутыми дисками озер – да чистая душа жены. В годы разлуки он грезил землею своего детства, этими лужайками, на которых белились полотна и грубели ступни; в мечтах земля становилась во сто крат краше, и он неизменно видел на ней свою жену. Но когда он однажды за ужином заговорил об этом с товарищем по оружию Евсеем Голованем, тот только дольше задержал под усами снисходительную усмешку.
– Все это идеализация и стилизация, невытравленная психика отсталого мужика, для которого и до сей поры круторогие волы – ценнейшее сокровище, а стыдливая девчонка – идеал красоты.
Не умудренный, а испорченный Европой Головань преклонялся перед ее разумным практицизмом, стабильной государственностью западных стран и психологизмом, анализирующим до атома переживания и королев и проституток. Он знал несколько иностранных языков, а по-украински разговаривал с холодностью чужеземца, все, связанное с духовным миром украинца, легко окрестил застывшей стилизацией и отворачивался от таких вещей, как от чего-то низшего, доисторического. Клочок родной земли, простая девичья песня и женская добродетель уже не могли всколыхнуть ему душу – он привык жить и любить по-деловому – быстрее, чем жили и любили под украинскими вечерними зорями стыдливые деревенские девушки.
Отчего все это вспомнилось Данилу? Да просто по канве его счастья вышиты тени былого, страх перед будущим. Ведь кто знает, что с ним будет завтра: южное крыло фронта еще нависает над самым Бугом. Он отгоняет от себя дурные мысли и подходит к люльке. В корзинке из прутняка спит маленький человек, изредка чмокая губами, – это во сне ему кажется, что он припал к материнской груди. Как все это чудесно устроено на свете!
– Спит? – обеспокоенно спросила жена, вставая с постели.
– Спит.
Он прикладывает палец к губам и подходит к столу, где возле чернильницы лежат листки бумаги. Сегодня, после долгого перерыва, он со вкусом писал свои этнографические заметки, вплетая в них песни и поговорки. Для него эти заметки пахли золотыми полями, добрым духом ржаного хлеба. Они были полны светлыми верованиями человеческой души.
В сенях смешными, ломающимися голосами опять запели молодые петушки. Петрик проснулся, заплакал. Мать бросилась к нему. А Данило, улыбаясь, подошел к окну.
За окном, рассыпаясь, катилась звезда, ее последние зеленоватые капельки упали росой на землю, и в их отсвете на миг яснее проступила во тьме чаша дерева. По дороге проехала бричка и вдруг остановилась у забора. Из нее мягко выпрыгнули три человека и, пригибаясь, бросились к школе. Руки у них были так вытянуты, что всякий бы догадался – они держали оружие. Осторожные шаги совсем не тревожили землю, залитую половодьем синевы.
– Галя! – задыхаясь, прошептал Данило и отстранился от окна, за которым стала тень неизвестного.
Она по голосу поняла, что случилось недоброе, бросилась к мужу, и тут в дверь постучали.
– По мою душу пришли, Галя.
Он обнял жену, поцеловал ее лоб и косы.
– Не может быть, не может быть! – Она дрожала всем телом. – Ты же во всем, во всем признался.
«А может, это бандиты?» – вдруг обожгла его мысль, и он пожалел, что отдал оружие.
Дверь уже гремела под ударами. Он отстранил жену, достал из-под кровати топор, подошел к порогу.
– Кто там? – спросил одеревеневшим голосом, слыша позади плач Галины и Петрика.
– Отоприте, гражданин Пидипригора! – донесся властный голос, отдаваясь эхом в сенях.
– Кто вы будете?
– Из губчека.
На крыльце послышались шаги еще двоих.
Топор выпал у Данила из рук. Жена вскрикнула, бросилась к нему, а он уже не ногами, а всем телом двинулся вперед, заболевшими руками отпер дверь. Электрический фонарик ослепил его, чьи-то жесткие губы спросили:
– Вы гражданин Пидипригора?
– Я, – механически ответил он.
И жесткие губы скомкали его душу.
– Именем республики вы арестованы.
– За что? – вырвалось у него.
– За что? – стала между ними Галина.
– Вам виднее, – раздался безжалостный ответ, а второй фонарик уже гулял веселым глазом по его комнате, освещая волосы жены, Петрика в люльке, чистую бумагу на столе…
Данила под руки вывели на улицу, усадили в бричку. К его ногам еще раз припала жена. Ее оторвали, бричка тронулась; по обочине с криком бежала женщина, позади нее колыхался темный сноп волос.
Один из конвоиров оглянулся, пожалел:
– Славненькая!
Данило рванулся с кожаного сиденья.
– Пустите, пустите! За что вы меня?..
Но дюжие руки скрутили его. Он, до боли выгнув голову, увидел только, как жена упала наземь. Маленькая, вдали от него, она лежала, как сноп, неведомо кем потерянный на пыльной дороге.
А бричка мчится уже по сонному тракту, вековые липы черными птицами отлетают назад, словно распятые надежды, удаляются кресты, оборонявшие село от тифа, и копыта лошадей выбивают одно и то же мучительное слово: «Губ-че-ка, Губ-че-ка!»
XXI
На солнце под роями мошкары плавится лесной прудок Ивана Сичкаря. Под берегами зеленеют курчавые тени ивняка, а в глубине расплетается кружево туч.
От берега незаметно отходит челнок; в нем, согнувшись, в очках на носу, сидит седобородый дед Ивана и читает святое писание. Прежде он по праздникам заглядывал в божественные книги, а теперь, когда руки не пригодны больше ни к какой работе, сидит над Библией и в будни.
Челнок покачивается на воде, в глазах рябит от букв, и за прудом возникают далекие царства, грозный еврейский бог, смиренный Иисус и его апостолы. И старик, сплетая давнее с сегодняшним днем, тяжко вздыхает: прежде-то по земле ходили боги да угодники, а теперь шляются сатанинские дети. Что уж говорить о чужих, когда он своего родного внука побаивается. И старик поворачивает голову к высокому частоколу, который так плотно огораживает постройки, сад и огород, что и ужу не пробраться.
Старый Никодим побаивается своего внука – у этого разбойника нет бога в душе, – и хотя Ивану сегодня снова отправляться в тюрьму, это не печалит деда.
«Хоть бы его, вражьего сына, там научили человеком быть. Ведь нет у выродка тепла ни к людям, ни к скотине. Забарышничался до мозга костей».
На заросшей спорышом и травой дороге, где белеют только неглубокие колеи, показывается Данило Заятчук. Вот он увидел старого Никодима, улыбнулся ему грубо вытесанным лицом, снял старый, залоснившийся картуз и загудел над разомлевшим прудом:
– Добрый день, дед Никодим! Как здоровьечко? Перезимуете еще?
– Какое уж здоровье у деда!
– Теперь и у молодых не больно звонко. – Загорелая лысина Заятчука переливается на солнце. – На корню убивают и людей и здоровье.
Старик поднимает палец, поучительно произносит слова святого писания:
– И не бойтесь убийц тела, ибо душу нельзя убить.
– Душа душой, а и тела жалко, – вздыхает Заятчук и вплетает руку в спутанную бороду. – Иван дома?
– А где же ему быть!
– Собирается в дорогу?
– Должно, собрался уже. Ступай к нему скорей, а то, чего доброго, без тебя и водка скиснет.
– Ге-ге-ге, не скиснет, дед, мы ей как-нибудь сообща пособим! – смеется Заятчук и бодро направляется на пропахший лесом двор.
Здесь его поражает новшество: вдоль всего частокола густо сплелись деревца боярышника.
«Вот сукин сын, догадался огородиться – теперь никто не перелезет, а кто и полезет, без глаз останется», – думает Заятчук, осматривая колючую изгородь.
Возле разинутой пасти парильни смазывает колесной мазью железные оси брички батрак Сичкаря, и даром что на парне вместо одежды лохмотья, он беззаботно насвистывает «Метелицу», а все его тело и даже кисть пританцовывают при этом. Заятчук не раз замечал, что этот бесенок даже в церкви приплясывает, а на гулянках выкидывает в своих отрепьях такие коленца, что и мертвец не улежит, глядя на него.
– Павло, где дядя Иван?
Белоголовый Павло Троян проворно оборачивается к Заятчуку и указывает кистью в глубину двора.
– На огороде!
– Покидает тебя хозяин?
– Да, вроде едет, – отвечает паренек, переходя на другой мотив.
– Может, у тебя мало будет работы? Так переходи ко мне, – понижает голос Заятчук. Он знает, что у Павла в руках все горит, и не первый день собирается переманить его.
– Может, и сойдемся в цене, ежели харчи будут как у людей.
В уголки серых глаз Павла заползает насмешка. Ему давно уже осточертело служить у немилосердного Сичкаря, который даже собственную жену молотит, как сноп. В прошлом году мальчуган хотел было сбежать к красным казакам, да не взяли – не дорос до коня и шашки. Жаль, не догадался увести у хозяина жеребца, – тогда приняли бы.
Заятчук подходит ближе к Павлу и тихо, сочувственно говорит ему:
– У меня, парень, в таких отрепьях не будешь ходить. Забегай завтра, поговорим. – И степенно проходит на большой, в две десятины, огород Сичкаря.
За спелой кукурузой с почерневшими уже космами кланяется в пояс неубранное просо, дальше голубеет капуста, а за нею гнутся подсолнухи. Между ними ворочается тяжелая туша Ивана Сичкаря: он секачом обрубает постаревшие головы подсолнухов, оставляя на изувеченных стеблях нетронутые кружочки молодых цветов.
Заятчуку эти высокие стебли подсолнухов чем-то напоминают людей; он смотрит, как Сичкарь мастерски орудует острым секачом, и смеется:
– Рубишь головы отцам?
Сичкарь как будто понимает, о чем подумал Заятчук, – махнув секачом, он кладет себе под ноги большую голову немногодетного подсолнуха и значительно отвечает:
– Отцам и следует рубить головы, а дети пускай живут.
Его низковатый голос и усмешка на обезображенном лишаями лице обдают гостя холодом, и тот уже кается, что захотел переманить к себе Павла. Может, лучше поговорить об этом с самим Иваном, ведь и он не больно-то доволен своим батраком?
По дорожке, размахивая широкими рукавами белой сорочки, спешит дородная, коротконогая и быстроглазая Зинька, жена Сичкаря; от ее пестрой, красной юбки испуганно отскакивают, словно отдергивают руки, вершинки черного проса. С проса взлетают воробьи, распевая свое «жив-жив».
– Иван, ступай скорее, гости сердятся! Нашел себе работу! Добрый день, Данило!
– Доброго здоровьичка, Зинька! Красивеешь? – Он любуется тугим, налитым здоровьем лицом женщины.
– Где уж нам теперь красиветь! – приложив руку к груди, вздыхает она для Ивана, а сама играет глазами для Данила, который хоть и некрасив, да силен, как вол.
Иван, глядя на жену, грустнеет. Не больно-то ему хочется покидать все это приволье и отправляться за каменные стены тюрьмы. Надо же было тогда заупрямиться! Завез бы зерно – и не грызли бы казенные клопы. А всему виною Мирошниченко. Ну, да не долго Свириду землю топтать! Пойдет как миленький туда же, куда и Пидипригора.
Сичкарь подходит к дорожке, где лежат сапоги, отряхивает с одежды золотистую пыльцу подсолнуха и, стоя, бережно обматывает онучей полную, выбеленную жиром ногу. На подсолнухи все с тем же «жив-жив» налетают воробьи. Над Сичкарем носятся запахи конопли и надрубленных подсолнухов, и от этого еще круче замешивается в нем злость на Мирошниченка.
В хате уже накрыты столы, но гости толпятся возле порога и сундука. А когда входит хозяин, с сочувствием здороваются с ним, вздыхают, морщатся и садятся на топчаны и лавки. Кто-то вспоминает, что нет старого Никодима, но Зинька под одобрительный смех поясняет, что при новой власти дед заглядывает не в грешную чарку, а только в святую книгу.
– Дай боже нашему Ивану добрую дорогу, да чтоб скорей возвращался к хозяйству и к жене! – торжественно поднимает чарку Ларион Денисенко.
Гости выкрикивают: «Дай боже!» – а Иван в это время грустно переглядывается с Настей, которой, верно, больше всех жаль, что он уезжает из села. Даже ее навек обозленные глаза подергиваются тенью. Зинька видит, куда смотрит муж, и кипит от злости, но не выказывает своих чувств, а манерно собирает губы в оборочку. Если он и в такое время заглядывается на эту, то нечего ей, Зиньке, тосковать по своему благоверному.
Сидели все недолго – не с чего было веселиться, да и большинство из них думало не столько о Сичкаре, сколько о своей земле.
Попрощавшись и проводив гостей за ворота, хозяин еще раз грузно прошелся по двору, забросил на бричку тугую, завязанную у самого края суму с харчами, бережно уложил в ногах две бутылки с самогоном и подсадил жену на задок.
Павло запряг лошадей и хотел было вскочить на бричку, но Сичкарь взял у него кнут.
– Оставайся дома, я сам буду править.
– А назад как? – удивился парнишка.
– Хозяйка управится, – кивнул Иван на жену. – Пускай приучается при новой власти.
Добрые кони вылетели со двора, промчались мимо пруда, где, согнувшись в челноке, все еще внимательно читал святое писание старый Никодим.
– Что же ты Павла не взял? – спросила жена. – Я этих лошадей как огня боюсь.
– Учись сама править, теперь коммуния идет, – отрезал муж и до самого села не промолвил больше ни слова.
«О Насте думает», – еще больше обозлилась жена.
В селе Сичкарь, словно напоказ, останавливался возле дворов родичей, нес впереди себя бутыль и, выпив по чарке, снова петлял по улицам, не минуя ни близкой, ни дальней родни.
Все село видело, как Иван Сичкарь прощался со своим родом, отправляясь в тюрьму.
XXII
Сентябрьское солнце незаметно опустилось за растреснутые неплотные облака и тотчас расстелило далеко за лес недобеленные холсты. У опушки злобно прокартавил, протокал пулемет, и, задыхаясь от страха, по-женски заахало эхо на леваде.
Докия, прислушиваясь к выстрелам, остановилась возле перелаза.
«Опять, верно, банда объявилась. Не напали ли на комитетчиков?» Она вздохнула, думая не столько о банде, сколько о Тимофие. Он снова, еще до рассвета, ушел делить барскую и кулацкую землю и все еще не возвратился домой. Неуемной женской болью защемило сердце: какая бы ни случилась беда, Докия первым делом тревожится за мужа, за всех родных да кровных, не зная кого и просить, чтобы хранила их судьба от напасти.
Подумать – сколько лет прошло с тех пор, как молчаливый, суровый Тимофий впервые неумело приласкал Докию, уже и сына какого вырастила, а все и теперь, как девушка, любит, как девушка, тоскует по мужу, хотя на людях ни одним словом не выказывает своих чувств… А когда появился на свет Дмитро, когда раскрылся светлый и тревожный мир материнства, в ее любовь неприметно влилась еще новая струя: Тимофий стал для нее не только отцом ее сына, но как бы и ее отцом. Может быть, потому, что как раз в ту пору умер ее старый отец. И до радостной боли хорошо было Докии, в сумерки встречая возвращающегося с работы мужа, прижаться к нему, положить голову на грудь и вдохнуть не выветрившиеся из складок его одежды запахи широкой степи или хмельного леса.
– Эх, ты! – коротко скажет он, улыбнется черными грустными глазами и, как ребенку, положит ей на голову сильную руку.
– Соскучилась я по тебе, Тимофий! Так соскучилась, будто ты вот только с германской войны пришел.
– Чудно! – Он снисходительно глянет на нее и по привычке задумается, погрузится в свои заботы.
…Солнце выскочило в узкий просвет меж облаками и бросило под ноги женщине живую, узорчатую тень раскидистой яблони.
Вдали звонко зацокали подковы, и вскоре показались четыре всадника на рослых, гладких конях. Трое верховых были в буденовках, а четвертый, очевидно командир, в кубанке.
За плечами карабины, на темно-синих галифе красные лампасы. Обгоняя верховых, бешеным наметом промчалась пулеметная тачанка, и высокий вихрастый казак, молодцевато стоя во весь рост, что-то крикнул всадникам через плечо. Те расхохотались, кинули вдогонку пулеметчику какие-то слова про банду Гальчевского и разом, дружно, в лад, запели молодыми голосами песню Богунского полка.
«На банду едут, а смеются, поют, будто им и смерть нипочем! Вот народ!» Женщина проводила кавалеристов долгим, затуманенным взглядом.
Вот уже и скрылись они за поворотом, – может, навсегда. Вот уже и песни не слышно, а сердце все щемит и щемит: тревожится Докия о чужих детях, как о своем сыне.
И уже не слышит она, как подкатывает к воротам пароконная подвода, как входит во двор ее высокий, горбоносый Тимофий.
– Докия! – как из глуби земной, окликает ее глуховатый родной голос.
И она спешит навстречу, одновременно замечая и просветлевшее лицо мужа, и Свирида Яковлевича возле коней, и плуг, и рыбачью снасть на телеге.
– Снова куда-то собрался, Тимофий? Добрый день, Свирид Яковлевич. Заходите в хату, – с легким поклоном приглашает она.
– Доброго здоровья! – Мирошниченко кивнул из-за тына круглой головой, горделиво посаженной на широкие плечи. – Некогда посиделки устраивать, поскорей мужа отпускай. Утром начнем пахать свои наделы.
– Барскую землю? – поразилась Докия, как будто не знала ничего, не ждала этого надела, не видела его во сне и наяву.
– Не барскую, свою! – смеется председатель.
– Свою? – все еще недоумевает она. – Своя же десятина уже засеяна.
– Теперь и эта своя. Барская была да сплыла.
– Значит, барскую? – переспрашивает Докия, словно желая, чтобы чье-нибудь слово еще раз подтвердило ее радость.
– Да не барскую же, а свою! – Широколицый, кряжистый Мирошниченко раскачивается от смеха. – Никак не привыкнете, что это уже ваша земля!
– Наша, наша! – облегченно вздыхает она и, все еще не в силах поверить, застывает посреди двора.
Мысли затопляют ее, как паводок. Могучая, теплая волна перекатывается по телу, и Докия уже не видит ни осеннего неба, ни маленького двора, ни черного, покосившегося тына, кое-где поклеванного пулями…
Густо-зеленые утренние поля встрепенулись, переплеснулись через искристый горизонт, заволновались на фоне золотого литья туч и умылись солнцем. И уже не видать на них ни мотков колючей, пережженной непогодами проволоки, ни линии окопов; даже свежие красноармейские могилы омываются всплесками ярой, чубатой пшеницы, горят красными бантами маков, поднимают солнце из-под земли. И не пули подсекают колоски – раскачивает их перепел, счастливый, что теплыми комочками покатились его птенцы по земле, на молодых крылышках поднялись в небо. А она, Докия, идет, все идет с Тимофием полевой дорогой на свою ниву.
Певучий колос ластится к ней, детскими ручонками пазуху ищет, обдает босые ноги душистой росой.
«Неужели все это будет?..»
И она вздрогнула, словно увидела свои бесталанные молодые годы на клочке черной тучи…
…Высохшая степь.
Барская пшеница.
И потрескавшиеся до крови, обугленные губы жнецов. Задыхаются от жары грудные ребятишки, старичками родившиеся на батрацкой каторге. И нет у матерей молока в иссохших грудях, одни соленые слезы в глазах. И капают они на желтые детские личики, на горький тринадцатый сноп.
Вот ее мать на третий день после родов, не разгибая спины, подсекает серпом хрупкую, перестоявшуюся пшеницу. Скрипит зубами от боли, кусает распухшие губы и все-таки жнет, изнемогая над тринадцатым снопом.
– Мама, присядьте, отдохните.
– Сейчас, дочка.
Мать поглядела так, словно все небо хотела вобрать горестными глазами, выпрямилась, отерла пот со лба, охнула и, выронив серп, стала оседать рядом с ним. Она порезала черные пальцы, но кровь не брызнула, лишь несколько тяжелых капель с крохотными пузырьками пены выступили на помертвевшей руке. А на темных от пыли губах высыпал розовый пот.
И тут только Докия с ужасом увидела, что лицо, жилистые руки, исцарапанные ноги матери были черны, словно свежераспаханная, переплетенная корнями вырубка.
– Отлетела жизнь, как сизый голубь. – Над матерью горбатой тенью склонилась пожилая, высушенная солнцем и батрацкой бедой жница.
– Легкая смерть – на работе, – позавидовал кто-то из батраков.
– На чужой работе ни смерти, ни жизни легкой не бывает! – будто из глубины столетий донеслись чьи-то слова.
И под их ноющий осенний шелест перед глазами колыхнулась могила матери, проплыла в ряду других холмиков, как челнок на горбатых волнах. Над могилой пламенеет ярким платочком омытая росою калина. Как невыплаканные слезы, годами падает роса с тяжелых гроздей на изголовье полузабытой батрачки, в нужде родившейся, в муках дочь породившей и в горе умершей на чужом, колючем жнивье. Там, где калина роняет дымчато-розовые капли, гуще кустится и выше растет трава.
Дважды за лето выкашивает ее глухой сторож с седыми спутанными ресницами, и в низеньких копнах сена ветер перебирает грустные странички сотен таких различных и таких похожих одна на другую историй пасынков земли.
…Докия поспешила отогнать тревожные видения и пошла за мужем в хату.
– Приготовь мне в поле чего-нибудь. – Тимофий ласково посмотрел на нее. – Ну, хозяйка, прирезали нам три десятины земли. Рада?
– Три десятины? – Докия, все еще не веря этим словам, подошла к мужу. – И навсегда? Или может, на год– два? – спросила недоверчиво.
– Навечно. Чем теперь не хозяева? Землю дали, коня дали, плуг на двоих дали. Вот что значит, Докия, закон Ленина, своя власть. – Тимофий твердо прошелся по хате. – Ты назавтра сготовь что-нибудь: люди наши придут, надо же отметить свое счастье, – может, и оно с нами наконец за один стол сядет.
Молодая женщина только головой кивнула, потом улыбнулась своим мыслям, и вокруг ее карих глаз засияли морщинки.
– Хоть бы нам, Тимофий, еще полдесятинки прирезали, было бы целых пять – круглое число.
– Ты гляди, и не ошиблась, – засмеялся Тимофий, чуть ли не впервые заметив, что у жены кожа вокруг глаз светлее, чем на всем лице.
– А что, неправду я говорю? – засмеялась и сама Докия, зная, что подумал муж.
– Так ты подай в комбед заявление. Так и напиши: «Для ровного счета недостает полдесятинки, выкройте где-нибудь».
– Я бы и написала, только бы дали…
– Магарыч поставь.
– И поставила бы.
– А самогонку где взяла бы?
– Выгнала бы такую, что синим пламенем горит.
– Век живи – и все равно женщину не распознаешь! – изумляясь, махнул рукой муж. – Будет скотинка да здоровье, так и на этой земле всходы, что твой Дунай, поднимутся, не придется на чужом пороге пополам сгибаться – в долг просить.
Докия от радости не знала что и сказать. Она всем телом прильнула к мужу, чувствуя, как счастливые слезы пощипывают глаза. От Тимофия веяло осенним полем, поздним, горьковатым листом и терпкой коноплей, которая еще на корню отдает влажной сорочкой труженика.
Вспомнилось ей, что на весеннюю пахоту и ее отец и Тимофий всегда надевали рубахи, в которых причащались. А чем теперешняя пахота хуже! Докия бросилась к сундуку, подняла тяжелую крышку, достала чистую, чуть измятую сорочку, намотала ее на скалку и раскатала.
– Надень, Тимофий, ведь на пахоту едешь.
Он повел глазами на жену, потом на рубаху, удивленно хмыкнул и стал переодеваться – Докия лучше его знала все поверья, связанные с землей, в них еще можно было сомневаться, но пренебрегать ими не следовало. Свежее полотно приятно холодило тело. Эта рубаха соткана из тончайших ниток, какие только Докия сумела выпрясть. Недаром говорили на селе, что у нее из-под пальцев и простое волоконце выходит серебряной нитью.
– Ну, пора мне. Эх, ты… – Хотелось сказать что-нибудь ласковое, но не смог найти нужное слово. Он обнял одной рукой жену и – удивительно! – поцеловал ее черную косу. Потом вышел.
– Тимофий, – она, волнуясь, догнала его в сенях, – не ехали бы вы на ночь! Банда Гальчевского совсем озверела… За землю души выдирают…
Докия говорила так, будто муж и без нее не знал, что делается вокруг.
– Пошли бабьи разговоры! Волков бояться – в лес не ходить. Не долго им на кулацких харчах отъедаться. Да у Свирида Яковлевича и трехлинейка с собой. Ну, не вешай голову. Вот не люблю! Вечно ты переживаешь. Сказано – баба! – И он, сильный, неторопливый, уверенно пошел к воротам.
А у Докии после суровых слов мужа стало спокойнее на душе: пока есть на свете Тимофий, все будет хорошо и нечего бояться. Она заторопилась следом за ним, вынесла порыжелую от непогоды и времени свитку, чтобы ночью в поле Тимофий прикрыл простреленные на войне ноги, и влажными от волнения и счастливой истомы глазами проводила его вдоль большака, по которому недавно проехали конники.
И не пришло женщине в голову, что никогда уже больше не увидит она своего мужа живым.
Вот подвода поднялась на пригорок. Голова Тимофия мелькнула еще на миг и скрылась за развесистыми деревьями большака, влетающего с разгона в нависшие предосенние тучи.
– Чего задумался? – Энергичное лицо Мирошниченка подобралось в осанистой, упрямой улыбке. – Все про землю?
– Эге, – коротко ответил Горицвит.
– Растревожили осиное гнездо. Ишь как завыло кулачье! Ни дать ни взять – волчья стая! Их бы воля – не одного из нас уложили бы за землю в землю.
– Да, – соглашается Тимофий, – помещики-то сбежали, а ихнее семя да коренье в кулацких хатах и хуторах так и шипит. Не отдадут нам богатеи своих полей даром. Придется еще крепко повоевать с ними. Не из таких Варчук и Денисенко, чтобы свою землю дарить. Видал я, какими глазами они на нас глядели. Морщинки на роже у Варчука так и корчатся, точно его живым в могилу кладут. – Горицвит даже вспотел от такой длинной речи.
– Ничто им не поможет. Прошлого не вернешь, хоть волком вой. Да ну их к бесу, гнездо гадючье! Лучше про жизнь поговорим.
Но разговор пришлось отложить – позади зацокали копыта, и мимо промчалась легкая бричка, накручивая за собой косой столб пыли. Сытые кони, закусив удила, вытянулись в струну и, казалось, не бежали, а летели, разметав крылья грив. Худой черный седок весь подался вперед, свесив согнутые в локтях руки, вот-вот упадет на лошадей. Он обернулся, и черные глаза блеснули неудержимой злостью, задымились синие белки.
– Сафрон Варчук! – удивленно пробормотал Тимофий.
– Тьфу! Куда его черти несут на ночь глядя? Неужто землю отрезанную смотреть? – Мирошниченко даже приподнялся.
– Как бы он в банду не подался. Недаром говорят, с Шепелем дружбу водил, а Гальчевский – правая рука Шепеля.
Пыль, поднятая бричкой, медленно улеглась, только взлетали вспугнутыми птенцами сухие листья.
На дороге, под высоким шатром деревьев, раскачивающим дрожащее, низкое небо, замаячила одинокая фигура.
– Гляди, это не твой Дмитро идет?
К ним легкой походкой приближался стройный белокурый подросток. Густые, с живыми искорками волосы, подрагивая, касались нависших, тяжелых, как два колоска, бровей.
– Добрый день! – поздоровался Дмитро со Свиридом Яковлевичем. – Куда вы? – И в темных глазах блеснул огонек догадки. – Барскую землю пахать?
– Свою, Дмитро. Нету теперь барской. Вся – наша. – Тимофий не заметил, что повторяет слова Мирошниченка.
– Наша! Даже не верится! – улыбнулся подросток и, ухватясь за грядку, ловко вскочил на телегу, свесил ноги и принялся отбивать пятками дробь по шине и спицам колеса. В каждом его движении чувствовалась гибкая, упругая сила, а румянца не погасил и густой загар.
– Не верится, говоришь? – загремел Свирид Яковлевич. – Это тебе, парень, не в экономии за пятиалтынный жилы выматывать. Теперь будешь на своем поле работать. Ты только вдумайся: первейший декрет Советской власти был о чем? О земле! Недавно в госпитале прочел я книгу «Пропащая сила»[14]14
«Пропащая сила» – роман Панаса Мирного.
[Закрыть]. Тяжелая книга, про деревню. «Море темной простоты» – вот как написано там об измученных, ограбленных тружениках. И правда: чем отличался мужик от рабочего вола? Вол шагал впереди плуга, а мужик позади над чужим плугом грудь надрывал. А революция нас сразу из моря темной простоты до людей подняла. Без нее никому бы из нас не то что земли – жизни не видать.








