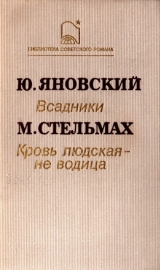
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Домой пора, а то мама сказала, что сюда с пестом прибежит.
– Га, это ты, Клим? – Василенко сперва удивился, а потом неуверенно потянулся рукой к бутылке, налил в чарку самогона. – Выпей, сынок, зелье доброе.
Клим взял чарку, внимательно посмотрел на нее, и лицо у него стало степенное, как у настоящего, почтенного хлебороба; он одним духом осушил чарку и сразу поставил ее; маленький рот его искривился от горечи.
Даже Супрун не выдержал.
– Клим, побойся бога, раз людей не боишься! Где ж это видано постольку разом потреблять этой дряни! – воскликнул он, показывая пальцем на порожнюю посуду.
– Я, дяденька, привычный, – не обиделся, а рассмеялся Клим и потянулся тонкой рукой за хлебом.
И Супрун, хоть не его дело было поучать при отце чужого сына, стал ему выговаривать:
– Пропадешь, парень, ежели за отцом потянешься. Не доведет он тебя до добра. Маму, свою маму слушай – она у вас мученица.
– А я долго при отце не буду, поеду в город на курсы, – беспечно ответил Клим и набил полный рот немудреной закуской.
Супрун знал – Клим и сынок Олександра Пидипригоры лучше всех учились в церковноприходской школе, а теперь вбили себе в голову, что будут и дальше учиться. Им, вишь ты, не хочется барахтаться в навозе. Ну, Юрко, может, и станет человеком, а на кого выучится Клим, который уже и работать ленится, и до чарки охотник?
Из светелки торжественно вышла Федора, равнодушно посмотрела на Клима и разжала перед Супруном кулак. На ее ладони лежали две пары цыганских сережек; одни были черные, с огоньком, а другие сияли, как осколки солнца.
– Вот эти я возьму. – Супрун взял с Федориной ладони те, что получше. – Сколько за них?
– Денег не беру, только хлеб.
– Много?
– Мешок пшеницы.
Супрун лишь на миг сдвинул брови – не слишком ли дерет с него баба? – но сразу же проговорил:
– Завтра привезу тебе хлеба. Можно брать твои игрушки или не поверишь?
– Кто ж вам на селе не поверит! Берите. Даже самой жаль, – вздохнула Федора, почтительно провожая его до дверей.
На улице Супрун разжал кулак, внимательно рассмотрел две маленькие, похожие на кувшинчики сережки, и его охватило сомнение: стоило ли их брать? Это сомнение мелькало среди его неповоротливых, тяжелых мыслей все время, пока он шел домой. Он не удивился, что Олеся все еще сидела на бревне возле овина, подперев подбородок коленями. Услыхав его шаги, она проворно поднялась, пошла ему навстречу, а он равнодушным движением вложил ей в руку украшения, запоздавшие на двадцать лет.
– Что это? – удивилась она, разжав руку, и ахнула в испуге. Не золотые сережки увидела она, а свою ушедшую молодость, и на ее по-девичьи густых ресницах закипели слезы.
– Глупая баба, – неодобрительно покачал головой Супрун, которого слезы не трогали, а злили. – Не покупал сережек – плакала, купил – тоже плачет…
Они не заметили, как за спиной у них очутился подкравшийся Гнат. Он увидал сережки и довольно кивнул.
– Вот это, отец, верно, теперь самое время золото покупать. Золото капитал при всякой власти.
XIV
Левко просыпается, раскрывает глаза и сразу холодеет – Настечки возле него нет. В тишине его сердечко стучит и разносит страх по всему тельцу. Мальчик поднимает голову к окну – там на подоконнике стоят в горшочках герани, а проказник месяц опрокинул окно прямо на разостланный на полу мешок, и на нем тоже чернеют тени цветов. Левко боится смотреть на месяц, а то станешь лунатиком и в лунные ночи будешь без памяти ходить по селу, даже по крыше колокольни можешь безопасно разгуливать, только если крикнет кто, проснешься и разобьешься о землю.
От Левка отлетают остатки сна, и перед ним мелькает столько видений, сколько глазами никогда сразу не охватить. Но между далекими колокольнями, полями, лугами и месяцем носится страх; ведь совсем неизвестно, что притаилось у дверей, на печи, под столом и под лавками. Того и гляди, затанцует дежка с водою или выскочит лохматый домовой из горшка.
«Да ведь третьи петухи давно уже пропели!» – обрадовавшись, мальчуган взглядывает на месяц, на который нельзя глядеть. Вокруг месяца лисьим мехом золотится неширокое кольцо – на дождь показывает. А почему же сверчок поет на вёдро? От примет, которые Левко ежедневно слышит от старших, мальчик переходит к мечтам. Сперва у него вырастают крылья, и он летит над своим селом, а на него с изумлением и завистью смотрит вся детвора, все, кто собирает на лугу щавель или пасет стаи серых гусей. Гусак Разбойник вытягивает к нему змеиную голову и не шипит, а только хлопает крыльями. Куда тебе, гусачище, до Левка! Тебе выше вербочек не взлететь, а Левко летит под самое облако, где живут радуга, молния и гром…
Грома и молнии он боится, а радугу любит – она представляется ему девушкой, которая убрала свой венок разноцветными лентами, словно невеста. И весна тоже кажется ему девушкой, только радуга живет на облаке, а весна ходит по земле, ее можно увидать на лугу, когда там вербы распускаются, или в поле у родничка, когда она воду набирает, либо на реке, когда она едет на серебряном челноке, правит золотым весельцем. Он уже не раз бегал с Настечкой и на реку, и на луга, и в поле встречать весну. Но так по-настоящему и не видел ее. Пока он смотрит в одну сторону, Настечка тычет пальцем в другую: «Вон, вон пошла!»
Глянет он на легкую прозелень густого ивняка, увидит, что там в зеленом оконце кто-то всколыхнул молодые ветки и скрылся. И так досадно мальчику, что не увидел весны, прямо плакать хочется. А Настечка уже дергает его за рукав, показывает большими глазами на купу верб, которая то распрямляется, то гнется под ветром.
– Вон, вон промелькнула! В зеленой юбочке и в венке… Неужто не заметил? Вот раззява!
Но он снова не видел ни зеленой юбочки, ни венка. Брат и сестра бегут по следам весны, из-под ног солнечными брызгами разлетается вода, отскакивают лощеные головки желтой калюжницы, взлетают тонконогие голубенькие, как клочки неба, трясогузки. А весны все нет. Пробегут еще немного – и вдруг Настечка остановится и снова кивает головой, показывает пальцем.
– Вот, кажется, возле озерка пробежала, в камышах.
Они мчатся к круглому, как мисочка, озерку. Вокруг него, над самой водой, взялись за руки кудрявенькие кусты ивняка и взапуски, как дети, ведут свой зеленый хоровод. А у самого берега, выставив из воды гладкую голову, плывет толстый, словно крученый, уж.
Дети от неожиданности приседают, со страхом смотрят на два противных желтых пятнышка на его голове, на бесшумную зыбь за хвостом ужа.
Недалеко от них уж высунулся из воды, покрутил головой и выполз на ветку. Под его тяжестью она, бедная, опустилась к самой воде, забилась, вся дрожа, а он, изгибаясь, пополз по ней к стволу деревца. И вдруг дети видят, что он подбирается к маленькому гнездышку.
– Ой, соловьиное гнездышко! – кричит Настечка и оглядывается вокруг.
Сразу осмелев, дети бегут за палками. Уж только потянулся к соловьятам, как Настечка и Левко ткнули в него с двух сторон палками. Уж отпустил ветку – и бултых в озерко! Разъяренная девочка сгоряча бьет его еще раз, уже в воде, а потом вдруг плачет.
– Какой противный, мерзкий – соловьиных птенцов хотел съесть!
– А мы ему хорошо всыпали, до новых веников запомнит! – утешает ее Левко.
Но Настечка еще долго-долго не успокаивается: она напоминает братишке, что всю родню их матери на улице звали соловьями; мама не раз, лаская, называла их соловьятами, говорила, что они будут петь, как дедушка, к которому даже из какого-то большого города приезжали ученые люди и он им пел жалостные песни, а веселых не хотел. Дедушка теперь уже не поет, а только кашляет, смеется и утирает веселые слезы, когда Настечка танцует и распевает перед ним:
Ой, найму coбі цимбали,
Щоби ніженьки дримбали,
Гех!
Щоби нiженьки дримбали,
Дрібушечки вибивали,
Гех!
– До чертиков ловко у нее получается! – хвалит дед внучку своей сестре, бабке Олене. – А «гех» она сама для пляски выдумала. Телом пляску понимает!
Но бабку не радуют ни песни, ни выдумки в пляске. Она корит и деда и внучку:
– Что старый, что малый – один толк, один грех.
Песни она признает только церковные, а от дедовых песен и трубки всегда пахнет грехом.
Пока Левко все это вспоминает и мечтает на будущий год непременно встретить наконец весну, за соседскими огородами начинается рассвет. Синева, словно вешние воды, обступает овин Карпца, а из-за него, как заспанные гуси, показываются белые облачка. Под окном истекают росой пышные георгины, принесенные отцом с господского двора. В глубине расцветших головок еще таится темь, а кончики лепестков то алеют, как кровь, то горят, как солнце. Светлеет и в хате. Левко видит уже, что на лежанке спит Настечка, а с полатей свисают большие ноги отца.
Левку хочется к отцу, но вдруг раздается отдаленный шум машины. И вот глаза мальчика уже прикованы к окну. Шум приближается, на дорогу черным зверем вылетает чертопхайка на трех колесах, за нею стелется хвост пыли. Но чертопхайке пригнулся тот самый долговязый дяденька в больших очках, со шрамом от пули на щеке, что дважды приезжал к ним. У него очень смешная фамилия – Замриборщ. Когда он впервые назвался, и Левко и Настечка прыснули. Отец хотел было прикрикнуть на них, но и сам улыбнулся. А Замриборщ ничуточки не рассердился и даже посадил Левка в коляску чертопхайки и прокатил по улице. Вот бы еще раз так прокатиться!
Возле их ворот чертопхайка чихает и останавливается. Левко соскакивает на пол и не своим голосом кричит:
– Папа, дядя Замриборщ приехал! На чертопхайке!
Отец поднимается с полатей, а Левко, чуть не разбив лбом дверь, вылетает во двор.
– Дядя Замриборщ, доброе утро! Вы опять к нам? – радостным криком встречает он гостя, который уже вводят свою чертопхайку в ворота.
– К вам, уважаемый товарищ Левко, – серьезно, как большому, отвечает Замриборщ.
«Уважаемый товарищ Левко» сразу перестает улыбаться, подтягивает штанишки и с удовольствием здоровается за руку с белозубым мотоциклистом.
– Дядя Замриборщ, вы меня еще покатаете? – Длинные черные ресницы Левка вспархивают вверх.
– И сам не знаю, – задумывается гость. – Это ведь большой расход бензина…
Лицо у Левка становится печальным, а Замриборщ улыбается.
– Ну, да где уж мое не пропадало! Прокачу такого казака, только за плату.
– Откуда же я вам денег возьму? – еще больше опечаливается Левко. – Мы очень бедные.
– А я с тебя много и не запрашиваю: споешь – вот и прокачу.
– Ну да? – недоверчиво тянет Левко, и его смуглое личико выражает удивление.
– Правда.
– Что же вам спеть? – спрашивает Левко, все еще опасаясь, что его обманут.
– Что? Н у хотя бы ту, что Настечка пела, – про соловья, который на лугу почует. Знаешь эту песню?
– Как не знать! – Левко откашливается, кладет руку на чертопхайку. – Только ее надо с подголоском вести. Может, лучше про другого соловья спеть?
– Спой про другого. Как знаешь, – сдерживая улыбку, охотно соглашается мотоциклист.
Левко еще раз откашливается, бросает взгляд на дверь, и его чистый голосок звенит на весь двор:
Ой, там, на горі, дивний див —
Там соловейко гніздо звив,
Всю нічку не спав
Та все щебетав,
Собі солов’ïху прикликав.
Свирид Яковлевич в сенях услышал, как сын пел о птице, передавшей голос и его детям, вспомнил покойницу жену, и сердце у него сжалось, как перед несчастьем. Он, чтобы не спугнуть Левка, ждет, пока песня не затихнет, и выходит на крыльцо, когда его сын уже гарцует на худых плечах Замриборща.
– Левко, ты куда одну штанину подевал? – со смехом спрашивает отец, заметив оборванную штанину.
– Ее собаки так изодрали, что болталась во все стороны, так мы с Настечкой вечером взяли да и оборвали ее совсем, – смеется и Левко, видя, что отец в хорошем настроении.
– Снимай, сорванец, другие надень, – велит отец.
– Праздничные?
– Праздничные.
– Мне, папа, и в этих хорошо! – жалобно кривится Левко, потому что нет хуже, чем гулять в новом: там не сядь, тут не ляг и через голову не перекувырнись, как будто у него только и дела, что смотреть за одежей.
Замриборщ, посмеиваясь, подходит к Мирошниченку, здоровается.
– Послали, Свирид Яковлевич, по вашу душу. Немедля, говорят, привези – и никакая гайка.
– Кто сказал?
– Заместитель председателя уисполкома.
– А где председатель?
– На банду поехал.
– Зачем же вызывают?
– Не сказано. Приехал член президиума губкома и гоняет всех, как пришпоренных. Краем уха слыхал я, что очень ругает за плохие дела в совхозе. У него, похоже, родственник там.
Из хаты, доплетая косу, выбегает Настечка, личико у нее свежее от сна и умывания.
– Доброе утро, дядя… – Она дошла до фамилии и засмеялась: – Замриборщ!
– Гляди, вот скину пояс! – Мотоциклист хмурит густые брови и кладет руку на ремень.
– А вот и не скинете! – пританцовывает Настечка.
– Поехали, Свирид Яковлевич.
– Ох, и не в пору же ты приехал, Олекса! – хмурится Мирошниченко. – Как раз надо землей наделять.
– Ничего не поделаешь – служба.
– Ну что ж, едем, раз такая горячка.
– Папа, а завтракать? – с укоризной смотрит на него дочка. Ну разве можно не пригласить гостя позавтракать? Настечка поднимает глаза на товарища Замриборща. – Милости просим к нам, отдохните с дороги, а я быстренько откину вам картошечки, поешьте с огурцами.
– Спасибо, хозяюшка, спасибо, некогда! – Замриборщ вскакивает в седло, сажает позади себя Левка, а отец насилу втискивается в коляску.
– Сперва заедем к Тимофию Горицвиту, – говорит Мирошниченко.
– Папа, я вам хоть на дорогу дам! – огорчается Настечка. – Ведь проголодаетесь.
– Не надо, доченька.
Но девочка проворно бежит в хату, а чертопхайка выезжает со двора.
Ну и славно же ездить на ней, даже глаза от удовольствия сами закрываются, а сзади ветер надувает рубашку колоколом. Так и ездил бы всю жизнь. Жаль, что до дяди Тимофия так близко.
На дворе у Горицвитов уже хлопочет Дмитро – он оседлал столярский стульчик и острым ножом вытесывает зубец для ясеневых граблей. С огорода, подоткнув юбку, идет по меже тетя Докия, в деревянном подойнике у нее картошка и огурцы. Раз нету в хозяйстве коровы, так подойник послужит и для овощей. Увидев подъехавших, она поклонилась, улыбнулась и побежала в хату. Оттуда, уже одетый, выходит дядя Тимофий. Отец отворяет ворота и идет ему навстречу.
– Ну, Тимофий, сегодня ты хозяин всей нашей земли. – Мирошниченко обводит рукой окрестность, подернутую синим туманом.
– Как хозяин? – удивленно и настороженно переспрашивает Тимофий. – А ты куда же?
– Еду в уезд. Справляйтесь без меня.
– Вот тебе и на! – вздыхает Тимофий. – Так хотелось вместе делить землю…
– А мне, думаешь, не жаль? Во всех снах видел этот день… Справишься один?
– Попробую, – отвечает Тимофий, косясь на сенную дверь, потому что на порог как раз выходит Докия. – Только моей половине ничего не говори: очень уж боится она…
– Думаешь, не узнает? – Свирид Яковлевич понижает голос и косится на Докию.
– Пусть хоть попозже.
К ним почти одновременно с двух сторон подходят Докия и Дмитро.
– Собираетесь? – спрашивает Докия.
– Собираемся, – отвечает Мирошниченко.
– Дай-то бог! – Она по-женски подпирает высоколобое, красивое лицо ладошкой и смотрит уже не на людей, а на дальнюю землю, лежащую за синим туманом.
– Стань, Докия, перед образами, помолись, может, и даст, – смеется Мирошниченко.
Но она, не принимая шутки, серьезно говорит:
– Кабы наши молитвы да господу в уши…
К воротам подбегает Настечка, в руке у нее чистенький белый узелок.
– Вот вам на дорогу. – Она подает узелок отцу, встречается глазами с Дмитром и, застыдившись, принимается чертить что-то ногой на песке.
Докия и отец переглянулись, загадочно улыбнулись, а Настечка сразу вспыхнула: разве она не знает, что тетя Докия нет-нет да и обмолвится, что хотела бы иметь такую проворную невестку! Смеется она или в самом деле так думает? Знает это и Дмитро, но, ясное дело, и виду не подает, только изредка глянет исподлобья на девочку: как она?
А Настечка прислушивается, что говорят старшие о земле и о нынешнем дне, и боится поднять глаза на Дмитра, только смотрит на свою потрескавшуюся от воды и росы ногу, которая все чертит что-то на песке.
XV
Из-под облачка, словно из-под лохматой брови, глянуло на землю солнце и удивилось: отчего это на поле так много людей? Словно на пасхальный благовест они стекались со всех концов села. Истрепанные сапоги да ноги в ссадинах стряхивали еще серую, без блеска, росу, приминали утренние тени и останавливались на урочищах, где лежало их счастье.
Больше всего людей собралось вокруг Тимофия Горицвита. Он молча шел со своей чистой саженкой, ощущая на себе взгляды сотен глаз. Одни согревали его надеждами, другие сверлили злобой. Возле Тимофия со списками в руках вертелся белоголовый подросток Юрий Пидипригора, потому что секретарь сельсовета, бывший волостной писарь, рыжеусый Таганец уже с утра напился в дым и отказался и от списков и даже от своего надела.
– Кому конь, тому и черпак, а я своим почерком без вашей земли проживу. – Он водил пропитым языком по толстым губам, привычным ко лжи и к житью на даровщинку.
Недалеко от пруда, там, где сходятся угодья сел Новобуговка и Любарцы, Тимофий вышел на межу земли Варчука и остановился. Он разыскал глазами пожилого, бородатого пасечника Марка Григоровича Синицу, улыбнулся ему и взглянул на солнце. Оно как раз проскочило мимо узкого розового облачка, золотыми стрелками прытко погнало перед собой спугнутые тени; они, бледнея, бросились врассыпную, пробежали по долинке, упали в пруд, и над ними заиграла искристая рябь.
Тимофий не нашел слова, которое передало бы все его чувства. Сперва он хотел перекреститься на солнце, но передумал и негромко проговорил, обращаясь к мужикам:
– Так начнем доброе дело?
– С богом, Тимофий, с богом! – ответило несколько голосов, а Марко Григорович трижды перекрестился: он первым получал землю.
За ним перекрестилась жена и тут же заплакала, вытирая глаза концом платка.
– Цыц, старая рухлядь! – зашипел на нее муж. – Нашла время плакать! – и он понес веху на другой край полосы.
Когда саженка, измеряя первый надел, завертелась в руке Тимофия, к нему подбежали Сафрон Варчук, Ларион Денисенко, Иван Сичкарь и Яков Данько.
– Стой, Тимофий! – запыхавшись, придерживая рукой сердце, прохрипел Сафрон. – Слышишь? Стой, говорю!
Но Горицвит и не оглянулся на него. Он спокойно, ровным шагом шел по земле, ведя в уме счет, в котором слились и людская, и его радость, и слезы, пролитые женой Марка Григоровича.
– Стой, Тимофий! – Черная рука Варчука легла на белую саженку. – Поговорить с тобой надо.
– Ты бы, Сафрон, передохнул с дороги. Запыхался! Тогда и поговорим. – Тимофий властно снял руку богача с саженки и пошел дальше.
Рядом скрежетнула брань. Ларион Денисенко поднял вверх суковатую палку, но Иван Бондарь сразу же вырвал ее и отшвырнул за дорогу.
– Ты чего хочешь, распросукин сын? – вызверился Ларион.
– Хочу, чтобы ты еще пожил малость! Жалею твои глупые мозги в умной голове.
– Пожалеешь, когда я из тебя кишки выпущу! – заорал Ларион, тесня Ивана своей обросшей колесом волос головой.
– Закрой пасть, Ларион!
– Гляди, как бы тебя отсюда на кольях не вынесли! – закричали вокруг, и в воздухе замелькали палки и межевые колья, на совесть вырубленные из дерева твердых пород.
Денисенко норовисто огляделся вокруг, и еле видные из-под усов губы на его плоском лице сами собой поджались: чего доброго, и в самом деле на кольях вынесут…
Тимофий прямо по линии вех подошел к дороге, остановился, обратился к Юрию:
– Запиши, сынок, сто две сажени в длину. – И, обернувшись к Варчуку, спросил: – Ну что тебе, Сафрон Андриевич? Не перепеклось еще? Не перекипело?
Варчук с богачами подошел к Горицвиту вплотную, их застарелой ненависти преграждала путь только девичья нежность белой саженки. Позади них настороженно стояли Бондарь, Кушнир, Синица, Олександр Пидипригора, а Поликарп Сергиенко отступил к самой меже и вытянул длинную шею, чтобы ничего не пропустить.
Сафрон впился в Тимофия темными, без блеска, глазами и заговорил как можно спокойнее и громче:
– По какому, Тимофий, закону самовольно отбираешь хозяйскую землю?
– А ты разве не знаешь?
– Послушаю.
– Революция дала такой закон. – ответил Тимофий и упрямо глянул на Варчука.
Тот не мог больше сдерживаться:
– Брешешь, как пес!
– От живодера слышу!
– Люди, революция дала другой закон! – закричал Варчук. – Она дала закон отбирать помещичьи и казенные земли, а наших не трогать! – Он выхватил из внутреннего кармана газету, развернул и замахал ею в воздухе. – Вот здесь правильный закон напечатан!
– Почитай, – спокойно ответил Горицвит, а у самого заныло сердце: вдруг в последних газетах напечатано что-нибудь новое, неизвестное?..
Мужики темным кольцом окружили его и Сафрона, который почтительно поднес к самым усам газету, подумал и громко сказал:
– Я прочитаю вам закон рабоче-крестьянского правительства о земле от пятого февраля тысяча девятьсот двадцатого года.
– Кто его подписал? – спросили из толпы.
– Подписал этот закон председатель Всеукраинского революционного комитета Григорий Петровский. Признаете такую подпись? – Голос Варчука крепчал.
– Ты не заливайся соловьем, а читай! – обозлился Степан Кушнир и заглянул в газету через плечо Варчука: не ровен час, богач по-своему повернет то, что там написано.
– Начинаю читать закон!
Варчук стал поудобнее, прокашлялся в рукав бекеши.
– «Восстановленное кровью жертв русской и украинской рабоче-крестьянской армии рабоче-крестьянское правительство Украины, приступая к своей государственной работе, считает своей обязанностью окончательно освободить крестьянство Украины, освободить его раз и навсегда от власти помещиков, обеспечить его землей и создать его силами условия для утверждения власти труда на земле.
Рабоче-крестьянское правительство объявляет ко всеобщему сведению рабочих и крестьян и власти гражданской и военной на Украине:
Первое. Отныне на территории Украины право пользования землей принадлежит лишь трудящимся.
Второе. Все нынешние трудовые хозяйства, принадлежавшие до сего времени трудящимся крестьянам-собственникам, казакам, бывшим государственным крестьянам и так далее, остаются неприкосновенными, и в дальнейшем владельцы их свободно, без ограничений, будут пользоваться всей землей в тех формах, в каких пользовались до сего времени: подворной, хуторской, отрубной, общинной и др….»
– Слышали правильный закон?! – загорланил Денисенко. – Никто не имеет права тронуть нашу подворную, хуторскую или отрубную землю! А помещичью режьте как хотите.
И вдруг его обрезал Горицвит:
– Хитро повернули! Долго, верно, думали, в какую бы щель проскочить! Вы думаете, закон что дышло – куда повернул, туда и вышло? Теперь так не бывает! Теперешний закон не про вас писан! – Он никогда еще так много не говорил с людьми, а теперь слова сами вырывались из груди. – Люди добрые, на эту хитрость Варчука и Денисенка надо наплевать и растереть! В законе ясно сказано – не трогать трудовые хозяйства.
– А у нас какие же? – вскипел Варчук.
– А ваши на чужом горбу держатся!
– Так их, Тимофий! Думали нас вокруг пальца обвести! – воскликнул довольный Бондарь. А сам восхищенно подумал: «Чертов Горицвит! Заговорил наконец! Да еще как заговорил!»
На поле поднялся шум, кулацкая братия доказывала свое, беднота – свое, и никто никого не слушал, а все только грозились да пугали. А Тимофий между тем повернул свою саженку и пошел вымерять ширину, словно все происходящее не касалось его. Вскоре кулаки под хохот и пронзительный свист выскочили всей кучкой на дорогу и поплелись в село, откуда с причитаниями и проклятиями мчались их жены. Варчук поморщился, махнул им рукой.
– Ничего, бабы, не выйдет! Поворачивай оглобли!
– Дай я хоть этому Горицвиту зенки выцарапаю! – побелевшими от злости глазами глянула на него Настя Денисенко и так ощерилась, что все поверили – такая баба ни перед чем не остановится.
Но жены бедняков сразу же охладили воинственный пыл Насти. Они со всей крестьянской простотой обозвали ее сучкой, вспомнили ее любовников, и она с позором побежала прочь, – ей и в голову не приходило, что все так тщательно скрываемое от соседей и пуще всего от семьи известно селу. В навеки озлобленных глазах ее сперва блеснул страх, а потом и слезы. Она внезапно с ужасом ощутила бесстыдство своей плоти, которое ни прикрыть уже никаким самым лучшим платьем, ибо то, что известно в селе нескольким, станет известно всем. Только бы муж и сын не узнали об этом…
Не одна картина человеческой радости и позора, не одно счастье и не одна злоба прошли в это утро перед глазами Тимофия, но все дурное отставало, как отстает черная грязь от белого лебедя, а взволнованная ласка западала в сердце. Глубоко запоминались и пожатия шершавых рук, всю жизнь тосковавших по земле, и влага в глазах, и поцелуи тех, кто получал землю. Беднота, вдовы и сироты говорили ему хорошие слова, желали ему здоровья и потихоньку зазывали прийти вечерком на чарку.
– Со всеми вами пить – голова лопнет, – отмахивался Тимофий.
– От таких магарычей не лопнет, Тимофий, только прояснится, – заверяли люди.
И он переносил с поля на поле затаившуюся в глазах и в уголках губ добрую и чуть грустную улыбку, а сам с дрожью в сердце высматривал, не идет ли Свирид Яковлевич намерять землю ему, Тимофию Горицвиту. Правда, около полудня его радостное ожидание внезапно прервал на время Супрун Фесюк. Он с утра ждал на своем поле Горицвита и людей. Супрун не грозил, не ругался, а только стал как каменный на меже. А когда Горицвит обошел его саженкой, Супрун неожиданно пошатнулся, упал на межу, забился в дрожи, заплакал.
– Земелька, земелька! – повторял он и, как слепец, ощупывал ее руками, вырывал со жнивьем и зеленью, засовывал в карманы свитки.
Тимофию стало жаль его. Он подошел, помог Супруну подняться, подал шапку, покачал головой.
– Не убивайся, Супрун, больше твоего люди терпели, больше твоего мучились.
– Так ведь земелька, земелька! – бормотал тот, все еще держа в судорожно сведенных пальцах черную пыль.
– Она не дороже людей, – ответил Тимофий. – Ты же толковый человек, понимать должен.
И люди молча прошли мимо Супруна, а он остался одиноко стоять на меже, изодранной его пальцами.
Если Супрун Фесюк расстроил Тимофия, то Василь Карпец, усатый мужик, не хуже цыгана разбиравшийся в лошадях, развеселил всех. Ему так не терпелось получить свой надел, что он с женой еще ночью выехал на землю Созоненка. За ночь супруги здорово намерзлись в телеге, а с рассветом Карпец решил, что нечего напрасно терять время и, отмерив на глаз полдесятины, приступил к пахоте. Жена хотела удержать его, но он обозвал ее глупой бабой, пригрозил изломать на ее плечах кнутовище, и Мокрина, привыкшая к ругани мужа, взяла кнут, сперва хлестнула им муженька, потом погнала лошадей.
Под лемехом рассыпался жирный чернозем, сочно подрезались корни, а медноусая физиономия Карпца светилась радостью. Сгибаясь над плугом, он видел только задние ноги лошадей да землю. Когда отвал вставал торчком, он бережно приминал его ногой, чтоб землице не было больно.
Карпец больше не сказал жене ни одного скверного слова, только порою покрикивал, чтобы сильнее стегала не своего, а чужого коня. Когда они добрались до того места, где Василь на глаз обозначил межу, он усомнился: не меньше ли тут, чем полдесятины? Еще раз измерил шагами и, уже уверенный, что недомерил себе, пошел с плугом дальше, хотя жена и отговаривала его. Горицвит, придя на поле с людьми, сразу сказал, что Карпец запахался. Так оно и вышло. И это взбесило хлебороба.
– Сколько борозд вспахал этому чертову Созоненку, чтоб он огнем горел, и тут он на даровщинку поживился! Теперь в суд подам – пускай платит за пахоту.
– Так ты, Василь, вспаши уж Созоненку все поле, а потом высуживай плату, – предложил Степан Кушнир, и вокруг раздался хохот.
Даже Мокрина Карпец тряслась от смеха, как ни свирепо выпячивал муж нижнюю губу, иссеченную тоненькими морщинками.
А поодаль от людей ходили соглядатаями Сафрон Варчук и Иван Сичкарь. Они во всем могли довериться друг другу, истово раскрывали один перед другим пропасти своих душ, на дне которых клубилась в тот день одна злоба. И все же сошлись они на том, что не следует самим осквернять руки убийством: какой-нибудь глупый Фесюк не выдержит и выдаст их.
– Пора, самое время ехать к батьке Гальчевскому, – говорил Варчук, понуро глядя на белый цветок деревея, по которому сонно ползала оса.
– Сейчас никак не могу, – отвечал Сичкарь, за одну ночь ставший осторожнее. – Только завтра.
– Какая тебе, Иван, разница – сегодня или завтра! Теперь день дороже года.
– Большая разница. Завтра я пойду в тюрьму, никакая тень не падет на меня.
– Что ж, придется подождать, – неохотно согласился Варчук и пнул ногой цветок деревея, так что оса свалилась на жнивье.
Он вдавил сапогом насекомое в мягкую землю, искоса поглядывая, как оно, взмахивая искалеченными крыльями, пытается высвободить свое перетянутое тельце.
– Не Тимофиев ли щенок там идет? – спросил Сичкарь, и Варчук отвел взгляд от осы.
Полем по-отцовски степенно шел Дмитро. В руке у него покачивались завязанные в узелок горшочки-близнецы. Видно, парнишка нес отцу обед.
– Тимофиев? – еще раз переспросил Сичкарь.
– Разве не видно? Вылитый отец.
Сичкарь вышел навстречу Дмитру, крепко расставил толстые ноги на обочине.
– Куда идешь, оскребыш? – Лоснящаяся, словно салом смазанная губа Сичкаря отвисла, желваки под ушами зашевелились. – Не сдохнет твой родитель до вечера!
Парнишка метнул на богача недобрый взгляд, но не проронил ни слова, только все тело его натянулось, как струна.
– Дай хоть погляжу, чем держатся голодранцы на свете, – Сичкарь наклонился над узелком с едой, собираясь выхватить его из рук Дмитра,
– Отойдите, дяденька! К своей жене в горшки заглядывайте! – Дмитро перебросил узелок в другую руку и отстранился, не сводя с богача настороженного взгляда.
– Гляди какой непочтительный! – бросил Сичкарь Варчуку. За это нам когда-то вот так вихры драли… – Он вдруг протянул толстую руку к голове Дмитра.
– Отойдите, говорю! – Дмитро побледнев от напряжения и обиды и отвел голову.
Но Сичкарь ухватил волнистые волосы подростка, дернул за вихор и засмеялся.
– Вот как нас почтению учили… – и захлебнулся, не сообразив, что с ним произошло.
Дмитро, отступив на шаг, изо всей силы хватил Сичкаря горшками-близнецами по голове, так что наземь посыпались теплые черепки, а по щекам богача потекли борщ и молочная каша.
– Ух ты! – Варчук растерялся от неожиданности и вторично вбил в землю осу, теперь уже навеки.








