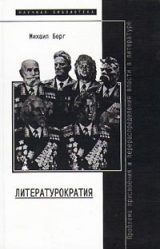
Текст книги "Литературократия"
Автор книги: Михаил Берг
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
Перемена знака означала использование утопий власти перверсивным образом, посредством антиутопии. Однако рядом и синхронно с функционированием культуры утопического реализма «возникает культура другого уровня, пытающаяся <…> включить все внутрь текста, замкнуть все текстом – и писателя, и жизнь, и читателя <…> литература пытается средствами самой литературы, ее формальными приемами воскресить жизнь, убитую, как мы знаем, прежней литературой! И это делается не просто описанием каких-то вещей, вызывания „духов“ ушедшего времени, а гораздо более сложным и суггестивным путем – построением рамочной конструкции „писания“ о „писании“, в которой определенные фрагменты текста обретают статус действительности» (Сегал 1979: 13–14).
Утверждение Сегала о стратегии включения в текст, поглощения текстом новой литературы «писателя, читателя, жизни» не учитывает принципиально иную авторскую функцию, репрезентируемую новой литературе, где культурный капитал самого текста постепенно поглощается символической ценностью нового художественного поведения176. Средой преодоления утопического реализма становятся те зоны «частной жизни», где – ввиду ее меньшей зависимости от поля идеологии – вырабатывается новый язык описания «нереальной реальности» и происходит апробирование форм репрезентации новых авторских функций, а стратегии строятся с учетом не столько традиций «формалистов, модернистов, декадентов» 1910-1920-х годов, сколько актуального западного искусства, уже получившего интерпретацию в рамках зарождавшейся постструктуральной теории. У этих стратегий не было никакого шанса вписаться в существующий письменный проект утопического реализма, потому что внутри своего субполя «новая литература» могла быть вообще идеологически индифферентной, но стоило той или иной практике выйти за пределы своего субполя, как она тут же получала идеологическую интерпретацию и объявлялась нелегитимной. До поры до времени «новая литература» циркулировала по внутренним каналам своего субполя, в так называемом самиздате, либо уходила за границу симуляционного поля, попадая в тамиздат. Но и этого оказалось достаточным для построения разнообразных социокультурных стратегий, создавших принципиально новый интеллектуальный дискурс.
II. Новая литература 1970-1980-х
Русскую литературу этого периода подчас называют постмодернистской, с чем можно согласиться только в самом общем плане177, если понимать постмодернизм не как практику, соответствующую вполне определенным западным явлениям, а как общеинтеллектуальный дискурс противостояния некоей совокупности идей и приемов, тематизируемых столь же расплывчатыми определениями как «классика», «модерн», «соцреализм» и т. д.178 Поэтому некорректность переноса «чужих категорий „постмодерна“» на общество, не прошедшее (а в некоторых аспектах даже не вошедшее в) фазу собственно «модерности»179, фиксируют многие исследователи. Б. Гройс отмечает, что термин «постмодернизм» используется в современной русской критике по вполне определенной аналогии: переход к программному культурному плюрализму и освобождение от эстетической диктатуры модернизма, произошедшие в 1960-1970-х годах на Западе, приравниваются к постепенному освобождению от норм официального социалистического реализма, наступившему в России в 1970-1980-х годах. «При этом в обоих случаях этот новый культурный плюрализм обосновывает себя прямо или косвенно посредством полемики с предыдущим этапом „положительных ценностей“, сохраняющих в этом смысле свою актуальность…» (Гройс 1995: 44).
Однако то, что предлагают исследователи или участники литературного процесса в качестве определения «русского постмодернизма», подчас оказывается или тавтологичным180 по отношению к хрестоматийным дефинициям, или намеренно полемическим181 (см.: Эпштейн 1996). Самыми распространенными (и наименее продуктивными) способами определения постмодерна являются либо перечисление таких поверхностных его признаков, как полистилистичность, цитатность, соседство разных культурных языков и отношение к миру как к тексту182, либо установление тождества между понятиями «постмодернизм» и «художественный плюрализм». Не менее часто под постмодернизмом понимают совокупность практик противостояния утопическим интенциям, как это делает, например, В. Линецкий, для которого постмодернизм, вобравший в себя опыт XX века – века осуществленных утопий, есть сознание конца той культурной эпохи, что началась Возрождением. «Утопия – единство искусства и жизни. Но она же знаменует собой предельную изоляцию человека, его моральное и эстетическое банкротство. И в этом смысле постмодернизм есть конец утопизма»183 (Линецкий 1993: 234). Однако, как справедливо заметил Смирнов, «определение некоего предмета как многоликого есть отказ от определения, предотвращающий заканчиваемость постмодернистской авторефлексии» (Смирнов 1994: 323)184. В любом случае подверстывание всех новаторских интенций в русской литературе 1970-1980-х годов к явлению «постмодернизма», который все чаще интерпретируется в актуальной американской и западноевропейской теории как один из этапов модернизма185, представляется малоплодотворным, а вынужденное в дальнейшем использование самого термина объясняется прежде всего его укорененностью в современной русской критике.
Наша цель – попытаться ретроспективно вычленить из того, что мы называем «новой литературой 1970-1980-х» (в данном контексте категория «новая» раскрывается в плане общего противостояния стратегиям утопического реализма), всего несколько направлений; найти черты, объединяющие авторов в эти направления, и черты, разделяющие их; выявить систему эстетических и социокультурных запретов, существующих в каждом из направлений, и определить критерии оценки не только текстов различных авторов, но и авторского поведения, то есть то, что мы понимаем под авторской стратегией186. Однако прежде всего нас будут интересовать способы накопления, присвоения и перераспределения власти посредством применения разных приемов и практик, актуализации разных видов художественного поведения, в том числе приводящего к выходу за пределы текста для присвоения власти не только поля культуры, но также поля идеологии и политики, или, напротив, с помощью отрицания ценности выхода за границу текста, отрицания культурной значимости того, что получило обозначение постмодернистского дискурса, и утверждения традиционных и групповых ценностей как вечных. Даже разбирая особенности поэтики, мы будем рассматривать художественные приемы прежде всего как способы присвоения и перераспределения власти, обмениваемой на инвестиции внимания со стороны читателя187 в процессе превращения культурного и символического капитала в социальный и экономический.
Не претендуя на полноту, мы остановимся на описании трех (представляющих для нас особый интерес) направлений, которые уже были определены нами188 как 1) московский концептуализм (этот термин возник в 1970-х годах сначала в применении к живописному авангарду, а затем был распространен на литературу189); 2) бестенденциозная литература и 3) неканонически тенденциозная литература (последним двум дефинициям мы постараемся придать более конкретный смысл в дальнейшем, одновременно выявив критерии, по которым вычленяются соответствующие направления, и признаки, делающие эти направления репрезентативными для нашего исследования).
Московский концептуализмМосковский концептуализм спустя четверть века после своего появления на российской литературной сцене до сих пор интерпретируется как наиболее радикальное литературное направление, преимущественно потому, что стратегии авторов московского концептуализма (а это прежде всего Д. Пригов, Вс. Некрасов, В. Сорокин, Л. Рубинштейн) последовательно выявили отказ от тенденций текстоцентризма (синонимичные варианты – литературоцентризм и словоцентризм) и традиционного литературного поведения. И хотя первоначально это не манифестировалось никем из концептуалистов, уже первые критические отзывы зафиксировали, что своими практиками концептуалисты сознательно или неосознанно конституируют «конец литературы»190.
Однако современная репрезентативность концептуализма зависит не столько от того, насколько ощущение «конца литературы» было выявлено ими субъективно или объективно191, сколько от принципиально нового взгляда на общественный статус литературы и актуализации новых способов присвоения символического капитала, накопленного соцреализмом. «Конец литературы» (до сих пор интерпретируемый некоторыми исследователями как «конец советской литературы») для авторов московского концептуализма не означал, что для них не существовало тех, кого футуристы собирались сбросить с «парохода современности», то есть предшественников. Как раз наоборот, металитературный пафос определялся ощущением огромной власти, присвоенной предшествующей культурой утопического реализма192, и открытием эксклюзивных механизмов перераспределения этой власти. Именно поэтому поле советской культуры стало естественной средой обитания концептуалистов, а металитературные тенденции были вызваны не столько ощущением невозможности дальнейшего описания и интеллектуального постижения мира без рефлексии по отношению к предшествующей литературе193, сколько признанием как непродуктивных практик, ограничивающих себя пределами текста. Поэтому вполне традиционный тезис о невозможности в эпоху постмодернизма ни одной мысли, ни одного серьезного утверждения, претендующего на то, что такого утверждения не было и что оно концептуально важно194, должен быть скорректирован уточнением – любая самоценная стилистика была и будет возможна, но в качестве не актуальной, а традиционной практики195.
В этом смысле совершенно необязательно отвечать на вопрос, являлись ли авторы, стратегии которых мы собираемся рассмотреть, с самого начала неофитами постструктуральной ориентации в культуре, выбивающей почву из-под ног культуры модерна, или это только «ассенизаторы» принципиально локальной советской культурной ситуации, предложившие способ вывести эту культуру из застоя196. Главное – попытаться выявить ту систему запретов и свойств, что с течением времени все отчетливее проступала сквозь совокупность концептуальных практик, как то: невозможность «лирической интонации» и самоценного словесного образа (ибо образ и есть обозначение своего уникального положения в пространстве)197; пристрастие к стертой речи (выносящей автора с его симпатиями и антипатиями за скобки), обретение себя концептуалистами только внутри чужой речи198, чужой интонации, чужого мировоззрения и отчетливая установка на отказ от своей индивидуальности, которая приносится в жертву ради нового художественного поведения, позволяющего присвоить ту власть, которую традиционно резервировали за собой бюрократические институции199.
Е. Деготь фиксирует, что московский концептуализм 1970-1980-х «обычно определяется как понимание советской культуры, которая была не способна понять самое себя», потому что концептуализм «проделал над советской идеологией операцию критического анализа, <…> обнаружил механизмы языка в том, что претендовало на безусловность истины» (Деготь 1998: 164–165), однако нам куда важнее кажется показать, как и каким образом концептуалисты добились общественного признания, присваивая символический капитал советской литературы и советской идеологии и возмещая, в соответствии с энергетикой обмена, инвестиции читательского внимания.
По своей природе концептуальное искусство зависит от механизма интерпретации; этот механизм, как, впрочем, и художественное поведение, выступает в роли катализатора, не просто усиливающего или ослабляющего восприятие текста, а увеличивающего или уменьшающего его символический капитал. Так как важнейшей является функция присвоения, то и критик, и читатель в концептуальном искусстве используют функции автора; а вне контекста плодотворной интерпретации200 продукт концептуального искусства моментально оказывается во враждебном для него пространстве традиционного истолкования, пример которого представляет, в частности, отзыв о концептуализме М. Эпштейна, упрекавшего его адептов за «убогий, примитивный, ходульный» язык, отсутствие оригинальных образов, реальных способов художественного раскрытия идей и т. д. На необходимость продуктивной интерпретации указывает хотя бы такой факт, что все без исключения концептуальные тексты Пригова начинаются с «предуведомления» – своеобразной самоинтерпретации. Провокативный характер этих предуведомлений очевиден, так как они одновременно являются и частью текста, и комплементарным (или ложным) кодом истолкования, который побуждает читателя на поиск интерпретации, более адекватной стратегии автора и более соответствующей функции присвоения.
Однако помимо предуведомлений для Пригова, как, впрочем, и для большинства концептуалистов, характерно стремление к созданию вокруг своих практик пространства из вполне серьезных, аналитических интерпретаций201, в том числе практика создания собственного имиджа, провоцирующая появление системы наиболее комплементарных истолкований. Одно их первых стратегических заявлений концептуалистов состояло в том, что они, в отличие от тех, кто также противостоял практике советского утопического реализма (для чего естественной показалась актуализация тенденций досоветской литературы), «заговорили не на русском, на советском языке»202. Читателю предлагалось рассматривать стратегию концептуализма как стратегию нового варварства, язычества, возникающего на обломках старой культуры. Стратегию, на самом деле не лишенную изначально романтических интенций, недаром одним из первых определений нового проекта стал «московский романтический концептуализм»203. Произошла буря, корабль старой культуры потерпел крушение, на берег вынесены его останки. Без инструментов, гвоздей, без ремесленных навыков (то есть без сознательно отрицаемого старого культурного опыта) концептуальный автор, как новый Робинзон, начинает громоздить чудовищные постройки из того, что есть под рукой204.
И Данте со своей Петраркой
И Рилька с Лоркою своей
Небесной триумфальной аркой
Мерцают из страны теней
И русскоземный соловей
Когда пытается расслышать —
Молчит и слышит только медь
Да что он может там расслышать?!
И он предпочитает петь
(Пригов 1997b: 43)
Варвар соединяет несоединимое, потому что получил или завоевал это право; свобода конструирования синонимична власти, которой обладает тот, кто конструирует. Чем большим символическим капиталом обладает образ или имя, используемые в новом сочетании, тем больший символический капитал накапливает варварская конструкция. Варвар водружает себя над совокупностью традиционных и сакральных ценностей, его власть простирается над системой узаконенных связей, разрушая старый закон и утверждая новый. Ему позволительно не знать, что Петрарка и Лорка не женщины, а мужчины; он слышит только «медь», то есть литавры победы; эти литавры заглушают и «русскоземного соловья», то есть традиционного поэта, которому «медь» возвещает о факте его поражения. Варвар помещает себя в позицию «право имеющего», то есть обладающего властью; казалось бы, ни Данте, ни Рильке не имеют никакого отношения к советской действительности, но их положение в пантеоне великих легитимировано институциями советской культуры, власть которой присваивает автор.
Использование вещей не по назначению, строительство из чужого материала (апелляция к знаковым фигурам и культовым пре-текстам), пародийная интертекстуальность, позволяющая присваивать символический и культурный капитал используемых имен, фигур, текстов – стратегические принципы, характерные не только для Пригова, но, по сути дела, для всех московских концептуалистов; Пригову лишь (не случайно он сам первым превращается в культовую, знаковую фигуру нового искусства) удается это сделать наиболее отчетливо: его стратегия персонажа, основана на традиции использования «плохих текстов»205, а обобщенный «лирический герой» – казалось бы, существо, не умеющее логически мыслить и доводящее до абсурда свои благие намерения. На первый взгляд, это сверхусредненный, сверхблагонадежный советский человек206, пользующийся в тех условиях, в которые он поставлен (то есть в условиях поглощения полем идеологии поля культуры), только апробированными формулами и старающийся подобрать соответствующий штамп для любого явления действительности, открывающейся перед ним.
Американцы в космос запустили
Сверхновый свой космический корабль
Чтобы оттуда, уже с места Бога
Нас изничтожить лазером – во бля!
Ну хорошо там шашкой иль в упор
Из-под земли, из-под воды, из танка
Но с космоса, где только Бог и звезды!
Ну просто ничего святого нет! —
Во бля!
(Пригов 1997b: 114)
Однако маска «хама», «пошляка», не умеющего оценить то, что водружено на пьедестал традиционной культуры, позволяет Пригову занять позицию наследника дезавуированных традиционных ценностей, а уж как он обращается с тем, что получил в наследство, это его право. Нет «ничего святого» не для американцев, а для приговского персонажа, потому что он ставит себя выше святости, Бога, звезд и присваивает себе оружие, невидимое и сокрушительное, как лазер, – власть соединять несоединяемое и разрушать, казалось бы, незыблемые связи, легитимированные культурой.
В любом приговском тексте легко вычленяема структура пре-текстов. Пригов использует пре-текст как интертекстуальную жертву, редуцируя пре-текст и самоутверждаясь за его счет. И. Смирнов совершенно по другому поводу разбирает интертекстуальную стратегию усложнения (aemulatio) и упрощения (reductio). «При усложнении исходного текста совершается попытка превзойти оригинал, порождается художественное высказывание, претендующее на то, чтобы занять более высокий ценностный ранг по сравнению с источником. Сама по себе такая попытка еще не означает, что текст, в котором она реализуется, будет действительно оценен реципиентами выше, чем пре-текст. Aemulatio лишь формирует предпосылку для того, чтобы последующий текст мог бы получить большее общественное признание (кратковременное или долговременное), чем предыдущий.
Точно так же, но в обратном порядке: интертекстуальное упрощение (reductio), хотя и стимулирует низкую оценку литературных произведений, в которых оно имеет место, вовсе не всегда вызывает к себе пренебрежительное отношение. Так, например, reductio (в форме reductio ad absurdum) используется с тем, чтобы пародийно скомпрометировать деактуализируемую художественную систему, и, таким образом, становится более или менее позитивной ценностью – если и не смысловой, то все же функциональной» (Смирнов 1994: 42).
Система самоутверждения за счет усложнения или упрощения исходного текста, описанная Смирновым207, используется практически в любой художественной стратегии; то, что отличает стратегию концептуалистов, имеет отношение к статусу пре-текстов, в качестве которых избираются только те, что накопили культурный и символический капитал, перераспределяемый и присваиваемый при деконструкции. И каким бы далеким от советской культуры ни казался деконструируемый текст (цитата, имя, символ), для Пригова важно, что его статус легитимирован советской культурой, на самом деле в свое время присвоившей символический капитал мировой классики благодаря операции редукции. Концептуалист – как экспроприатор экспроприаторов – таким образом факультативно занимал сильную позицию в общественном сознании, а его приемы интерпретировались в виде инструментов, восстанавливающих справедливость. «Советскими героями» становились Рейган и Шекспир, Пушкин и Мао – деконструируя мировую классику, концептуалисты деконструировали «советский язык» и тоталитарную систему легитимации.
То, что в приговском концепте постоянно проводится деактуализация используемого в качестве пре-текста «советского языка», отмечают многие исследователе208. Однако концептуалисты не первые заговорили на «советском языке». С самого начала при осуществлении своих стратегий советский литературный концептуализм отталкивался от двух разноприродных импульсов – живописного концептуализма (советского и западного соц-арта) и «лианозовской» поэтической школы. Однако отличия в использовании «советского языка» Е. Кропивницким, Я. Сатуновским и др.209, с одной стороны, и Приговым, Некрасовым, Рубинштейном, с другой, весьма симптоматичны и важны для понимания того, почему концептуальные стратегии в 1970-1980-х оказались более актуальными, нежели стратегии «лианозовцев».
Для «лианозовцев», творчество которых иногда называют первым, героическим этапом русского постмодернизма, так как и их стратегии ориентированы на выявление «мнимости того, что полагается как реальность» (Липовецкий 1998: 287), советское слово – «свое», оно еще не омертвело и не отчуждено имиджем персонажа и не противоречит авторской лирической интонации, то и дело пробивающейся сквозь щели барачной конструкции типично «лианозовского» текста. Иначе говоря, у «лианозовцев» еще есть «стиль» и, по сравнению с концептуалистами, им «не хватает» инерции тотального отчуждения, которое концептуалисты заимствуют в практике живописного поп – и соц-арта. Однако при этом концептуалисты не только совершали одну, но существенную подмену, на которую часто обращают внимание, – вместо реакции на перепроизводство вещей (характерную для поп-арта) они фокусировали внимание на перепроизводство идеологии. Концептуалисты, в отличие от «лианозовцев», не спорили с идеологией, отстаивая право на личную позицию, а использовали идеологическую энергию в процедуре деконструкции и апроприации.
Существенным представляется и антропологический аспект. Несмотря на прокламируемую игру имиджами, персонажные маски, от лица которых автор-концептуалист обращается к читателю210, обладают достаточно устойчивыми и повторяющимися чертами таких, казалось бы, разных, но на самом деле схожих по своим психо-историческим параметрам героев Беккета, Жане etc, с характерным для них отсутствием исторической и культурной памяти. Для того чтобы читатель смог более адекватно отрефлектировать концептуальные стратегии, он должен был правильно идентифицировать этот имидж как советскую транскрипцию нового состояния «массового человека»211, власть которого до такой степени автоматизировалась, что перестала ощущаться им как власть и поставила проблему поиска новой актуальной идентичности. Концептуальная практика состояла в программе переструктурализации, демифологизации старых мифов (во имя создания новых) в борьбе за власть между старыми институтами власти и поисками идентичности «нового человека», которого несколько десятилетий спустя назовут «постсоветским»212.
Своеобразие советского массового общества обеспечило своеобразие концептуальной стратегии Пригова, которую, конечно, нельзя сводить просто к практике деидеологизации или манифестации «конца литературы»; объектами деконструкции здесь являются прерогативы старых институтов власти – как политических, так и культурных, своеобразный бунт против государства и его институций, в том числе института «героев», «властителей дум», «вождей», «политических лидеров». Хотя среди процедур присутствует и деидеологизация, и демифологизация, сам процесс разрушения старых структур не является самоцелью, главная интенция – воля к власти, хотя она тщательно маскируется использованием множества различных приемов, способных вводить в заблуждение тех, кто предпочитает традиционные интерпретации.
Внимательно коль приглядеться сегодня,
Увидишь, что Пушкин, который певец,
Пожалуй, скорее что бог плодородья
И стад охранитель и народа отец.
Во всех деревнях, уголках ничтожных
Я бюсты везде бы поставил его,
А вот бы стихи я его уничтожил —
Ведь облик они принижают его.
(Пригов 1997а: 226).
Характерно, что А. Жолковский, анализируя этот текст Пригова, обращает внимание на то, что автор не сбрасывает вслед за футуристами Пушкина с парохода современности, а обнажает тотальность претензий Поэта-Царя на все мыслимые культурные роли и одновременно фиксирует реальную смерть традиционной, овеянной каноном поэзии. По Жолковскому, смерть традиционной поэзии является не столько результатом эстетической автоматизации тех или иных текстов, сколько последствием возведения поэта в ранг культурного героя наряду с вождями партии и правительства. Но Пригов вовсе не занят изобличением поэтической глухоты замороченного школьной программой и официальной пропагандой «широкого читателя». «Скорее, наоборот, он рад пожать плоды сложившейся ситуации, которая обнажила стратегический, силовой, политизированный, позерски-игровой характер искусства…» (Жолковский 1994: 66). Пригов выступает в роли «универсального Мета-художника», стоящего над художниками и поэтами, присваивая их роли и позы, и, в обмен на инвестиции читательского внимания, перераспределяет тот символический капитал, который аккумулирует та или иная конкретная структура, деконструируемая им.
Одно из самых распространенных заблуждений заключается в попытках идентифицировать стратегию Пригова (как, впрочем, и любую последовательную концептуальную стратегию) как «элитарную». Если воспользоваться терминологией Батая, это, конечно, инородная стратегия, направленная против однородности, но во имя новой однородности213. Иначе говоря, разрушение старых институций и иерархий (с характерным для иерархической культуры пантеоном «героев» – не случайно большинство приговских текстов строится вокруг «героических» имен, фигур «властителей дум», поэтов, политиков etc) производится не для разрушения иерархического неравенства, а во имя новой иерархии, на вершине которой оказывается автор, персонифицирующий на самом деле массовые чувства современников.
Я жил во времена национальных
Героев и им не было числа
Одни несли печать Добра и Зла
Другие тонус эмоциональный
Поддерживали в нас по мере сил
Народ любил их, а иных бранил
И через то герой героем был
А я завидовал им эмоционально
Поскольку я люблю национальных
Героев
(Пригов 1997b: 184).
Жолковский говорит о воспроизводстве здесь мании величия, но на другом «сознательно отрефлектированном уровне» (Жолковский 1994: 66). Однако эта мания величия не просто соответствует уровню притязаний автора, в противном случае его практика не получила бы распространения, она соответствует массовому ожиданию перераспределения власти. Казалось бы, о том же самом говорит Гройс, интерпретируя процедуру приговской деконструкции (внешне похожей на либеральный протест) как манифестацию воли к власти. «Поэтический импульс как стремление к „идеальному“, „гармоничному“, пробуждающему „добрые чувства“ оказывается с самого начала манифестацией воли к власти, и поэт узнает своего двойника в образе, казалось бы в наибольшей степени чуждом, даже противоположном. Но узнавание это отнюдь не означает, что Пригов в знак протеста обращается к анархическому, дисгармоничному, к эстетике протеста» (Гройс 1993: 89). Для Гройса этот протест не может быть истолкован как апелляция к другой, иначе построенной иерархии. Однако власть – это и делегирование полномочий, то есть символическая пирамида, и власть институций, построенных по иерархическому принципу, когда любой жест, утверждающий неравенство, превосходство, господство одних позиций над другими, является ставкой в конкурентной борьбе. Присваивая символическое право манипулировать идеологически и социально ценными объектами, позициями, символами, поэт-концептуалист противопоставляет одной символической иерархии другую, столь же символическую. Не случайно в советское время поэтическое творчество Пригова прежде всего интерпретировалось как идеологическое, родство между поэтической идеологией и политической очевидно, вот только идентифицировалась эта идеология неверно, как жест интеллигентского протеста, в то время как представляла из себя идеологию воли к власти нового постмассового человека, не просто противостоящего героическому и иерархическому по своей природе, а прежде всего уязвленного отсутствием у него власти.
Гройс утверждает тождество между поэтической и политической идеологией и полагает ценность приговской стратегии в том, что она тематизирует волю к власти. «Родство поэтической идеологии с политической идеологией, а также поэтической и политической воли к власти открыто утверждается Приговым и тематизируется им» (Гройс 1993: 90). Однако общественная ценность любого жеста в культуре состоит в том, что этот жест персонифицирует массовые желания и потребности, или желания и потребности влиятельной референтной группы, согласной поделиться с поэтом своими полномочиями. Не случайно одним из центральных и хрестоматийных образов приговской поэзии почти сразу становится фигура «милицанера», избранная в качестве протагониста214; на это обращают внимание большинство исследователей (как, впрочем, и на пристрастие самого поэта, по крайней мере в ранний, советский период, к милицейской фуражке, понимаемой как эмблема власти, что можно интерпретировать как миметический фокус переодевания, перекодирования себя в качестве симулякра власти). «Милицанер», а не «милиционер» – простонародная артикуляция выявляет противопоставление официозного разговорному, интеллигентского, номенклатурного – массовому, ущемленному и одновременно групповому, персонифицирующему ущербность ввиду отсутствия у соответствующей группы необходимого объема власти.
Существенными представляются и такие характерные черты поведенческой практики Пригова, как экспансия215, захват новых пространств и аудиторий, выход за пределы традиционной роли поэта, казалось бы, иронический культ собственной личности и нарастающая суггестивность воздействия. Декларируется, что отдельный текст не имеет значения (то есть имеет, но только в рамках традиционной интерпретации); а вместо качественного критерия выдвигается количественный: дневная норма – три стихотворения, а общий итог сначала был обозначен как 10 тысяч текстов, потом-20 тысяч, но когда в Новое время и этот барьер оказался преодоленным, появилась следующая цифра -24 тысячи. Стратегия глобализации проекта соответствует глобальности претензий мета-художника на власть посредством операции деконструкции. И программа десакрализации всего советского – лишь частный случай десакрализации власти, в результате чего жреческие функции переходят на того, кто и осуществляет деконструкцию.
Однако не случайно приговский проект неоднократно получал истолкование как «утопический»216, «романтический». Хотя автор, формируя поток сознания своего очередного персонажа, имитирует для более точного концептуального соответствия поэтику графомана, сквозь любой текст просвечивает достаточно точно характеризующая «героя» высокая тоска по однозначному соответствию явления и его ярлыка, по утерянной гармонии между фактом и его определением. Каждый текст в итоге превращается в примерку перед зеркалом читательского восприятия конкретного события, которому персонаж подбирает подходящий концептуальный трафарет, парадоксальный штамп, – и текст тем точнее интерпретируется как более удачный, чем более точно это соответствие.







