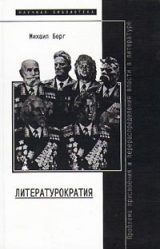
Текст книги "Литературократия"
Автор книги: Михаил Берг
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Два локальных всплеска литературоцентристских тенденций в XX веке – советский роман и латиноамериканский, которые могут быть интерпретированы как отложенная реакция и следствие задержанного развития, являются теми исключениями, что только подтверждают правило. По замечанию В. Подороги, естественный процесс потери литературоцентризмом доминирующего положения в России был насильственно прерван в сталинское время, когда началось восстановление литературоцентристской модели мира на тоталитарных основаниях433. Те социальные позиции, которые массовый человек в Западной Европе обрел в результате конкурентной борьбы, в советских условиях находились в нелегитимном состоянии. Выход массового человека на авансцену общественной жизни откладывался, повествовательные жанры, благодаря своей эвфемистической природе, позволяли вести в разной степени продуктивный диалог с границами поля культуры, олицетворявшими границы символической власти, пока стремительная эмансипация массового человека в результате «перестройки» не положила конец литературоцентризму, выполнившему свое предназначение. В результате письменное слово потеряло свою власть подтверждать статус реальности, как культурной, так и социальной. «Слово сегодня уже не играет в нашей кризисной культуре роль высшей достоверности. Потенциал убеждающего слова исчерпан, так как оно лишилось своего перформативного качества, оно больше не в силах изменять порядок вещей. Конечно, массовое беллетристическое сознание все время находится в ожидании нового слова, и это ожидание не в силах превозмочь даже телевидение, казалось бы самим проведением созданное для того, чтобы разрушать словесную магию. В целом весь краткий период перестройки представляет собой часть литературного процесса: постсталинская литература с великолепной настойчивостью и злостью уничтожает сталинскую литературу. Процесс завершен» (Подорога & Ямпольский 1994: 15). Отложенный характер явления «латиноамериканского» романа также является следствием задержанного развития в результате «колонизации». Процессу становления национального массового сознания в латиноамериканских колониях европейских государств мешали сначала метрополии, а затем заменивший их институт местных диктатур. Процедура деколонизации синонимична процедуре освобождения от феодальных порядков в Европе – выход на общественную сцену массового человека в латиноамериканских странах создал необходимые условия для всплеска интереса к роману, интенции которого (в том числе приближение будущего вплоть до растворения его в настоящем и укоренение в обществе новых социальных позиций) вполне вписываются в рамки уже исследованного механизма эмансипации массового человека.
Цензура как критерий цены словаЕще одна причина изменения статуса литературы – это неуклонное смягчение цензурных запретов и резкое сужение табуированных зон. Роман не случайно стал пространством, в котором новые общественные нравы заявили о себе, постепенно сдвигая границу между легитимным и нелегитимным, приличным и неприличным, разрешенным и запрещенным. Почти все наиболее популярные европейские романы инициируют своеобразную игру с границей, представленную совокупностью общественных норм в пространстве права, морали, этикета434. И значение для общества, скажем, «Манон Леско» Прево, «Мадам Бовари» Флобера или «Анны Карениной» Толстого не может быть понято без учета господствующих в соответствующие эпохи воззрений на брак, супружескую верность, правила хорошего тона и сексуальную свободу. Сюжет в романе строится на попытках преодоления общепринятых норм и установлений; герои гибнут, разбиваясь о барьер той или иной институции, что в факультативном плане общественной интерпретации представляется доводом в пользу ее отмены или корректировки. В то время как исчезновение общепринятых ограничений неуклонно приводит к потере оснований для построения конструкции романа и его фабульного развития.
Уже первые законодательные инициативы по запрещению романов вызваны подозрением, что литература, прежде всего повествовательная, «развращает нравы», «подрывает мораль» и «разрушает устои». Цензура, пытавшаяся отстоять традиционные принципы и правила общественного поведения, интерпретируемые в качестве вечных ценностей (а на самом деле легитимирующие распределение власти и социальных позиций с помощью норм этикета и морали435), испытывала давление литературы на протяжении двух с половиной столетий, начиная с 1737 года (первого французского декрета о запрещении романов) до 1957 года, когда член Верховного суда Соединенных Штатов Бреннан добился того, что на литературу стали распространяться гарантии первой поправки к конституции.
История цензуры Нового времени представляет собой проекцию истории расширения литературой области дозволенного и легитимного поведения. Литература аккумулировала энергию общественного устремления к преодолению тех нормативных границ (церемониальных, этикетных, нравственных и сексуальных), которые были связаны с распределением сексуальной, социальной и религиозной власти. Умозрительная по своей словесной природе, всегда способная использовать эвфемизм для просачивания сквозь границу между запрещенным и разрешенным (после чего «норма благопристойности» оказывалась сдвинутой), литература – в последовательной серии прецедентов, от Ричардсона и Филдинга до Джойса, Генри Миллера и Набокова, – преодолевала границы, фиксирующие само понятие социальной и нравственной «нормы», «запрета», «табу». Литература аккумулировала жажду свободы (потому что синоним свобода – власть, то есть свобода от ограничений, препятствующих присвоению власти), и ее эмансипация – своеобразное отражение процесса слома цензурных ограничений, вплоть до переноса функций носителя цензуры с государства на общество, заменившее одни ограничения, мешающие присвоению власти, другими, сохраняющими эту власть.
Однако, прежде чем с помощью термина «политкорректность» общество взяло под свою защиту ранее репрессированные формы сознания, то есть то, что долгие века считалось неприличным (в светском варианте) и грехом (в церковном), ему – с переменным успехом – пришлось оспаривать у цензуры территорию нормы. Еще в последние годы прошлого века видный британский издатель Генри Визеттелли был дважды предан суду за публикацию английского перевода романа Эмиля Золя и в семвдесятилетнем возрасте отправлен в тюрьму. По словам Эдварда де Грациа, исследователя законов о непристойности в применении к литературе, процессы над Визеттелли «имели огромное значение, став первым в англоязычных странах прецедентом применения закона о непристойности с целью запрета бесспорно значительных литературных произведений» (Грациа 1993а: 196).
Приговор Визеттелли основывался на правовой норме, известной под названием «доктрины Хиклина», которую в 1868 году сформулировали члены английского Королевского суда. Эта норма применялась в судебных экспертизах по делам о непристойных произведениях и устанавливала, имеет ли данное произведение тенденцию «развращать и растлевать тех, чьи души открыты для подобных аморальных влияний». Однако обвинение «в аморальности» чаще всего являлось эвфемизмом для обозначения нелегитимного статуса конкурентной борьбы в социальном пространстве.
Поэтому первые судебные процессы в Англии против издателей были связаны с публикациями не порнографической литературы, а социальной прозы французских писателей Золя, Флобера, Бурже и Мопассана. Порнографическая литература внушала куда меньшие опасения, ввиду того, что обладала несоизмеримо меньшей по численности и авторитетности читательской аудиторией и, следовательно, меньшим общественным резонансом. Зато под цензурный запрет попадают «Озорные рассказы» Бальзака, «Крейцерова соната» Толстого, «Триумф смерти» Д'Аннунцио. Однако самым важным этапом борьбы общества с цензурой за право писателя описывать то, что считалось непристойным, стали последовательные попытки опубликовать в Америке «Улисса» Джеймса Джойса, «Лолиту» Набокова и «Тропик рака» Генри Миллера. Без преувеличения можно сказать, что именно эти три романа, по сути дела, разрушили институт цензуры в применении к литературе, а их публикация обозначила границу, определяемую ныне как «конец литературы». Формула «можно все – не интересно ничто» применительно к литературе возникла после ряда судебных процессов, привлекших к себе общественное внимание всего мира и связанных с попытками получить разрешение на публикацию этих романов в Новом Свете, после чего американские, а затем и европейские суды «все реже стали выражать готовность подвергать преследованиям произведения по обвинению в сексуальной безнравственности – то есть те, которые выражали безнравственные идеи, в отличие от произведений, возбуждающих похоть» (Грациа 1993b: 203).
Америка с естественным опозданием стала ощущать моду на романы, которая (повторяя ситуацию Старого Света) была обозначена как «маниакальное увлечение прозой». Но к 1880 году поток прозы стал столь бурным, что общество, опасавшееся, что романы являются «опиумом для народа и способствуют социальной деградации», начало строить преграды на его пути. В том же 1880 году журнал «Ауэр» писал: «Миллионы девушек, сотни тысяч юношей „романизируются“ до уровня полного идиотизма. Читатели романов подобны курильщикам опиума: чем больше они потребляют, тем большую нужду испытывают, а издатели, обрадованные подобным положением дел, продолжают извращать общественный вкус и сознание, наживая при этом целые миллионы». Пропорция в виде полового соотношения «миллиона девушек» к «сотне тысяч юношей» была вполне оправданна: по данным авторитетной «Истории книгоиздания в Соединенных Штатах», в 1872 году около 75% американских романов принадлежало перу женщин. Борьба за равноправие и женская эмансипация как способы обретения легитимности репрессированных форм сознания и соответствующих позиций в социальном пространстве синхронны росту интереса к повествовательной прозе. Не случайно именно издатели-женщины первыми публиковали наиболее рискованные книги, несмотря на решительное противодействие закона. В 1921 году две американки, Маргарит Андерсон и Джейн Хип, были осуждены за публикацию в своем журнале «Литтл ревью» эпизода с Герти Макдауэлл из «Улисса». «Нью-Йорк тайме» откликнулась на этот процесс, дав следующую характеристику роману, который спустя несколько десятилетий будет объявлен классикой XX века: «Это произведение весьма любопытное и небезынтересное, особенно для психопатологов. Его вызывающий характер заключается в том, что в нем иногда нарушаются признанные нормы приличия в употреблении слов»436. Полностью роман был опубликован во Франции в издательстве «Шекспир и компания», принадлежавшем американке Сильвии Бич; и только шумный судебный процесс 1933 года разрешил ввоз и публикацию «Улисса» в Америке.
Однако лишь после решения 1957 года по делу «Рот против Соединенных Штатов»437 издатели начали безбоязненно печатать произведения, в которых открыто изображался секс, и суды стали более благосклонно относиться к раскрепощенному сексуальному выражению. Следующим этапом борьбы с нравственной цензурой стала публикация «Лолиты» во французском издательстве «Олимпия-пресс» (глава издательства Морис Жиродиа полагал, что, опубликовав этот роман, он «раз и навсегда покажет как всю бесплодность цензуры по моральным соображениям, так и неотъемлемое место изображения страсти в литературе» (Грациа 1993b: 206). Серия шумных судебных процессов сопровождала и публикацию в США романа Генри Миллера «Тропик рака», жанр которого был определен автором как «затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте…» Заглавные буквы фиксируют символическое значение границ, осознанно или бессознательно преодолеваемых литературой в рамках конкурентной борьбы поля литературы за более высокий статус в социальном пространстве. Плотина цензуры была сорвана, не выдержав общественного давления, писатель получил право писать так, как он хочет, а читатель читать все, что писатель напишет. Но, расширив свои границы вплоть до исчезновения их, литература лишилась важного измерения, обеспечивающего ей массовый читательский интерес, так как не соответствовала стратегии фиксации и преодоления границ между легитимным и нелегитимным.
Еще в 1933 году Моррис Эрнст, защищавший право на продажу в США «шекспировского» издания «Улисса», после выигранного процесса, в предисловии к первому американскому изданию романа, с нескрываемым удовлетворением утверждал, что писателям отныне не придется «искать спасения в эвфемизмах» и они смогут «описывать основные человеческие функции без страха перед законом» (Грациа 1993а: 218). Писатели действительно получили возможность описывать основные человеческие функции (и прежде всего – сексуальные438) без эвфемизмов, но для широкого читателя это послужило не стимулом к чтению сочинений, написанных без оглядки на отмененный закон, а напротив – потерей интереса к литературе.
Преодоление последних цензурных запретов обернулось не столько свободой творчества (то есть властью без границ), сколько освобождением от груза самой власти, казавшейся имманентной любой творческой стратегии, и наиболее ощутимо проявилось в падении социального статуса литературы439, которая, благодаря своей эвфемистической природе, куда свободнее могла обходить разнообразные ограничения, нежели кино и видео, и, значит, присваивать власть фиксации и преодоления границ440. Пользуясь определением Шкловского, можно сказать, что писатели в очередной раз выполнили роль «пробника»441, литература потеряла статус радикального инструмента, и для общества теперь интерес представляли не эвфемизмы, а более грубые и зримые приемы фиксации реальности.
Граница, определяемая мерой допустимого в области литературной эротики, была смещена в область гиперреальной кино– и видео-порнографии, при решении вопроса о запрещении которой просвещенное мышление, по словам Ж. Бодрийяра, заходит в тупик, не зная, надлежит ли подвергнуть порнографию цензуре или остановить выбор лишь на хорошо темперированном вытеснении. Важным, однако, представляется вопрос о соотношении реальности и порнографии, прежде всего применительно к изображениям на кино – и телеэкране: «вам дают столько всего – цвет, рельеф, высокая точность воспроизведения секса, с низкими и высокими частотами (жизнь, что вы хотите!), – что вам уже просто нечего добавить от себя, т. е. дать взамен. Абсолютное подавление: давая вам немного „слишком“, у вас отнимают все»442. Невозможность добавить от себя синонимична отказу от инвестиций читательского внимания, лежащего в основе экономики обмена в культуре.
Однако актуальность литературного дискурса не тождественна ценности «запретного плода». Стремление к свободе и разрушению всех ограничений творчества всегда было синонимично стремлению к власти постижения, присвоения и хранения тайны. Существовавшие запреты – в виде социальных, сексуальных, культурных и прочих табу – воспринимались как границы, скрывавшие тайну (другой вариант – истину), однако преодоленные, смещенные, а затем отмененные границы обнаружили истину совсем другого рода: та тайна, которую содержала литература, и заключалась в ее образной, эвфемистической структуре. Метафорически говоря, литература была плодом без косточки, ее смысл содержался в самой фактуре – условных приемах, пульсации словесной материи, интеллектуальной и социальной игре, получившей статус конвенции между читателем и автором. Очистив плод от мякоти, читатель обнаружил не косточку истины, а нечто претендующее на фиксацию реальности, но представляющее из себя набор нерепрезентативных условностей, и конвенция оказалась нарушенной443. Место литературы (fiction) заняла документальная, мемуарная, очерковая проза444, но прежде всего гиперреальное изображение445.
Критериями качества стали не такие параметры конвенции, как вымысел и воображение, а зримость, конкретность, псевдообъективность, при которых изображение не только представало в виде самой действительности, но и подменяло ее. Но, как тут же выяснилось, аудиовизуальная культура, прежде всего кино и видео, куда легче симулирует правдоподобие, нежели литература, потому что «зримое» здесь предъявляется в качестве самоочевидного и самодостаточного446.
Анализируя в свое время успех романа, Мандельштам привел четыре его характеристики: эпидемия, общественная мода, школа и религия. Однако сегодня уже недостаточно увидеть в периоде литературоцентризма, через который прошла европейская и североамериканская культуры, влияние общественной моды, так как она стала не причиной, а следствием задачи присвоения власти и приобретения доминирующего положения в социальном пространстве ряда сменяющих друг друга психо-исторических и социальных типов, для которых на протяжении полутора-двух столетий роман заменил школу и религию. А также обеспечил психологическое обоснование новой роли и места на общественной сцене, которое приходилось завоевывать в борьбе с системой общественных норм, препятствующих распространению его господства. Но как только главенствующее положение в обществе было завоевано и стало само собой разумеющимся, интеллектуализм получил статус излишних декоративных украшений и перестал казаться функциональным.
Одновременно историческим анахронизмом стала и другая, не менее существенная функция романа – его паллиативная религиозность. Роман занял место религии по причине очевидного падения власти религиозной утопии и не столько заменил религию, присваивая ее власть, сколько стал вариантом «светского писания» для секуляризирующегося общества. Функция литературы как легитимация смысла и целей новых социальных групп была столь же имманентной, сколь и исторически обусловленной. В обществе возникло как бы два полюса отталкивания и притяжения: первая Книга (лежащая в основании всех мировых религий) – и все последующие, которые, перераспределяя ее власть, представали в роли комментария, опровержения, дополнения. Только сосуществование этих двух полюсов создало то поле интеллектуального напряжения, в котором и возможно было легитимное функционирование светской литературы. Энергия, ощущаемая читателями светских книг, была энергия власти, которую аккумулировала и излучала первая Книга. Диалог продолжал быть продуктивным до тех пор, пока заряд энергии Книги был существенным или казался таким447. Падение статуса литературы есть следствие истощения властного дискурса религии (Книги), что вызвало массовое ощущение завершенности времени и истории; и тут же проявило себя в потере внутреннего смысла действительности, в ощущении фиктивности бытия, а это потребовало новых функций искусства, как бы подтверждающих, что жизнь есть, раз ее можно показать.
«Конец истории» – результат потери власти традиционными утопиями, которые, реализовавшись, уступили свое место одной и единственной утопии – власти рынка448. По мнению Френсиса Фукуямы, в постисторический период вообще «нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории» (Фукуяма 1990:148). Однако это утверждение можно прочесть как: «нет искусства и философии за пределами рынка, определяющего статус культурного или интеллектуального дискурса ниже, чем хотел бы автор утверждения», или «нет искусства и философии для человека массы, а автор утверждения хотел бы дистанцироваться от тех позиций, которые понижают ценность его позиции». Хотя те явления и имена в культуре, которые тематизируют понятия «классик», «гений» и т. п., действительно, как это имело место в случае Гюго или Диккенса, Толстого или Достоевского, были средоточием именно массового, общественного успеха449. А постисторическая эпоха (или эпоха постмодернизма) не предусматривает возможности писателю и художнику претендовать на статус властителя дум, вне зависимости от того, работает ли он в жанре цитаты или комментария, в разной степени плодотворных и актуальных, но в любом случае ущербных в плане обретения общественного резонанса.
Конечно, письменная культура не исчезает в постисторическом пространстве хотя бы только потому, что аудиовизуальная культура, скажем кино, театр, компьютерные и интерактивные тексты, использует текст в виде сценария, либретто и т. д., но аудиовизуальная культура присваивает власть посредника между письменной культурой и потребителем, то есть играет важную роль интерпретатора слова. Ту операцию, которую раньше каждый читатель производил сам, совершая сложную интеллектуальную работу перекодирования, взяло на себя кино и видео. Право посредника и медиатора делегировано потенциальными читателями тем жанрам, которые взяли на себя труд интерпретации смысловых значений культуры, превратив былых читателей в зрителей и слушателей. Аудиовизуальная культура производит адаптацию и редукцию этих смыслов, потому что редукция синонимична расширению аудитории, однако сам факт присвоения аудиовизуальной культурой власти письменной свидетельствует о том, что неадаптированные массовой культурой смыслы проявляются перманентно, остаются существенными и требуют формализации.
Поэтому формула Деррида, определившего наше время как «конец конца», репрезентирует не менее исторически обусловленные правила игры, в которых манифестация «конца» не препятствует очередной манифестации «конца» и т. д., то есть не является окончательным приговором450. Хотя изменение статуса литературы несомненно повлияло на фигурантов литературного процесса и заставило отказаться от одних и скорректировать другие стратегии в соответствии с целями и ставками социальной конкуренции, новыми зонами власти, в том числе властью традиции.







