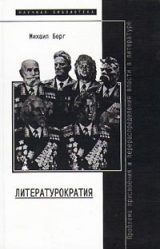
Текст книги "Литературократия"
Автор книги: Михаил Берг
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
V. Теория и практика русского постмодернизма в ситуации кризиса
Отсутствие необходимых институций для разворачивания радикальных авторских стратегий на фоне исчезновения литературоцентристских тенденций вызывает ощущение глобального кризиса русской культуры. В некоторых случаях этот кризис интерпретируется как катастрофа. Для В. Мизиано, катастрофа (в отличие от кризиса, который, возникнув в одной из сфер, не предполагает непременной цепной реакции) носит обвальный характер, потому что прежде всего эта катастрофа институциональная532. В этой ситуации постмодернизм почти в равной степени полагается как ответственным за катастрофическое положение русской культуры, так и единственным выходом из кризиса. Сам постмодернизм при этом получает то расширенное толкование, когда он становится синонимом почти всего пространства современной литературы и искусства (симптоматичны попытки рассматривать в качестве постмодернистского текста не только «Мастера и Маргариту» и «Архипелаг ГУЛАГ»533, но и, по сути дела, весь советский соцреализм534, а также пушкинский «Евгений Онегин» и гоголевские «Мертвые души»535), то принципиально зауженное, когда постмодернизм рассматривается лишь как синоним «московского концептуализма». Существуют, однако, попытки доказать, что постмодернистский дискурс вообще не приложим к российской ситуации. Для Мажорет Перлоф, русский постмодернизм – всего лишь оксюморон и носит знаковый, символический, этикетный характер, а то, что называется постмодернизмом, не что иное, как симуляция постмодернизма, тематизирующая традиционные для русской культуры процессы мимикрии любых нетрадиционных культурных импульсов в поле западноевропейской и американской терминологии. Формально текст, атрибутируемый русскому постмодерну, действительно может быть прочитан и рассмотрен в виде постмодернистского дискурса (что часто и делается), но по существу это нечто и принципиально другое. М. Липовецкий, отмечая неприложимость к советской и постсоветской ситуации многих концепций постмодернизма, выработанных в контексте западной цивилизации, ссылается на мнение Н. Конди и В. Падунова: «По мнению исследователей, „словарь постмодернизма“ не претерпел существенных изменений в постсоветской транскрипции и напоминает родственный язык, записанный в другом алфавите: и в западном, и в русском постмодернизме решающую роль сыграли смерть мифа, конец идеологии и единомыслия, появление много – и разномыслия, критическое отношение к институтам и институализированным ценностям, движение от Культуры к культурам, поругание канона, отказ от метанарративов и некоторые другие факторы»536.
Кажется, так происходило при всех заимствованиях европейских художественных течений в России – русский байронизм, переведенный с английского, стал не столько байронизмом, сколько новым русским эстетическим явлением. Психологический роман или роман воспитания, надолго прописавшийся в России, не столько продолжал традиции Руссо, Флобера, Бальзака или Диккенса, сколько породил традицию русского психологического романа, имеющего свои не только легко распознаваемые координаты, но и ценностные ориентиры. Буквальный перевод создавал принципиально ученические или механистические транскрипции, вроде той, которую производил ранний Брюсов, внедрявший в умы читающей публики свои версии-подстрочники поэтики французского символизма. Казалось бы, нечто подобное произошло и с русским постмодернизмом, если бы не отличия, можно сказать, онтологического свойства.
Если особенности западного постмодернизма были связаны с попытками залатать «бреши в интеллектуальной ткани модернизма, казавшейся неизнашиваемой (поскольку она была соткана не из материи, но из релятивных ценностей)» (Гаспаров 1996: 29), в результате чего модернистский антипозитивизм превратился в «неопозитивизм», то ситуация возникновения российской практики, впоследствии интерпретированной как постмодернизм, определялась в равной степени невозможностью как модернизма, так и антипозитивизма. Поэтому основные положения западного постмодернизма – вопрос о снятии границы между элитарным и массовым искусством (Лесли Фидлер)537, «смерть автора» (Мишель Фуко и Ролан Барт)538, процесс дезавуирования традиционной физиологии (Делез и Гватари)539, кризис позднего капитализма (Ф. Джеймесон)540, информационная революция, породившая компьютеры, власть массмедиа и Интернет (Бодрийяр и Умберто Эко)541, утрата былыми дискурсами власти авторитета и замена их диктатом рынка (Фуко и Батай)542, значение контекстуализации (Дженкс)543 и замена теории «репрезентации» деконструкцией (Деррида)544 – не имели в начале 1970-х годов для русской культуры соответствующих транскрипций. «Вот почему если для западного постмодернизма так существенна проблема дифференциации, дробления модернистской модели с ее пафосом свободы творящего субъекта, смещения границ между центром и периферией и вообще децентрализация сознания (последний фактор, в частности, выражает себя в концепции „смерти автора“ как смыслового центра произведения), то русский постмодернизм рождается из поисков ответа на диаметрально противоположную ситуацию: на сознание расколотости, раздробленности культурного целого, не на метафизическую, а на буквальную „смерть автора“, перемалываемого господствующей идеологией, – из попыток, хотя бы в пределах одного текста, восстановить, реанимировать культурную органику путем диалога разнородных культурных языков» (Липовецкий 1997: 301). Поэтому там, где западный постмодернизм имеет дело с фетишем (и его товарной сущностью), русский – с сакральной, точнее – сакрализованной, реальностью. Подмена приводит к тому, что возникает ощущение «отсутствия предмета речи – строго говоря, нет ничего такого, к чему можно было однозначно приложить существительное „постмодернизм“» (Курицын 1995: 198) в контексте русской культуры, ввиду чего оказывается корректнее говорить не о «постмодернизме», а о «ситуации постмодернизма», которая на разных уровнях и в разных смыслах отыгрывается-отражается в разных областях культурной манифестации. Применение термина «постмодернизм» и практика, атрибутируемая постмодерну, оказываются фиктивными, что проявляется как в теоретическом дискурсе, так и на способе осуществления различных стратегий.
Если, по мнению западных теоретиков, в рамках постмодернизма «мы отказываемся от иерархий, мы также отказываемся от дифференции» (Nittve 1991: 32), то русский постмодернизм только симулирует отказ от иерархий и различий в стилях и предпочтениях. И постмодернизм, и концептуализм (как первое или одно из наиболее характерных проявлений русского постмодернизма) в высшем смысле иерархичны и, конечно, не отказываются от предпочтений, что хорошо различала советская цензура, идентифицируя первые концептуальные тексты конца 1970-х – начала 1980-х годов как антисоветские. Цензура, как, впрочем, и сами авторы, прекрасно понимала природу того сакрального, которое деконструировалось в рамках постмодернистской работы, – о равенстве языков и стилей здесь можно было говорить только в русле идентификации постструктуральной терминологии как терминологии юридической. Возьмем классическое определение Ж.-Ф. Лиотара: «Постмодернистский художник или писатель находится в ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он создает, в принципе не управляется никакими предустановленными правилами, и о них невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому тексту или этому творению каких-то уже известных категорий» (Lyotard 1982: 367). В то время как интерпретация концептуальной практики в первой половине 1980-х годов предполагала, что к концептуальному тексту, напротив, приложимо определяющее суждение в рамках известных категорий. В некотором смысле русский постмодернизм советского периода может рассматриваться как процесс контекстуальной мимикрии; однако симуляционная полистилистичность в равной степени легитимировала и скрывала появление определяющего суждения. Поэтому деконструкция советского властного дискурса воспринималась как деструкция, а игра стилями – как способ уклонения от однозначной юридической ответственности, что провоцировало истолкование художественных практик русского постмодерна как систему опознавательных знаков, призванных, с одной стороны, служить идентификации этих практик как современных и хорошо осведомленных в ситуации европейского искусства, с другой, скрывающих свою принципиально иную, нежели у окружающего социума, систему ценностей, которая таким образом имплицитно утверждалась. В этом смысле русский постмодернизм, в отличие от западного, никогда не был отягощен, если вспомнить Деррида, философией конца, не был концом конца, а воспринимался как конец тупика и альтернатива эпохи симулякров, подлежащих деконструкции.
Поэтому рассуждение о природе русского постмодернистского искусства в технических терминах современной постмодернистской или постструктуральной теории вынуждает прибегать к постоянным оговоркам (типа так называемый постмодернизм), ибо эта теория, будучи приложима к практике русского постмодернизма, подчас приводит к сглаживанию противоречий и ряду разночтений, как бы навязывает натуре тот язык описания, который смещает систему координат, описывая чужое как свое, причем не на своем, а на чужом языке.
Однако несовпадение русского постмодернизма с тем, что подразумевается под этим явлением на Западе, не является дезавуирушцей констатацией545, свидетельством несамостоятельности и несущественности отечественного постмодерна образца 1970-1980-х годов. Скорее напротив. Представая в виде естественной реакции не только на опыты западноевропейского и североамериканского поп-арта (в соответствии с известной формулой подмены переизбытка товаров на переизбыток идеологии), но и одновременно на тоталитарное (и на якобы находящееся к нему в оппозиции либеральное, традиционное) искусство, соц-арт, концептуализм, постмодернизм носили, конечно, ярко выраженный просветительский характер. Исследуя сакрализованные и идеологические объекты как зоны власти, новое искусство расшифровывало властные функции этих объектов, но не в том смысле, что эти объекты дезавуировались в новом искусстве, хотя такая трактовка постмодернизма существовала и существует, сводя его роль, по сути дела, к пародии546. Власть перераспределялась, а присвоение зон власти – обозначим последовательный ряд элементов властного дискурса: имя, название, культурный герой, литературный или пропагандистский штамп, стиль как отражение тоталитарного сознания, религиозный, идеологический или метафизический символ и т. д. – способствовало десакрализации соответствующих объектов. Процесс десакрализации мог интерпретироваться как позитивистская работа – не случайно непосвященные, то есть не понимающие языка нового дискурса, делали акцент на сатирическом элементе (и интерпретация концептуалистов как «могильщиков» соцреализма до сих пор имеет комплиментарный оттенок); посвященные получали возможность участия в операции присвоения символического капитала тоталитаризма. Имея в виду дальнейшую трансформацию некоторых постмодернистских практик, стоит еще раз подчеркнуть, что предметом, исследуемым в объективе постмодернистского аппарата, было не «зло идеологии», а накопленная в процессе подчас многовекового ментального и художественного опыта энергия власти и различные формы культурного, социального и символического капитала. Энергия власти присваивалась вместе с властными полномочиями поля литературы и идеологии, что придавало операции деконструкции в начале 1980-х годов статус почти мистического таинства547.
Однако на некоторых аспектах теоретического дискурса русского постмодернизма имеет смысл остановиться подробнее.
Вадим Линецкий: постмодернизм как преодоление постмодернизмаИмея в виду вариативность способа применения термина «постмодернизм» в контексте русской литературы, Линецкий рассматривает практику «московских концептуалистов» (и шире – практику «новой постмодернистской литературы») не как транскрипцию западного постмодернизма, а как своеобразный ответ, попытку преодолеть его. Если основное событие, определившее постмодернистскую проблематику, – это открытие темы отсутствия, не-со-временности, то практика русского постмодернизма как раз и состоит в актуализации темы современности, в пафосе присутствия, присоединения актуальных, современных контекстов и в апелляции к пространству современных художественных приемов. Если для западного постмодернизма одной из основных интенций оказывается отказ от субъективности, сконструированной философией Нового времени, потому что субъективность уже не может «претендовать на фундаментальную роль, ибо она не целостна, никогда полностью не присутствует для себя самой, не современна себе, своему сознанию о себе <…>, поэтому означенный дискурс подлежит деконструкции, знаком которой и стало парадоксальное слово постсовременность (постмодернизм)» (Линецкий 1993: 242), то русский постмодернизм – это акцентированная субъективность, подаваемая под прикрытием приемов, интерпретируемых как отказ от объективности. Эта субъективность присутствует в текстах русского постмодернизма советского периода, как, впрочем, и в более поздних, репрезентирующих «новую искренность» (термин Пригова, примененный для обозначения ряда поэтических циклов перестроечного периода), в жанре посланий, в актуализации значения «имени в тексте» (здесь симптоматичен жанр «посланий» Кибирова и приговских обращений, упоминаний в тексте имен современных художников и писателей списком или поодиночке), в фиксации эпизодов авторской биографии и т. д. «Поиски новой субъективности, призванной заменить субъективность Нового времени, потерпевшую фиаско в постмодерне, являются сквозной темой „новой литературы“, возникновение которой было прямым вызовом постмодернизму» (Линецкий 1993: 246).
Новая субъективность противостоит не только прокламируемым постструктурализмом идеям «смерти автора» и «исчезновения субъекта», но и параллельным процессам в литературе соцреализма, который интерпретируется как один из первых вариантов постмодернистского дискурса. Линецкий опровергает комплекс достаточно распространенных воззрений, в соответствии с которым соцреализм представляет собой продолжение авангардистского эксперимента (см. об этом: Гройс 1993, Смирнов 1995, Парамонов 1997). Еще Катарина Кларк отмечала, что «главный отличительный признак соцреализма никак не связан с традиционными категориями поэтики; это – радикальное переосмысление роли автора. По крайней мере, после 1932 года писатель перестает быть творцом оригинальных текстов: теперь он работает на материале мифологии, творцом которой является партия. Соответственно его функция отныне напоминает функцию средневековых хронистов, но еще больше она напоминает роль автора в эпоху классицизма» (Clark 1981: 159). Сравним замечание Кларк с утверждением Линецкого: «Соцреалистический автор – лишь контур, обводящий пустоту, отсутствие всего, что связано с традиционным понятием авторства (отсюда такие вещи, как „линия партии в литературе“, „соцзаказ“, вторая редакция „Молодой гвардии“, наконец, плагиаторство Шолохова). „Смерть автора“, которым ознаменовался соцреализм, стала, как и предполагал Р. Барт, рождением читателя, но только не в единственном, а во множественном числе („самый читающий в мире народ“)» (Линецкий 1993: 243).
Однако проблема формальной роли автора в соцреализме связана (о чем не упоминают ни К. Кларк, ни В. Линецкий) с исчезновением реальности, которая меняла свой статус в результате процесса сакрализации. Процедура превращения реального объекта в сакральный требовала огромных усилий, сакральный объект аккумулировал в себе энергию, равную энергии превращения картины в икону. Поэтому деконструкция реальности, предпринятая концептуалистами, и способствовала высвобождению скопленной энергии и обнаружению объектов, пригодных для деконструкции. Постмодернизм в его советском варианте был системой, позволявшей увидеть, идентифицировать реальный объект как сакрализованный548 и одновременно произвести с ним операцию типа дренажной. Здесь кроется причина стремительного роста популярности операции деконструкции, ибо процесс открытия и присвоения символического капитала в форме идеологической энергии синонимичен присвоению власти и легко поддавался копированию, дубляжу. В то время как традиционная литература могла рассматривать сакрализованный объект лишь извне, дистанцируясь от него, противопоставляя, а не присваивая позицию оппонента, а то, что открывалось в результате аналитического либо психологического исследования, всегда оборачивалось редукцией – социальным или метафизическим злом, которое можно (и должно) было преодолеть. Для традиционного подхода резервировалась вакансия морализатора, пророка, бытописателя и психолога того мира, который уже не поддавался психологической мотивации.
Ситуация принципиальным образом изменилась после сужения, а затем и исчезновения области сакрализованной реальности и аккумулированной ею власти. Из недосягаемой эта область превратилась в нечто принципиально доступное, опыт постмодернистской деконструкции стал массовым, возник вопрос об инновационности и радикальности концептуализма в условиях изменившихся за несколько постперестроечных лет соотношений между литературой и обществом. Возникает острая потребность в актуальной теории современного русского искусства.
Утопическая теория утопического постмодернизма Бориса ГройсаКак заметил Богдан Дземидок, обычно «теоретики постмодернизма не предлагают общей философской теории искусства, занимаясь в основном определенным периодом в истории человеческой культуры и очень часто только одним видом искусства (например, архитектурой или литературой)» (Дземидок 1997: 16). Однако работу Б. Гройса «О новом» можно рассматривать как пример редко появляющейся глобальной теории искусства. Давая определение «нового» в искусстве, Гройс выводит формулу искусства и предлагает критерий оценки разных авторских стратегий в искусстве Нового времени. Более того, отдавая предпочтение примерам из изобразительного искусства, исследователь несколько раз уточняет, что сказанное им может быть распространено и на литературу, и на культуру вообще.
Принципиальным моментом интерпретации Гройсом функционирования авторских стратегий в поле культуры является утверждение им существования ценностной иерархии, в соответствии с которой можно говорить о наличии некоего «культурного архива», «культурной памяти» или традиции (в виде музеев, галерей, библиотек и т. д.) и «профанного мира», который представляет из себя все то, что не входит в культуру. Не входит именно в момент рассмотрения, ибо граница между полем культуры и профанным миром не является раз и навсегда установленной, она постоянно сдвигается, но не только в сторону расширения: какая-то часть «культурного архива» время от времени выводится за его пределы и становится «профанной», в то время как элементы профанного мира постоянно вносятся (или переносятся) через границу, тут же заставляя исследователя или потребителя искусства «переоценивать ценности».
Критерием ценности и инновационности является сама структура «культурного архива», ограниченного объемом и возможностями таких инструментов, как музей или библиотека. «В культурах, – замечает Гройс, – где ценности традиции постоянно подвергаются уничтожению и забвению, господствует положительная адаптация к традиции, которая противостоит времени и постоянно воспроизводит традиционное знание и традиционные культурные формы. Но с момента возникновения культурных архивов такое положительное воспроизведение традиции начинает приводить только к перепроизводству и к инфляции традиционных ценностей: архив не требует большого числа однотипных вещей и, соответственно, ограничивает возможности их принятия в „культурную память“» (Гройс 1993: 120). Реакцией на это сопротивление архива, препятствующего посредством разнообразных институций его расширению за счет уже существующих объектов549, и является производство новых, оригинальных, странных, контрастных к традиции вещей, попадающих в архив именно вследствие своей новизны.
Однако «новое» не есть просто иное по отношению к тому, что уже хранится в культурном архиве: новое всегда и прежде всего также нечто ценное, отличающее определенный исторический период и дающее преимущество настоящему перед прошлым. То есть новое, по Гройсу, ново только тогда, когда оно является новым не для определенного индивидуального сознания, а объявляется новым по отношению к общественно хранимому старому550.
Казалось бы, можно зафиксировать параллель между определением ценности нового в искусстве, предлагаемым Гройсом, и многочисленными определениями искусства, выявляющими корреляцию между качественными и количественными параметрами, как, например, в известном утверждении Паскаля: «Все редкое прекрасно, а прекрасное редко». Однако Гройс настойчиво подчеркивает, что, по крайней мере для Нового времени, существенной является не оппозиция «прекрасное/безобразное», а оппозиция «искусство/неискусство» или, даже точнее, «культура/профанный мир», так как именно внесение (перенесение) профанного элемента через границу между ними и объявляется актом искусства.
Сомнение, однако, вызывает не сама значимость расширения области искусства за счет внесения в него профанного элемента (как частный случай – элемента действительности, до этого не представимого в качестве объекта искусства). При определенном усилии можно объяснить всю историю искусства как процесс постепенного внесения (или перенесения) через границу между искусством и неискусством того, что как искусство еще не легитимировано. Табуированные зоны, зоны сакрального, а также профанного (или низкого) для искусства в тот или иной период всегда существовали; и действительно, при ретроспективном взгляде на функционирование искусства можно увидеть, что произведение, которое становится новым по отношению к предшествующему ряду, отличается от него в том числе и новыми элементами профанного мира. Скажем, в тот момент, когда на картине, изображающей мадонну с младенцем, проявляются новые профанные элементы (предположим, традиционное одеяние мадонны впервые сменяется светским платьем по моде Средневековья), это, очевидно, должно было производить особое, шокирующее впечатление на зрителей-современников. Но является ли этот аспект главным, определяющим, самым ценным, даже более того – единственно ценным? Гройс утверждает, что – да. Объективация приема, интерпретируемого как правило, приобретает статус негативной теологии, отрицает субъективность, которая полностью поглощается продвинутой институциональностью автономного поля искусства, и оказывается утопичным, что вызывает ряд возражений551.
В той или иной степени важность внесения профанного элемента в новое произведение искусства может быть ценной (или даже определяющей) для того или иного конкретного направления, скажем поп-арта. Или при акцентированном использовании приема, называемого ready-made; но распространение этого приема, характерного для весьма ограниченного и до сих пор не завершившегося периода (хотя, в соответствии с лаконичным определением Деррида, мы живем в «конце конца» и этот постмодернистский период уже никогда не завершится), на всю историю искусства представляется поспешным. Не случайно сквозными примерами работы «О новом» служат «Черный квадрат» К. Малевича и две работы М. Дюшана – знаменитый перевернутый писсуар и его же испорченная репродукция «Моны Лизы» с подрисованными усами и неприличной надписью552. Гройс специально отмечает, что вся теория супрематизма, построенная Малевичем для объяснения им своего метода, является избыточной и, по сути дела, ненужной. Куда более существенным представляется сам факт появления геометрической (профанной) фигуры в виде картины. Неоднократно исследователь подчеркивает, что произведением искусства является не сама картина, а та переоценка ценностей, которая (как, например, в случае с Малевичем) происходит вследствие внесения профанного геометрического элемента в поле культуры. А любые попытки представить картину или произведение искусства как нечто имеющее дополнительную ценность, соотнесенную с другими реальностями, за исключением самой переоценки ценностей (как результата перенесения профанного, ненормативного через границу, отделяющую искусство от неискусства), рассматриваются исследователем как самореклама и попытка расширить аудиторию за счет тех, кто не понимает подлинный смысл искусства. «Любая отсылка к каким-то скрытым реальностям, которые должны обосновать и универсализировать инновацию (так Гройсом обозначается сам акт перехода через границу, охраняемую традицией. – М.Б. ), является только фантазмом или результатом специальной дополнительной стратегии в определенном идеологическом контексте» (Гройс 1993: 155). Однако то, что обозначается Гройсом в виде «специальной дополнительной стратегии», и представляет собой процедуру присвоения полем культуры позиций других полей (будь это поле религии или идеологии), а «отсылка к скрытым реальностям» не что иное, как поиск легитимности за счет перенесения на конкретную стратегию авторитета присваиваемых позиций, а этот поиск имманентен искусству553.
Отрицается Гройсом и специфическая ценность искусства, то есть то, что не может быть интерпретировано как процедура переоценки ценностей, вызванная внесением ненормативного элемента в поле традиционной культуры. Не произведение искусства, а вызываемая им перегруппировка ценностей легитимируется и приобретает статус инновационного жеста. Причем сам ненормативный, профанный элемент не становится при этом культурным, «писсуары вообще» после дюшановской манифестации не идентифицируются как предметы культуры, да и сама граница между культурой и профанным миром не меняется от того, что писсуар пересек ее: меняются только наши представления об искусстве как таковом, а призмой взгляда и служит указанный акт ready-made. Этот процесс приобретения статуса инновационности, по замечанию исследователя, может быть применен в «европейской литературе и других видах искусства», поскольку «описанный механизм инновации может рассматриваться как движущий европейской культурой в целом» (Гройс 1993: 168).
Желая радикализировать и максимально расширить поле действия описанного им механизма, Гройс приводит два примера, которые, по его мнению, также могут быть объяснены с помощью стратегии ready-made. Разбирая сложную ситуацию не только «входа» в культуру, но и «выхода» из нее, он рассматривает христианское пустынничество как один из вариантов ready-made. Пустынник уходит в пустыню от культуры и ее памятников в «наиболее для того времени профанную среду». Там он «пользуется элементарной утварью, питается самым простым образом и редко оставляет о своей жизни какие-либо письменные или художественные памятники»554. Однако к концу его жизни (или чаще – после смерти) «это пустынное место начинает привлекать к себе людей», становится местом поклонения, подчас вокруг пещеры, где жил пустынник, впоследствии строятся роскошные церкви, которые «покрываются росписями и украшаются различными дарами». «Но наибольшей ценностью продолжают все же являться мощи святого и немногие совершенно простые и обыденные вещи, которыми он пользовался, – если угодно, реди-мейд его святой жизни» (Гройс 1993: 193). Далее исследователь уточняет, что эти вещи не обладают оригинальной или культурной формой, но сама профанность, ставшая высшей культурной ценностью, делает их новыми и ценными для культуры.
Этот пример (хотя он, конечно, не единственный) наиболее ярко демонстрирует претензии на глобализацию предложенной Гройсом теории инновации. Нам предлагается поверить в тождественность жеста Дюшана, переворачивающего писсуар, и пустынника, который «своей святой жизнью» (это определение Гройса. – М. Б.) совершает то же самое: превращает неоригинальный, профанный предмет в «культурную ценность». В соответствии с совершенно осознанным жестом исследователя за скобки выносятся процессы сакрализации-десакрализации, позволяющие наращивать и присваивать символический капитал и устанавливать новые соотношения между символическим, социальным и культурным капиталом, как, впрочем, и борьба за автономность поля искусства как часть борьбы за перераспределение власти, и т. д., то есть та иная реальность, присутствие которой в «предмете искусства» принципиально отрицается. Так же как все те «иные реальности», которыми в разные времена и разные эпохи пытались объяснить ценность искусства. Естественно, объявляются «фантазмами» социальное или историческое измерение искусства и его восприятие, ссыпки на вдохновение, которому, в зависимости от той или иной традиции, приписывалось Божественное или космическое происхождение, прочие распространенные эвфемизмы «тайны творчества», то есть все те способы легитимации акта искусства, которые с разной эффективностью использовались в разных исторических и социальных условиях. Ссылки на эти реальности интерпретируются как избыточные и рекламные шаги, так как для «повышения культурной, а следовательно, и коммерческой стоимости профанной вещи вполне достаточно того, что ради нее было пожертвовано <…> культурной традицией» (Гройс 1993: 194). Исследователь уверен, что никаких дополнительных усилий производства здесь не требуется, как будто автономность и легитимность поля культуры и его институциональная структура заданы изначально, а не являются всего лишь промежуточным результатом конкуренции разнообразных социокультурных стратегий, перераспределяющих поле власти в своих интересах.
Не случайно Гройс в подтверждение корректности своей интерпретации акта искусства (и механизма, его порождающего) ограничивается нашим веком (точнее даже – явлениями поп-арта и супрематистских опытов), а попытка расширить поле функционирования указанных закономерностей оказывается малоплодотворной. Все уточнения, касающиеся определения природы самого профанного, необходимого для создания «нового» произведения искусства, только подтверждают весьма узкий спектр применения теории «инновационного обмена» и попутно выявляют специфические отличия поля современного искусства от поля предшествующей культурной традиции. Скажем, Гройс в рамках глобализации теории инноваций утверждает: «Давно было замечено, что самые разрушительные, демонические, агрессивные, негативные, профанизирующие тексты культуры охотно ею принимаются – но никакие „положительные“, благонамеренные, конформные тексты не могут иметь в ней настоящего успеха» (Гройс 1993: 198). Однако это «давно» обладает вполне определенной историко-культурной координатой и в основном имеет отношение к кризисным явлениям постмодернистской культуры. Чем более исследователь уточняет свою позицию, тем отчетливее становится ее избирательный, а не универсальный характер. Объясняя, почему современная культура заполнена вещами и знаками неценного, профанного, анонимного, агрессивного, вытесненного, незаметного, он сужает понятие «нового» до новых объектов страха555. Не случайно очередная попытка расширить поле применения теории инноваций приводит к отсылке к «первобытным народам», а определяя предпочтительную стратегию современного художника, Гройс утверждает, что «чем более насилие или пошлость в явном виде критикуются, тем более их валоризация представляется неудачной и оставляет чувство неудовлетворенности, поскольку ощущается, что автор прибегает к дополнительным средствам, чтобы ослабить мощь профанного – и, следовательно, недостаточно иммунизировал культуру против угрозы профанного» (Гройс 1993: 199). Итог обретает характер приговора: для того чтобы современная культура зачислила художника в число своих героев, художник обязан полюбить профанное «в самой его предельной профанности, отвратительности, пошлости, тривиальности или жестокости» и должен заставить потребителя искусства также увлечься, любоваться, любить, восхищаться профанным, одновременно идентифицируя его «как истинную культурную ценность»556.







