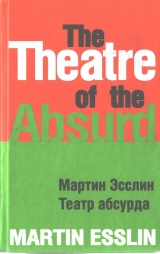
Текст книги "Театр абсурда"
Автор книги: Мартин Эсслин
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
ПРОЛОГ АБСУРД АБСУРДА
19 ноября 1957 года группа артистов Actors’ WorkshopСан-Франциско готовилась к встрече с публикой. Публика – тысяча четыреста заключённых тюрьмы Сан-Квентин, и артисты сильно волновались. Со времен Сары Бернар, игравшей там в 1913 году, стены этой тюрьмы не видели спектаклей с живыми артистами. Теперь, спустя сорок четыре года, артисты должны были играть «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета. Эта пьеса была выбрана потому, что в ней играли исключительно мужчины. Неудивительно, что актёры и режиссёр Херберт Бло волновались. Им предстояло играть перед самой трудной в мире аудиторией интеллектуальную пьесу, вызывающую протест у изощрённой публики Западной Европы. Херберт Бло решил подготовить зрителей Сан-Квентин к тому, что они увидят. Он вышел на сцену и обратился к заполненному до отказа тёмному залу. Его встретило море зажжённых спичек, которые заключённые, прикурив сигарету, бросали через плечо. Бло сравнил пьесу с джазовым произведением, в котором каждый слышит своё. Именно таким образом, надеется он, каждый зритель поймёт по-своему «В ожидании Годо».
Поднялся занавес. Спектакль начался. И то, что не поняли эстеты и снобы Парижа, Лондона и Нью-Йорка, было с ходу схвачено заключёнными. Колумнист тюремной газеты San Quentin Newsв «Заметках о премьере» писал: «Трое здоровенных парней с выпирающими бицепсами и мускулами, полностью заняли проход, ожидая девочек и чего-нибудь смешного. Когда этого не произошло, они шумно задымили сигаретами, дожидаясь, когда будет приглушен свет, чтобы незаметно улизнуть. Но они совершили ошибку, задержавшись на пару минут, и то, что они увидели и услышали, заставило их остаться до конца. Все были потрясены…»1 Автор передовицы назвал свою статью «Актёры Сан-Франциско оставили публику Сан-Квентин в ожидании Годо». Он писал: «С момента, когда осветилась сцена, напоминающая преддверие ада (замечательная сценография Робина Вагнера), и до последнего рукопожатия, которым нерешительно обменялись двое бродяг, зрители оставались в плену у актёров… Впервые попав в театр, они были напряжены. Но через пять минут после начала спектакля втянулись в действие»2.
Репортёр The San Francisko Chronicle, присутствовавший на спектакле, писал, что заключённые поняли пьесу. Один из них сказал: «Годо – это общество». Другой добавил: «Годо – аутсайдер»3. Был процитирован и тюремный учитель: «Они знают, что такое ждать… и они поняли, что если Годо, в конце концов, явится, он принесёт только разочарование»4. Автор передовицы тюремной газеты точно понял смысл пьесы: «Драматург обратился к символам, чтобы повествовать не о собственных ошибках, но чтобы каждый зритель сделал свои выводы по поводу собственных ошибок. Пьеса ни к чему не призывала, не давила морально, не сулила надежд… Ведь мы всё ещё ждём Годо и будем его ждать. Когда жизнь слишком однообразна, активность уменьшается, мы призываем друг друга и клянёмся никогда не расставаться, но дальше идти всё равно некуда!»5 С таким же успехом это мог сказать сам Годо или кто-то из персонажей пьесы. Эта фраза вошла в обиход, став мифологией тюрьмы Сан-Квентин.
Почему пьеса эзотерического авангарда произвела такое сильное впечатление на заключённых? Потому что она воспроизводила их ситуацию аналогичным образом? Возможно. Возможно, они не слишком разбирались в театре, были непредвзяты, готовы ждать и потому избежали капкана, в который попались известные, признанные критики, порицавшие пьесу за отсутствие сюжета, действия, характеров и не понятого ими смысла. Заключённые не грешили интеллектуальным снобизмом, присущим значительной части публики; делая вид, что пьеса понравилась, они даже не приблизились к её пониманию.
Публика «В ожидании Годо» в тюрьме Сан-Квентин и публика, аплодирующая пьесам Ионеско, Адамова, Пинтера и других, свидетельствует, что эти пьесы, столь часто высокомерно объявляемые вздором или мистификацией, имеют, что сказать и могутбыть поняты.
Непонимание и замешательство, с которыми критики и театральные обозреватели встречают эти пьесы, происходит потому, что они – часть нового, развивающегося театрального явления, не только не осмысленного, но едва очерченного. Пьесы, написанные в новом ключе, неизменно оценивают по установившимся стандартам и критериям, как вызов и грубый обман. Хорошая пьеса обладает искусно сконструированным сюжетом, в пьесах абсурда сюжет и фабула отсутствуют; хорошая пьеса ценится за характеры и мотивации, в пьесах абсурда характеры не распознать, персонажи воспринимаются почти как марионетки; в хорошей пьесе оправдана интрига, которая виртуозно ведётся и в итоге разрешается, в пьесах абсурда часто нет ни начала, ни конца; хорошая пьеса – зеркало природы и представляет свою эпоху в тонких зарисовках, пьесы абсурда отражают сны и кошмары; хорошие пьесы отличаются точными диалогами и остроумными репликами, пьесы абсурда зачастую представляют бессвязный лепет.
Однако пьесы абсурда волнуют и тревожат нас финалами, отличающимися от финалов традиционных пьес, потому что они создаются другим методом. О них нужно судить по законам театра абсурда, и цель книги – определить эти законы.
Стоит подчеркнуть, что драматурги, чьи пьесы рассматриваются под общим названием «театр абсурда», не представляют никакой самозванной или самодостаточной школы. Напротив, каждый из этих писателей – личность, считающая себя одинокой, посторонним, отрезанным и изолированным от мира, существующим в собственной сфере. У каждого из них своё представление о форме и содержании; свои корни, истоки, опыт. Если они к тому же понятны и вопреки всему имеют общее с другими, это объясняется тем, что их творчество – правдивое зеркало, отражающее тревоги, чувства и мысли важной ипостаси жизни современного Запада. Надо отметить, что их творчество отнюдь не выражает позиции масс. Было бы сверхупрощением утверждать, что наша эпоха представляет однородную модель. Она, более чем предыдущие, переходная и рисует картину, сбивающую с толку. Настроения нашей эпохи заводят в тупик: средневековые убеждения ещё держатся в нашем сознании, обременённые рационализмом XVIII века и марксизмом середины XIX века, сотрясаясь вулканическими извержениями доисторического фанатизма и примитивными племенными культами. Каждый из этих компонентов культурной модели находит характерное художественное выражение. И всё же театр абсурда может восприниматься как отражение репрезентативной позиции нашей эпохи.
Отличительная черта этого направления в том, что отринутое прошлыми веками, сочтённое ненужным и дискредитированное, наш век отмёл как дешёвые и детские иллюзии. Упадок религии маскировался до конца Второй мировой войны суррогатом веры в прогресс, национализмом и прочими тоталитарными заблуждениями. Всё это война разбила вдребезги. В 1942 году Альбер Камю хладнокровно поставил вопрос, почему, если жизнь потеряла смысл, человек более не видит выхода в самоубийстве. В одном из самых великих, оригинальных и глубоких творений нашего времени, в «Мифе о Сизифе», Камю пытался поставить диагноз ситуации, когда вера разбита вдребезги: «Мир, который поддаётся объяснению, пусть не самому совершенному, – мир привычный. Но во вселенной, которая внезапно лишается иллюзии и света, человек ощущает себя посторонним. Он – вечный изгнанник, ибо он лишён памяти о потерянной родине и надежды на обретение земли обетованной. И всё же он желает её достичь. Этот разрыв между человеком и его жизнью, актёром и сценой порождает чувство абсурда»6.
Первоначальное значение понятия «абсурд» – дисгармония в музыкальном контексте. В толковом словаре «абсурд» определяется, как несоответствие, порождённое причинами или правилами; как несовместимое, необоснованное, алогичное. В англоязычном толковом словаре «абсурд» означает ещё и «смехотворный». Но не в том смысле, в каком понятие «абсурд» применяет Камю и в каком оно используется в словосочетании «театр абсурда». Ионеско в эссе о Кафке определяет его так: «Абсурд – это нечто, лишённое цели… Оторванный от своих религиозных, метафизических и трансцендентальных корней человек погиб; все его действия бессмысленны, абсурдны, бесполезны»7.
Чувство метафизического страдания и абсурдности человеческого удела в общих чертах – тема пьес Беккета, Адамова, Ионеско, Жене и других, о ком говорится в этой книге. Но это не единственная тема театра абсурда. Подобное восприятие бессмысленности жизни, неприятие девальвации идеалов, чистоты, целеустремленности – тема пьес Жироду, Ануя, Салакру, Сартра и, разумеется, Камю. Но эти драматурги существенно отличаются от драматургов абсурда ощущением иррационализма человеческого удела в очень ясной и логически аргументированной форме. Театр абсурда стремится выразить бессмысленность жизни и невозможность рационального подхода к этому открытым отказом от рациональных схем дискурсивных идей. В то время как Сартр или Камю вкладывают новое содержание в старые формы, театр абсурда делает шаг вперёд в стремлении достичь единства основных идей и формы выражения. В некотором смысле в театреСартра и Камю художественное выражение не адекватно их философии,отличаясь от способа, к которому прибегает театр абсурда.
Камю убеждает, что в лишённом иллюзий веке мир покончил с разумом; в хорошо сконструированных и отшлифованных пьесах он проводит эту мысль в элегантном рациональном дискурсивном стиле моралистов XVIII века. Сартр убеждает, что жизнь идёт впереди субстанции, и человеческая личность может быть сокращена до своих потенциальных возможностей, чтобы снова в какой-то момент выбрать свободу. Он воплощает свои идеи в блестящих, всегда неизменных, одномерных характерах, прибегая к старым условностям, иными словами, каждая человеческая жизнь обладает неизмененной сущностью, то есть фактически человек обладает бессмертной душой. Блеск мысли и формулировки Сартра и Камю в их неустанных расследованиях, подобных судебным разбирательствам, заставляет согласиться с тем, что дискурсивная логика не способна предложить точные ответы, а анализ языка не приводит к раскрытию основных понятий – идей Платона.
Это внутреннее противоречие драматурги абсурда пытаются преодолеть скорее инстинктивно и интуитивно, чем сознательно. Театр абсурда не доказывает абсурдность человеческого удела; он просто показываетего как непреложность в конкретных условиях и языком конкретных сценических образов. В этом различие подходов философа и поэта, между теорией и опытом, примером чего служит разное представление об идееБога в трудах Фомы Аквинского или Спинозы и интуитивнымпознанием Бога у Иоанна Крестителя или Майстера Экхарта.
Стремление к интеграции содержания и формы отличает театр абсурда от экзистенциалистской драмы.
Театр абсурда важно отделить и от другого значительного параллельно существующего направления в современном французском театре, в котором также проявляется абсурд и неопределенность человеческого удела, – поэтический театральный авангард Мишеля де Гельдерода, Жака Одиберти, Жоржа Невё и его молодых представителей Жоржа Шехаде, Анри Пише, Жана Вотье. Это наиболее интересные художники театрального поэтического авангарда. Направления эти во многом совпадают, и провести между ними границу довольно сложно. Поэтический авангард, как и театр абсурда, опирается на реальность, в которой есть место фантазиям и сновидениям; он также избегает таких традиционных аксиом, как единство времени, места и действия, логика характера или необходимость сюжета. Но в основе своей поэтический авангард передает различные настроения; он более лиричен и не столь полон отчаяния и гротеска. Ещё больше различий в языке: поэтический авангард обладает более широким диапазоном речи; пьесы написаны эффектными стихами, образы создаются сложным сплетением вербальных ассоциаций.
Театр абсурда стремится к радикальной девальвации языка: поэзия должна рождаться из конкретных вещественных образов самой сцены. В этой концепции элемент языка играет важную, но подчинённую роль, однако происходящеена сцене и за её пределами часто противоречит словам,которые произносят персонажи. В такой высоко поэтичной пьесе, как «Стулья» Ионеско, поэзия рождается не из банальных слов, которые произносят персонажи, но благодаря тому, что они обращены к непрестанно возрастающему количеству стульев.
Театр абсурда – часть «антилитературного» движения нашего времени, выраженного в абстрактной живописи, отказавшейся от «литературных» элементов в картинах; в «новом французском романе», опирающемуся на предметное изображение и отказавшемуся от эмпатии и антропоморфизма. Отнюдь не случайно совпадение, что, как и многие движения, устремлённые к созданию новых форм, театр абсурда должен был сконцентрироваться в Париже.
Это не означает, что театр абсурда по своей сути является французским явлением. Он широко использует старые западные традиции, и драматургия абсурда есть в Англии, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Соединённых Штатах. Более того, ведущие представители театра абсурда, живущие в Париже и пишущие на французском языке, не французы.
Париж – средоточие современных направлений в искусстве, он интернационален; он больше, чем столица Франции, притягивая как магнит художников всех национальностей, всех нонконформистов, в поисках свободы находящих пристанище в Париже, где нет необходимости выглядывать из-за плеча, не шокированы ли соседи. В этом секрет Парижа, столицы мирового индивидуализма; здесь в кафе и маленьких отелях можно жить легко и безопасно. Космополиты сомнительного происхождения: Аполлинер, испанцы Пикассо и Хуан Грис; русские Кандинский и Шагал, американцы Гертруда Стайн, Хемингуэй и Э. Э. Каммингс, румыны Тцара и Бранкузи, ирландец Джойс и многие другие со всего земного шара смогли собраться в Париже и создать современную литературу и искусство. Театр абсурда вырос из этой традиции и питался от тех же корней: ирландец Сэмюэль Беккет, румын Эжен Ионеско, армянин из России Артюр Адамов попали в Париже в атмосферу, позволившую им не только свободно экспериментировать, но и осуществить постановки своих пьес в театре.
Эти спектакли в маленьких театрах Парижа часто критиковали за небрежность и поверхностность; возможно, такие случаи имели место. Однако ни в одном другом городе мира, где много театральных людей первого ряда, не нашлось никого, кто бы рискнул, поняв, что необходимо бороться за постановку экспериментальных пьес новых драматургов, помочь им овладеть искусством сценической техники, как это делали Люнье-По, Копо и Дюллен и далее Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Роже Блен, Николя Батай, Жак Макло, Сильван Домм, Жан-Мари Серро и другие, неразрывно связанные с продвижением лучшего в современном театре.
Не менее важен факт, что в Париже есть интеллектуальная публика, мыслящая и готовая принять новые идеи. Всё это не означает, что премьеры некоторых самых ошеломляющих феноменов театра абсурда не вызывали враждебного приёма или же не было пустых залов на первых спектаклях. Скандалы только подтверждали неравнодушие и интерес; даже в пустых залах встречались энтузиасты, которые могли оценить достоинства оригинальных экспериментов.
Однако, несмотря на благоприятный культурный климат Парижа и успех театра абсурда, пришедший к нему за короткое время, он продолжает оставаться одним из самых неизученных феноменов нашего века. Пьесы, странные и сбивающие с толку, абсолютно свободные от традиционных соблазнов хорошо сделанных пьес, менее чем за десятилетие достигли всех стран – от Финляндии до Японии, от Норвегии до Аргентины – и стимулировали основное направление в развитии театра, став мощным эмпирическим критерием значения театра абсурда.
Изучение его как явления литературной и театральной мысли нашего века должно продолжиться исследованием этих пьес. Их следует рассматривать в русле старой традиции, в которую необходимо погрузиться, чтобы проследить её с древних времен; анализ этого направления позволит традиции вписаться в исторический контекст. И тогда будет возможно оценить её значение и роль в структуре современной мысли.
Публика привыкла к общепринятым нормам, пропуская своё мнение о художественных экспериментах через фильтр критических статей, предвзятых ожиданий и референтных оценок. Таков естественный результат школьного образования, сформировавшего её вкус и восприятие. Что и говорить: прелестная схема ценностей! Она заводит в тупик сразу же, когда публика сталкивается с абсолютно новым и революционным явлением. Происходит битва с переменным успехом – между полученным впечатлением и мнением критиков, которое само по себе исключает возможность каких-то новых впечатлений. Новые явления всегда вызывают бурю досады и негодования.
Цель книги – дать точку опоры, которая поможет увидеть театр абсурда, его поэтику в таком ракурсе, чтобы он стал для читателя столь же актуален, как «В ожидании Годо» – для заключённых тюрьмы Сан-Квентин.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ. В ПОИСКАХ СЕБЯ
Мерфи, герой раннего одноименного романа Сэмюэля Беккета, в завещании высказывает пожелание, чтобы наследники и душеприказчики «положили его прах в бумажный мешок и отправили в Abbey Theatre, Нижняя Эбби стрит, Дублин… место, называемое благороднейшим лордом Честерфилдом пристанищем для отравления нужды, где протекли счастливейшие часы их жизни, и поставить мешок с его прахом справа от оркестровой ямы… и дёрнуть цепочку и спустить воду, по возможности, во время спектакля»1. Этот символический акт поистине в непочтительном духе антитеатра, но это и упоминание о месте, где автор «В ожидании Годо» получил первые впечатления о драматургии, которую он отверг, назвав «гротескным заблуждением реализма – скверным изложением, однолинейным и примитивным, низкопробной пошлостью, свойственной нравоучительной литературе»2.
Сэмюэль Беккет родился в Дублине в семье землемера в 1906 году. Как и Шоу, Уайльд и Йейтс, он учился в протестантской ирландской средней школе и, хотя позже он стал атеистом, тем не менее, получил почти квакерское воспитание,3 как однажды он сам высказался. Можно предположить, что интерес Беккета к проблемам бытия и самоидентификации начался с неизбежных и вечных, свойственных англо-ирландцу поисков ответа на вопрос: «Кто я?». Возможно, в этом и есть доля истины, но это далеко от абсолютного объяснения глубокого экзистенциального страдания, лейтмотива творчества Беккета, порождённого скорее чертами его личности, чем обусловленного социально.
Четырнадцати лет Беккета отправили в одну из традиционных закрытых англо-ирландских школ, Portora Royal Schoolв Эннискилене в графстве Фермана. Школа была основана королём Яковом Первым, в ней учился и Оскар Уайльд. Творчество Беккета отражает его постоянные терзания и ранимость. О нём рассказывали, что «с самого рождения он хранил кошмарное воспоминание о материнской утробе»4. Тем не менее, он был популярен в школе, блестяще учился и превосходно играл в крикет, был полузащитником в регби.
В 1923 году он оканчивает школу и поступает в Trinity Collegeв Дублине, где изучает французский и итальянский языки. В 1927 году Беккет получает степень бакалавра искусств. Академические успехи Беккета позволили университету выставить его кандидатом для традиционного обмена лекторами со знаменитой парижской Ecole Normale.После недолгой преподавательской деятельности в Белфасте осенью 1928 года он отправился на два года в Париж лектором английского языка в Ecole Normale Superieure.Так началось его срастание с Парижем, длившееся всю жизнь. Здесь состоялась его встреча с Джеймсом Джойсом, и он вскоре вошёл в его круг. В двадцать три года написал блистательное вступительное эссе к странной книге под названием «Our Ехаgmination round his Factification for Incamination of Work in Progress», [10]10
Приблизительный смысл названия таков: «Наши изыскания вокруг его незавершенного творения». Речь идёт о работе Джойса над «Улиссом».
[Закрыть]представляющей сборник статей, написанных двенадцатью апостолами, – апология и комментарий к magnum opusмастера, ещё не имеющего названия.
Статья Беккета «Данте… Бруно… Вико… Джойс» завершалась пылким утверждением: художник обязан выражать всю совокупность и сложность своего опыта. Художнику нет дела до лености публики, не желающей обременять свой разум: «Эта книга так именно и написана – страница за страницей. И если вы не понимаете этого, леди и джентльмены, то потому, что вы деградировали. Вас не устраивает, если форма явно оторвана от того содержания, которое вы в состоянии постигнуть, не давая себе труда читать иное. Это быстрое снимание и поглощение скудных сливок смысла возможно благодаря тому, что я могу назвать беспрерывным процессом интеллектуального рабства. Форма, непостоянный и независимый феномен, может обладать более высокой функцией, нежели стимул для трети или четверти условного рефлекса, распускающего слюни понимания»5.
Это кредо, которого Беккет неукоснительно и бескомпромиссно, почти с пугающей чистотой придерживался в творчестве.
В письме к Харриет Шоу-Уивер от 28 мая 1929 года6 Джойс пишет о намерении опубликовать эссе Беккета в «Итальянском ревю». В этом же письме он упоминает о пикнике, задуманном Адриеной Монье в честь двадцать пятой годовщины Блумова дня. Завтрак «Улисс» состоялся 27 июня 1929 года в отеле «Леопольд», недалеко от Версаля. Из биографии Джойса, написанной Ричардом Эллманном, известно, что Беккет был приглашен на этот завтрак, на котором присутствовали Поль Валери, Жюль Ромен, Леон-Поль Фарг, Филипп Супо и множество известных людей. На обратном пути Беккет привел в ярость Поля Валери и Адриену Монье, то и дело прося Джойса остановить автобус, чтобы выпить ещё в придорожных кафе.
В своё первое пребывание в Париже Беккет обратил на себя внимание как поэт, получив литературную премию, – десять фунтов за лучшее стихотворение на тему времени в конкурсе, организованном Нэнси Кунар под председательством её и Ричарда Олдингтона. В стихотворении Беккета с пикантным названием «Блудоскоп» философ Декарт размышляет о времени, куриных яйцах, эфемерности. Маленькая книжка, опубликованная парижским издательством Hours Press первым тиражом в сто экземпляров с автографом автора, продавалась по пять шиллингов за книгу; двести экземпляров без авторского автографа стоили по шиллингу. В обоих тиражах сообщалось, что книге присуждена премия и это первая опубликованная книга мистера Сэмюэля Беккета. Книги с автографом Беккета стали достоянием коллекционеров.
Для своего нового друга Джеймса Джойса Беккет предпринял авантюрную попытку перевести на французский язык «Анну Ливию Плюрабель», фрагмент из «Work in Progress». Но от этого предприятия, в котором ему помогал Альфред Перо, Беккету пришлось отказаться. Оно было доведено до конца Джойсом, Супо и другими в 1930 году, когда Джойс вернулся в Дублин и занял должность ассистента профессора романских языков в Trinity College.
Беккету исполнилось двадцать четыре года, и, казалось, он начал основательную блестящую академическую и литературную карьеру. Он получил степень магистра искусств. Его исследование о Прусте, заказанное лондонским издательством и написанное ещё в Париже, вышло в 1931 году. Это проникновенная интерпретация эпопеи Пруста, исследование о времени и предвестие многих тем его будущих произведений – невозможности полного обладания в любви, иллюзии дружбы: «…если любовь …порождение печали, то дружба – порождение малодушия; и если недостижимо ни то, ни другое из-за недоступности (изоляции) всего, что не исходит от ума, то банкротство в обладании, по крайней мере, благородно, ибо оно трагично; попытка коммуникации в дружбе невозможна; она вызывает в памяти вульгарность обезьяны и отвратительно комична подобно сумасшедшему, разговаривающему с мебелью»7. Поэтому для художника «возможно только духовное развитие в глубину до известной степени. Художественная цель не экспансия, но ограничение. Искусство – апофеоз одиночества. Коммуникация невозможна, потому что не существует способов для её воплощения»8. Излагая идеи Пруста, Беккет подчеркивает, что эта небольшая книга написана им по заказу и отнюдь не потому, что он чувствует родство с Прустом. Тем не менее, Беккет вложил в книгу многие свои мысли и чувства.
Привычка и рутина подобны раковой опухоли эпохи, социальные связи – чистая иллюзия, поэтому жизнь художника требует одиночества. Ежедневные лекции в университете стали непереносимы. Четырёх семестров в Trinity Collegeему оказалось достаточно. Он отказался от дальнейшей карьеры и освободился от рутины и общественных обязанностей. Подобно Белакве, герою его рассказа из сборника «Больше замахов, чем ударов», он, несмотря на лень, свойственную его натуре, «воплощал последнюю фазу солипсизма… постоянно отодвигая лучшее, что он должен сделать»9. У Беккета начались годы странствий. Он писал стихи и рассказы, перебивался случайными заработками, перебрался из Дублина через Лондон в Париж, путешествовал по Франции и Германии. Отнюдь не случайное совпадение, что многие его персонажи – одинокие бродяги и си. Действие рассказа «Больше замахов, чем ударов» происходит в Дублине. В следующей его небольшой книге «Эхо скелетов и другие стихотворения» упоминаются места от Дублина (баржи Гиннесса у моста О’Коннелл) до Парижа (Американский бар на улице Моффетар) и Лондона (громадный старый Британский музей, Кен Вуд и Тауэр Бридж). Дальнейшее его пребывание в Лондоне отразится в первом романе «Мерфи» (1938) – Уорлд Энд на окраине Челси, район рынка в Каледонии и Пентонвилль, Гауэр стрит.
Всякий раз, бывая в Париже, Беккет навещал Джойса. По словам Ричарда Эллманна, «Беккет, как и Джойс, любил тишину: часто во время бесед они замолкали, объясняясь знаками, погрузившись в печаль, – Беккет, главным образом, о судьбах мира, Джойс – о самом себе. Джойс сидел в своей обычной позе, скрестив ноги, положив носок ноги на подъём другой; Беккет, столь же высокий и худощавый, сидел в такой же позе. Внезапно Джойс спросил: «Как мог такой идеалист, как Юм, писать историю?» – Беккет ответил: «Он писал репрезентативную историю»10. Беккет читал Джойсу фрагменты книги Фрица Мотнера «Критика языка», одну из первых работ, показавшую неточность языка, как способа раскрытия и сообщения метафизических истин. Однажды он откровенно признался: «Я никого не люблю, кроме своей семьи», – произнеся это таким тоном, как будто говорил: «Я никого не люблю, в том числе и свою семью»11. Раз или два Джойс, у которого было плохо со зрением, диктовал Беккету куски из «Финнеганы воскресают». Это породило легенду, будто бы Беккет был какое-то время секретарем Джойса. Но это не так. Если Джойс и держал секретаря, то это был Поль Леон.
Ричард Эллманн рассказывает о любви несчастной дочери Джойса Лючии к Беккету. Беккет иногда приглашал легко возбудимую и невротичную Лючию в рестораны и театры. «Она потеряла самоконтроль, у неё недоставало сил скрывать свою любовь к Беккету, и, наконец, её чувство достигло такого накала, что Беккет сказал, что он приходит в их дом к её отцу. Он понимал, что жесток, и позже рассказывал Пегги Гуггенхайм, что он был мертвец, у него не было никаких человеческих чувств, и он не мог ответить на любовь Лючии»12.
Пегги Гуггенхайм, покровительница искусств и известный коллекционер современной живописи, пишет в мемуарах, что была «без памяти влюблена» в Беккета несколькими годами позже. Она пишет, что он был очаровательный молодой человек, временами подверженный апатии, заставляющей его до полудня не покидать постель; с ним было трудно общаться, потому что «он никогда не был особенно жизнерадостным, и у него уходило много времени на выпивки, чтобы ожить»13. Как и Белаква иногда хотел «вернуться навсегда в темноту утробы матери»14. И как пишет Пегги Гуггенхайм, «он – сохранил ужасное воспоминание о пребывании в материнской утробе. Он постоянно мучился этим, переживал тяжёлые кризисы, чувствуя, что задыхается от этих воспоминаний. Он часто говорил, что мы могли бы хорошо прожить один день, но если бы даже я настояла на этом фатальном решении, он взял бы свои слова обратно»15.
В «Мерфи», опубликованном в 1938 году при помощи и поддержке Херберта Рида, аналогичная ситуация складывалась между героем и его девушкой Селией, тщетно пытавшейся устроить его на работу, чтобы они могли пожениться, но он ускользал снова и снова.
Первая пьеса Беккета «Елевтерия» (свобода – греч.), написанная во Франции вскоре после окончания войны, долго не публиковалась и не ставилась. Пьеса в трёх актах повествовала о стремлении молодого человека не иметь семейных и общественных обязательств. Сцена разделена на две половины. Справа пассивный герой лежит в постели. Слева семья и друзья обсуждают его ситуацию, не обращаясь к нему. Постепенно действие перемещается слева направо, и в итоге герой находит в себе силы сбросить все оковы и освободиться от общества.
«Моллой» и «Элевтерия» – зеркало поисков Беккета свободы и права жить своей жизнью. Он обрёл себя в Париже. В 1937 году купил квартиру на последнем этаже доходного дома в районе Монпарнас, ставшую его пристанищем во время войны и в послевоенные годы.
Примерно тогда с ним произошёл случай, который мог бы встретиться в его романах или пьесах: на улице его пырнул ножом апаш,вымогавший у него деньги. Удар задел лёгкое, и Беккета отправили в больницу. Выйдя из клиники, он отправился в тюрьму к обидчику. Спросив апаша,зачем он это сделал, услышал в ответ: «Je ne sais pas, Monsieur». [11]11
Я не знаю, мсье (фр.).
[Закрыть]Возможно, этот голос мы слышим «В ожидании Годо» и в «Моллое».
В сентябре 1939 года разразилась война. Беккет находился в Ирландии, навещая овдовевшую мать. Он немедленно возвратился в Париж и резко осудил фашистский режим Германии, ужасаясь зверствам и антисемитизму. Как и Джойс, он считал войну бессмысленной и бесполезной. Беккет твёрдо стоял на антифашистской позиции. Он был гражданином нейтральной Ирландии, но остался в оккупированном немцами Париже, принял участие в движении Сопротивления, вёл опасную, полную риска жизнь подпольщика.
Однажды в августе 1942 года, вернувшись домой, он нашёл записку, в которой сообщалось, что несколько членов группы арестовано. Он покинул дом и обосновался в неоккупированной зоне, нанявшись работником в крестьянскую семью в Воклюзе, неподалёку от Авиньона. Воклюз упоминается во французской версии «В ожидании Годо», когда Владимир спорит, уверяя, что Эстрагон знает деревню Воклюз. Они были в ней. Эстрагон же с пылом отрицает: он вообще нигде не был, кроме места, где он находится сейчас, в Мёрдклюзе (Дерьмоклюзе). В английской версии Воклюз переименован в Макон кантри, а Мёрдеклюз – в Кака кантри.








