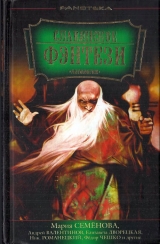
Текст книги "Славянское фэнтези"
Автор книги: Мария Семенова
Соавторы: Елизавета Дворецкая,Екатерина Мурашова,Дмитрий Тедеев,Владимир Аренев,Павел Молитвин,Эльдар Сафин,Николай Романецкий,Наталья Болдырева,Федор Чешко,Ника Ракитина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Стражники немедленно вызвали владельца картины. Князь немедленно прибыл.
И только тут выяснилось, что в последнюю ночь своей жизни умирающий волшебник зачем-то переписал «Невесту», сделав ее плачущей.
Князь нанял было реставратора, дабы вернуть картине прежний вид – благо, копии существовали, – но потом одумался: кто бы ни платил за работу и кем бы ни был в последние сорок лет Ясной Ракита, автором гениального полотна являлся он, и коли в предсмертном переписывании была его последняя воля, оную волю следовало уважать.
Реставратору заплатили изрядный аванс, и обрадованный мастер скоренько убрался восвояси – он понятия не имел, как сообщить князю, что краскам на плачущем лице «Невесты» без малого полвека, а реставрация ей пока еще не требуется.
Картину вновь заперли. Князь не приходил смотреть на первую жену без малого целое лето. А когда, вновь опившись медовухой, пришел, его чуть удар не хватил.
Через день в художественной лавке выставили на продажу доселе неизвестное полотно Ясноя Ракиты. Полотно называлось на италийский лад – «Мадонна с младенцем».
Минна Граф
КУЗНЕЧИКИ
Далеко-далеко, где-то среди зеленых холмов, под синим-синим небом рассыпались разноцветным горохом домики – у того крыша красной черепицей покрыта, у этого на коньке жар-птица резная сидит, солнце встречает, а у иного в палисаднике такие цветы распускаются – залюбуешься и забудешь, куда шел, до вечера простоишь, не в силах глаз оторвать. Эта деревенька и сейчас там, и жители ее все так же пьют чай из смородинных листьев с вареньем из поленики, и пекарь ее по-прежнему знаменит своими караваями с корочкой золотой, хрустящей, да булочками с корицей, а сапожник по сей день шьет свои чудесные сапоги – мягкие, нарядные, и никакой непогоды не боятся, а уж как пойдешь в них плясать, так и не остановишься… Но не о них речь. О Мартине-кузнеце.
Мартин красивым парнем был – кудри льняные вьются, глаза синие, что тот же лен в цвету, а уж сколько у него силы да удали, а уж как пел – заслушаешься… Разожжет горн, раздует меха – и заведет песню: то нежную, то веселую, то задумчивую, а то – такую разудалую, хоть совсем пропадай. И пропадали девки: мечтать начинали, на ромашках все лето гадали, и в зеркале под Рождество все старались его, Мартина, углядеть. Одна, говорят, даже в соседнюю деревню ходила к ведунье – приворожить кузнеца пыталась. Однако бесполезно это было. Со всеми был Мартин одинаково ласков и приветлив, и ни одной из красавиц не отдавал своего сердца.
А мастер был – со всей округи к нему ехали. Выковать мог все, что ни попросишь. Подкову ли для коня резвого, лемех ли для плуга работящего, нож острый, топор или кресало – все ему под силу было. Да только не это главное… Лучше всего игрушки ему удавались, безделки звонкие – колокольчики, бубенцы, брошки да пряжки, а то и вовсе какая красота бесполезная. Старый кузнец только хмурился, глядя, как Мартин старается, как молоточком постукивает да пробойничком потюкивает – ветки извилистые для деревца выковывает, с листиками резными да бутонами пышными.
– С кузнеца прок должен быть и людям польза, – не раз журил он Мартина. – На нем, считай, вся деревня держится. А ты что творишь?
Мартин не спорил. И замки ковал пудовые, и гвозди крепкие, ни от чего не отказывался. Но и об игрушках не забывал. Красоты-то всем хочется, вот и заходили к нему не за одними подковами: кому фонарь понадобится затейливый, кому петли дверные узорчатые, а кому и вовсе рамку для зеркальца или браслет – жене любимой в подарок.
И вот как-то у пекаря дочка захворала. Да так, что уж думали, что помрет совсем. Целую ночь Мартин из кузни не выходил, а наутро вынес сверток тяжелый и к пекарю направился. Тот его и ругал, и уговаривал – мол, не до подарков ей сейчас, и нам не до гостей, уйди, Мартин, по-хорошему, не гневи бога, – ни в какую. Вошел в дом и оставил безделицу: скамеечка кованая, с ножками гнутыми, со спинкой узорчатой, какие только в большом городе и бывают, а на скамеечке котенок в клубок свернулся. Посмотрела пекарева дочка на котеночка. Улыбнулась и глаза закрыла. Думали, все, отмучилась. Оказалось – уснула, а назавтра и на поправку пошла. Пекарь после этого на радостях неделю гулял, вся деревня старыми сухарями питалась да лепешки пекла, однако ж никто на него не серчал – понимали, что счастье у человека большое.
Тогда-то и пошел слух, что Мартиновы побрякушки – и не побрякушки вовсе, а самое что ни на есть настоящее счастье. И потянулся к кузнице народ – кто каравай кузнецу принесет, кто шапку новую, кто рубаху вышитую, кто ложку расписную… И всем взамен счастья хочется. А Мартину и не жалко, знай меха раздувает да молотом машет.
* * *
А потом старик мельник продал свою мельницу и уехал – решил, что надо ему в город перебираться, к сыну, что отправился учиться, да так в городе и остался. И появился в деревне новый мельник, да не один, а со статною женой и дочкой зеленоглазою – Данутой звали. И была она не то чтоб красавицей – и в кости тонковата, и нос длинноват, а волосы будто огнем полыхают: глянь – и ослепнешь. И конопушками обсыпана, будто ее дождиком солнечным забрызгало. Запечалился Мартин, тих стал и задумчив. Песни теперь из кузни слышались все больше нежные да кручинные, и даже молот звучал как-то по-другому. Потому что приветлива была Данута, и улыбалась ему весело, и шутила с ним – но все так же, как с другими. А кузнец хотел, чтоб улыбалась только ему и песни только для него одного пела. И чтобы ходила с ним за руку вдоль берега и венок ему сплела своими руками – из васильков да мятлика, из мака алого и незабудок синеглазых. А он бы называл ее своим солнышком, и было бы у них детишек четверо – четыре конопатых солнечных зайчика. Они даже во сне ему снились, двое мальчишек и две девочки, кудрявые, как он, и рыженькие, как она.
И вот однажды мелькнуло что-то в дверях кузни. Будто огонек полыхнул. Не поверил Мартин своим глазам: стоит на пороге его любимая. Глаза опустила, косу теребит.
– Заходи, – только и смог сказать.
Но она лишь головой покачала.
Потом осмелилась, глаза подняла и спрашивает:
– А правду у вас говорят, будто ты что пожелается выковать можешь?
– Говорят, – улыбнулся Мартин.
– И… счастье тоже можешь?
– И это говорят, – согласился он.
– А… мне? Выкуешь?
– Тебе? Да я только о том и…
– Тогда сделай мне подарок, Мартин. На свадьбу подарок…
Кинулся он к ней – обнять, к себе прижать и никогда не отпускать больше, никогда не расставаться, а она дальше говорит:
– Ко мне Захар посватался, меховщик. Свадьба скоро, Мартин. Подари нам счастье. А я тебя за то поцелую.
Тут он и остановился – будто на стену наткнулся.
* * *
Каждая минутка до свадьбы Дануты с Захаром была для Мартина словно капля раскаленного железа на сердце. Так ему все сердце, видно, и выжгло. Ходил он мрачнее тучи, хмурый да молчаливый, и песен его из кузни больше не слышно было. А Данута и не замечала ничего, к свадьбе готовилась, порхала да глазами стреляла по-прежнему.
А он ковал. Раз попросила любимая – не мог отказать. Только подходил временами к той бочке, что в кузне в землю была вкопана, железо остужать, зачерпывал воды и весь ковш на себя выливал. Тяжело у него та работа шла. Будто и вовсе разучился, все ремесло свое забыл, хуже ученика несмышленого: одну поковку начнет – пережжет ее, по другой трещины пойдут… Но не сдавался Мартин: плюнет, бросит испорченное в лом, ковш на себя опрокинет и заново начинает.
Свадьбу играли, когда по всей деревне яблони цвели. И невеста сама была словно яблонька, нежная; кажется, дунь – и разлетится белыми да розовыми лепестками. Столы, конечно, так в саду и поставили: если свадьбу гулять под яблонями, то и жизнь у молодых будет что яблочко наливное, ровная да сладкая. Поздравляли молодых, зерном осыпали, песни пели свадебные, все как полагается. Тут и Мартин подоспел со своим подарком.
– Прими от меня, Данута, безделицу… на счастье.
И ахнули гости, жених заулыбался, а у невесты веснушки будто еще ярче засветились. Такой красоты Мартин еще ни разу не сотворял. Деревце с локоть высотой – яблоня с ветками тонкими, легкими, вся цветами усыпанная, а на ветках две пташки сидят, друг к другу тянутся. К нижней ветке качели привязаны, а на качелях девчушка сидит, одуванчиком играет. Тронешь – и качаются качели, а платьице будто от ветра шевелится.
– Спасибо тебе, Мартин, – сказала невеста.
– Поцелуй с тебя, как обещала. – Горло у него перехватило, но сказал что хотел.
Взглянула Данута на жениха, тот кивнул – мол, раз обещала, что ж, с одного поцелуя не убудет. Собиралась она кузнеца в щеку чмокнуть, по-сестрински, в знак благодарности, но он посмотрел темно, обнял ее крепко и своими губами к ее губам приник, будто к роднику лесному – и холодная вода, зубы ломит, а не оторваться…
Захар этого, конечно, не вынес. Драка случилась. Но что Мартину драки? Он с молотами шутя управляется, а ручники и вовсе играючи перекидывает. Отступил Захар. И то слово, с кузнецом драться – себя не беречь. Да и Мартин продолжать не стал, одним поцелуем напился да ушел, не стал праздник рушить.
* * *
С той поры зарекся кузнец игрушками баловаться. По-прежнему молот в кузне бил, но теперь уж только ради пользы да необходимости. Топор справить если, нож или там кольцо дверное – всегда пожалуйста, а о пустяковинах и не проси, того гляди осерчает да прогонит прочь. Ищи тогда себе кузнеца где подальше.
Прошло время, и женился Мартин на пекаревой дочке – той самой, которую когда-то его скамеечка вылечила. Все говорил кузнец жене своей, всем делился, одного только не рассказывал: временами снилась ему девчушка кудрявая на качелях. Такая же самая, что он на свадьбу Дануте подарил. Качается она, качели поскрипывают, а девчонка смеется Мартину в лицо и приговаривает: «Дурак ты, Мартин, как есть дурак! Не дал мне на свет появиться, в безделку заточил, а ведь могла бы живая бегать…» В такие дни по утрам он сам не свой бывал. Но после вроде успокаивался.
Жили они мирно, покойно, в достатке, но чего-то все этой Мире, дочке пекаря, не хватало. И вот однажды, перед праздником, попросила она: «Не вези мне подарков из города, Мартин. Не нужны мне от тебя платья новые, и конфет в цветных бумажках не нужно. Выкуй безделицу мне, игрушку на счастье…»
Отказаться он собирался, мол, все, зарекся – не кую больше чепухи. Но очень уж она просила, очень уговаривала. Послушал ее – и выковал.
Правда, счастья особого не принесла Мире безделка – пустая, глупая получилась. Вроде и красиво, и глаз радует… но глаз на нее любуется, а душа-то молчит. Будто сама пекарева дочка для Мартина: и любит его, и ластится, и он ее в ответ приголубить не прочь, но ласкают руки только, а сердце безучастно. И сам Мартин словно и не здесь вовсе – будто годы прошли, а он там и остался, на Данутиной свадьбе, до сих пор стоит под яблоней, перед гостями и перед женихом, и целует ее, целует и оторваться не может.
Постояла эта безделка в горнице, постояла, и каждый раз, как взгляд на ней остановится, хмурилась жена Мартина, грустнела. Да сама и убрала прочь – все равно никакой с нее радости не вышло. А после и вовсе покидала вещички в сундук, запрягла кобылку молча и уехала неизвестно куда. Кто говорил, с другим сбежала, а кто сказывал – с бережка крутого да в реку сиганула. Врут, конечно: если б в реку, зачем бы ей вещи собирать? Но и к отцу, к пекарю, не возвращалась.
А Мартин будто и не заметил, что жена от него ушла.
* * *
Закружился снежок. Рябины в тот год уродилось тьма. Гроздья крупные алели, полыхали бесстыдно, ветки под их тяжестью чуть не до земли опускались. А уж снегом ее припорошило – и вовсе глаз не отвести. Деревенские начали к новогодью готовиться. Веселятся, радуются, хохочут; на склоне холма гору залили, молодежь с нее катается, чуть не через всю деревню проезжает. И смотрят – Мартин вроде тоже повеселел, отошел, улыбаться начал, во время работы насвистывает, а то и замурлычет что себе под нос.
И вот под самый праздник пришел кузнец в гости к Дануте с Захаром.
И подарок принес.
«Новый год наступает – новое счастье вам нужно», – сказал Я поставил на стол деревце кованое, точь-в-точь как то, что на свадьбу им дарил. Только будто подросло немного, и девочка по-другому сидит, и гроздь у нее в руке рябиновая, и листочки ветерком пошевелило…
Через неделю Данута пришла к Мартину. Пришла – и осталась.
Так и стали они жить вместе. Захар, конечно, опять драться приходил, да не вышло – спустил его кузнец с крутого крыльца да пообещал на рог наковальни посадить, если еще явится. Тот все ж не сразу сдался, ходил, Дануту вернуться уговаривал – мол, прощу все, забуду, словно и не было, только вернись. Но она ни в какую. Смирился Захар. Против кувалды, как говорится, не попрешь, а с кувалдой Мартин управляться лучше всех умел.
Скоро привыкли все – будто с самого начала за Мартина и вышла Данута, а Захар и не сватался к ней даже. И вроде живи теперь да радуйся; да Мартину опять не так что-то. Данута к нему и так, и этак, и песни поет, и аж светится вся. А ему будто и не в радость ее любовь. Не верит он, что любит она его по-настоящему. Деревце-то новое, что он выковал, не только побольше прежнего было. Там и птички подальше друг от друга сидели, а одна так и вовсе отвернулась, а на соседней ветке вроде как тень какая-то… будто третья, но не видно ее, а так, из листьев фигурка складывается, если присмотреться повнимательней…
И девчонка кудрявая снится по-прежнему: сидит, рябину по ягодке в рот отправляет и не морщится – она ест, а вся горечь Мартину достается. А то одуванчик обрывает по одной пушинке и приговаривает: «Любит… не любит… любит… не любит…» А сколько пушинок на одуванчике – не сосчитать, и Мартин слушает это «любит – не любит», и ждет, и дождаться не может, какая пушинка последней окажется. Всю ночь ворочается, стонет. А днем обнимает Дануту, счастливую да веселую, а в глазах тоска – не сама она к нему пришла, деревце привело. Дай ей волю, так с Захаром и оставалась бы… Разрушил он их счастье, что сам же и ковал, получается. А для себя выковать так и не вышло.
Весна пришла, луга зазеленели нежно, а там и лето жаркое настало. Снова отступился Мартин от своего слова – птичку выковал с крылышками раскрытыми, легкими, ажурными. Утром поцеловал Дануту, подарок на подушку положил и шепнул ей на ухо: «Свободна будь… лети куда хочешь». И ушел.
Ушел в луга шелковые, упал в траву навзничь, среди маков да васильков, среди огоньков да ромашек – и остался лежать там, на солнце глядя. И чудилась ему у солнца длинная коса и веснушек россыпи…
Так и высушило солнце кузнеца Мартина. Был – и не стало, высох, стаял, в пыль распался. Только застрекотали в высокой траве кузнечики – не серые, не зеленые, а светлые, будто пряжа льняная.
Рассыпались те кузнечики по всему свету. Говорят, если услышишь среди травы: «Мартин… Мартин… Мартин…» – да поймаешь того самого, кто так стрекочет, прошепчи ему свое желание – и оно непременно исполнится. Потому что судьба у Мартина такая: свое счастье не вышло, зато для других по-прежнему кует…
Елизавета Дворецкая
КАК ОГОНЬ ОТ ОГНЯ
«Ну, зимой одно было, а теперь другое».
Метелица стояла на опушке, прижавшись спиной к толстой березе, и провожала глазами уходящего Искрена. Зачем она вообще заговорила с ним: сидела бы с матерью и сестрами на дедовой могиле, блинами заедая недавние слезы и причитания, – нет, увидела его на краю поля, зачем-то пошла к нему, даже окликнула – а ведь уже видела, что он идет мимо, нарочно ее не замечая… И вот – весенний день для нее кончился. Над головой шумел свежий ветер в густой почти по-летнему березовой листве, казалось, весь этот шум сейчас обрушится на голову легким, щекочущим ворохом – но Метелица почти не слышала его за шумом крови в ушах и стуком готового разорваться сердца.
На Дедовом поле везде мелькали белые рубахи: на низких-то курганах женщины еще причитали и бились о землю, взывая к умершим родичам, на других уже отплакали и крошили вареные яйца, угощая дедов, а где-то уже сами принялись за блины, пироги и кашу, попивая брагу и проливая из каждой чарочки немного на траву. В Родоницу, последний весенний праздник поминания предков, все люди из окрестных родов собирались сюда, где в длинных курганах уже не первый век находили себе посмертное жилье все умиравшие в округе Капельской Лады. Народу было много, и Метелица скоро потеряла Искрена из виду, но все смотрела туда, где он пропал среди могил рода Неревичей, смотрела, смотрела, не веря, что все уже кончилось.
«Ну, зимой было одно…» Его слова звучали в памяти, как последние звуки погибающего мира. И от неотвратимой жестокости этих слов весь белый свет – зеленая луговина, светлые стволы берез, темно-голубое небо – словно бы рвался на части и в широкие прорехи лезла черная бездна… Разом рухнула ее судьба, уже, казалось бы, сложившаяся, и даже было странно, что земля не тает под ногами, что все так же крепок ствол березы за спиной, что шумит листва и дед Гудила уже запевает хриплым полупьяным голосом «Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет», а старуха Гудилиха привычно колотит охальника крепким коричневым кулачком по шее… Все как всегда.
«Зимой было одно…» Зимой… Ведь не на веревке же она его таскала всю зиму на посиделки в беседу Куделичей, сам приходил! Сам садился рядом с ней, смеялся, рассказывал то одно, то другое и посматривал на нее так по-особенному: с намеком и словно бы выжидающе. И от этих намеков она потом каждую ночь едва могла заснуть, ворочалась на полатях между младшими сестрами, так что Турица просыпалась и в досаде пихала ее кулачком в бок: дескать, сама не спишь, так хоть другим дай! А она не могла спать, с восторгом и замиранием сердца перебирала в памяти каждый его взгляд, каждое слово, и сам звук его голоса казался значительным и важным. С каким нетерпением она ждала весны, игрищ Ярилина дня, потом Купалы, когда надеялась навек расстаться с девичьим венком. Она твердо верила, что будет женой Искрена. Но вот… «А теперь другое…» И нет смысла напоминать ему о прошлом. Насильно мил не будешь.
– Ой, доченька моя любезная, белая ты моя лебедушка, березка моя стройная! – причитал где-то рядом женский голос. Метелице казалось, что это плачут по ней, что сами подруги-березки оплакивают ее погибшую любовь. – Осталась я без тебя, горемычная, нет мне радости, нет утешения. Некому мне косы девичьи заплести, некого мне домой с игрища поджидать. Все девчоночки, подружки твои, уж который год невестами называются, в девичьих лентах красуются, приданое готовят, женихов поджидают. Ты одна, моя кровиночка, под сырой землей, под зеленой травой. По весне идут все твои подруженьки в зеленую рощу, срывают цветочки лазоревы, свивают веночки девичьи, пускают по водам быстрым, а ты одна, моя голубка сизокрылая, сама как цветочек, рано увядший! Осталась одна я, как горлица на сухом дереве, на вечерней заре ждать мне некого!
Ах да! Метелица медленно обернулась, поглядела. Ее тетка, Былятиха с огнища Лютичей, все еще сидела на куртане, причитая над крохотным, никому, кроме нее, уже не видным бугорком. Там лежала ее единственная дочка, умершая в тот же день, как родилась, не успевшая даже получить первое детское имя. С тех пор прошло семнадцать лет, и Метелица была одной из тех «подружек»-ровесниц умершей, матерям которых так завидовала Былятиха. И сейчас Метелица охотно поменялась бы с той крошкой, которая умерла, не успев ничего увидеть в жизни, не испытав этой ужасной сердечной боли, от которой сам воздух колом застывает в груди.
Отвернувшись, она прижалась лбом к шероховатой, в крупных черных язвах березовой коре, и слезы горячо потекли из-под опущенных век. Весны для нее не было.
Пять дней от Родоницы до Берегининого дня Метелица жила как во сне, стараясь никому не подать виду, как ей плохо. Может, никто и не заметил, что зимой он все льнул к ней… На это надежды было немного, но Метелица скрывала боль и старалась держаться, как будто ничего не случилось.
Правда, и дел ей хватало: уже совсем близок был Берегинин день, когда берегини-росеницы выходят из воды, чтобы почти два месяца жить рядом с людьми и помогать плодородию нив. Их полагалось встречать подарками, чтобы они знали, как рады им люди и как благодарны за помощь. Метелица была хорошей рукодельницей, и каждому гостю на ее свадьбе пришлось бы это признать – для каждого в подарок был заготовлен или вышитый пояс, или рукавицы, или рушник. Она старалась не смотреть на сундук со своим приданым и подарками, которые готовила всю осень и зиму, но слезы то и дело падали ей на колени, орошая рубашку для берегини, как сама берегиня в будущем должна орошать посевы на полях.
– Кончай реветь, иголки заржавеют! – бормотала Турица.
Ей этой весной исполнялось пятнадцать лет, и она тоже готовилась войти в круг невест. И Турице было весьма досадно, что старшая сестра упустила жениха, а значит, и ей, младшей, дожидаться своей судьбы еще невесть как долго!
Вечером накануне Берегининого дня девушки с огнища Куделичей собрались незадолго до сумерек и отправились в Ладину рощу. Ходить сюда можно было только в дни праздников, и то с осторожностью, чтобы не сорвать ни листочка и не помять на ходу лишней травинки. В глубине рощи таилось озеро, называемое Вилино Око. Не слишком большое, озеро было окружено старыми ивами, свесившими ветви в воду, а со дна его било множество холодных ключей, из-за чего его вода была холодна даже в жару. Из этого озера выходили весной берегини-росеницы, иначе называемые вилами, несущие росу на поля, и потому Вилино Око по праву почиталось всей округой как источник жизни.
В роще уже видны были следы недавних гостей: кое-где на ветках берез и на кустах орешника висели беленые рубахи, украшенные пестрой вышивкой, разноцветные бусы или платки.
– Лютические уже ходили! – определила Первуша, самая старшая из куделинских девушек.
Ей уже исполнилось восемнадцать лет, и все ее ровесницы были замужем, но женихов смущал ее высокий рост, широкие плечи, громкий голос, привычка распоряжаться в доме, где было семь младших сестер. Говорят, в иных землях такие, как она, старшие сестры без братьев, и вовсе замуж не выходят, носят мужское платье и во всем стараются заменить родителям сына. Первуше это подошло бы как нельзя лучше.
– Лютические завсегда раньше раннего приходят! – подхватила Рябинка, невысокая, загорелая, проворная девица. Как ни старалась она ради праздника расчесать и пригладить волосы, нарядная рубаха и красная лента с начищенными медными заушницами не шли ей, казались чужими. В повседневной серой рубашке она смотрелась гораздо ловчее и приятнее.
– Так им ближе к вечеру боязно! – хихикнула Веретейка, совсем хорошая девица, кабы не слишком длинный нос. – Они ж такие все красавицы, что берегиням лучше не попадаться. С собой уведут!
Все прыснули со смеху, но тут же зажали себе рты. В священной роще стояла тишина, даже ветер улегся. В легком колыхании ветвей и высокой травы чудилось первое робкое движение тех сил, что войдут в земной мир этой ночью. Роща ждала, земля ждала, и даже глуповатая Веретейка понимала: случись им не угодить дочерям Даждьбога, поля останутся без росы, а люди – без хлеба.
– Ой, матушка, красиво-то как! – Ирица протянула было руку к висящей на березе рубашке, пытаясь получше рассмотреть вышивку на подоле, но Метелица проворно хлопнула ее по руке:
– Не трогай! Не для тебя повешено!
– Ну, я хоть посмотрю, я не трогаю! – заныла Ирица. – Так ловко сделано. Мне никогда так не суметь! Эдакие цветочки…
– Еще бы! – хмыкнула Первуша. – Для этого руки-то из плеч должны расти, а у тебя из…
– Не серди Ладу! – перебила ее благоразумная Рябинка. – Помолчи, ради чуров, а не можешь, так хоть говори повежливее. А то еще услышат…
Услышать их еще не могли, росеницы придут только ночью, с первым лунным лучом, но боевитая Первуша молча проглотила выговор. Настороженный слух ловил каждое колыхание веточки, и каждая гостья священной рощи помнила: они уже совсем близко…
– Да я научу тебя такие цветочки шить! – утешила Метелица расстроенную Ирицу. – Это Резвушкина работа, я вижу. Ее тетка Былятиха научила, и я тоже так умею.
– Я видела вчера Былятиху, – сказала Рябинка. – Встретила ее у нашей крайней ржи, где ручей и там дальше их льны. Дай, говорит, я тебе ленточку поправлю. Такая ты, говорит, ладная да пригожая, был бы мой Шумилка хоть годком постарше, посватали бы тебя ему! – Рябинка хихикнула, но было видно, что ей приятно. – Вот и моя, говорит, деточка, кабы Морана не взяла ее младенчиком, сейчас такая же была бы.
– Жалко ее все-таки! – Метелица вздохнула. Сейчас ей было по-особенному жалко всех, кто пережил ту или иную потерю. – Хорошая баба, а дочки ей больше Макошь не дала, только эти четыре огольца, братики мои любезные, на хворостине верхом вдоль по полю скачут!
– И те еще в женихи не годятся! – поддразнила Рябинку Веретейка и опять хихикнула.
– Ну, не мне, так Перепелке пригодятся! – Рябинка махнула рукой, вспомнив двенадцатилетнюю младшую сестру. – Как раз подрастут еще немного.
– Перепелка ваша пус ть сперва веснушки выведет, а то на нее ни недоросточек, ни перестарочек не глянет! – отозвалась вредная Веретейка.
Рябинка протянула было крепкую загорелую ручку к длинной, но жидковатой, цвета мокрой соломы, косе вредины, но вдруг замерла и вскрикнула:
– Тихо!
Все застыли как вкопанные, всех пробрала дрожь. Неужели они, заболтавшись, наткнулись-таки на вил…
Откуда-то издалека долетали поющие голоса. Прислушавшись, разобрали знакомую песню:
На кривой березе
Вила сидела,
Вила сидела,
Рубашку просила.
Девки, молодухи,
Дайте мне рубашку,
Хоть худым-худеньку,
Да белым-беленьку!
– Неревинские! – определила Первуша. – Они всегда в том краю развешивают. Что-то мы припоздали сегодня, все вперед нас!
– Да вон наша береза! – Метелица показала на прогалину, где стояло на поляне большое раскидистое дерево. – Она, Рябушка?
– Она! Вон мой платочек привязан! – подтвердила Рябинка.
Под этой березой девушки Куделичей справляли недавний Лельник, и в траве еще можно было разглядеть крашеную яичную скорлупу и остатки увядших венков из подснежников и пролесок. Возможно, что еще их матери когда-то облюбовали для весенних обрядов это красивое дерево, стоявшее на удобной поляне, но обычай требовал «выбрать» и отметить березу, что Метелица с Рябинкой честно проделали еще неделю назад.
Девушки сложили все принесенное у корней дерева и встали в круг – так, чтобы береза оказалась в середине. Сейчас их было всего пять: иные за зиму вышли замуж, а пополнение девичьего войска ожидалось только через месяц, в Ярилин день. Во всю мочь вытянув руки, чтобы дотянуться хотя бы до пальцев друг друга, путаясь ногами в высокой траве, они двинулись вокруг березы, а Первуша запела знаменитым на всю округу голосом:
– Как в лесу береза
Зелена стояла,
А на той березе
Вила сидела…
* * *
– Смотри, вон рубашки висят! – Будила схватил Искрена за локоть, и тот вздрогнул от неожиданности.
– Чего хватаешь? – Искрен освободился. – Ну, рубашки. А ты чего ждал: зверя коркодела?
– Чего? – Будила нахмурился.
– В северных реках такой живет: залегает на водном пути и мимо себя никого без жертвы не пускает! – просветил его Искрен. Прошлой осенью дед брал его на торг в княжеский город Гневославль, и там он наслушался от бывалых людей много диковинного. – Да это от нас далеко, ты не бойся.
– А кто боится? – с вызовом спросил Будила.
– Да ты и боишься! Рубашки простой вон как испугался, аж перекосило.
– Меня перекосило? Сейчас как дам, самого перекосит!
– Не ори! – уверенно осадил его Искрен. – Сам меня звал берегинь смотреть, а теперь трясешься, как на морозе. Сам хотел, так иди тихо и не дергайся.
– Что я, дурной, – берегинь смотреть! – уже потише отозвался Будила. На самом деле он был благодарен Искрену за то, что тот пошел с ним в рощу, и ссориться не хотел: а ну как брат раздумает и повернет обратно? Дело было небезопасное и недозволенное, но где голова бывает весной? – Девок…
– Да ты рубашку увидел, а уже на помощь зовешь! – опять поддел его Искрен. – А если девку живую увидишь, тогда вообще…
– Да я…
– А, ну тебя! – с досадой отмахнулся Искрен. – Молчи лучше, а то всех девок распугаешь.
Он немного сердился на себя, что поддался на уговоры двоюродного брата и пошел с ним в Ладину рощу накануне Берегининого дня. С Будил ой все понятно, его родичи женить хотят поскорее, им работница нужна позарез. Вот и ищет, шальной, все глаза таращит на куделинских и лютических девок, пока мать с отцом не выбрали какую-нибудь, здоровую, как лошадь, и страшную, как Морана. Первушку куделинскую, например.
Заодно с Первушкой вспомнилась и Метелица. А ему-то самому, Искрену, чего надо? Он и сам не знал, почему вдруг охладел к ней, но сейчас ее привычное лицо с высоким лбом и гладко зачесанной, длинной светло-русой косой не вызывало в нем никаких чувств. Зимой, на холоде, его тянуло к ней, казалось, именно такая, как она, сделает его будущий дом уютным, теплым, наполнит его запахами вкусной еды, детскими голосами, и никогда у такой, как она, муж и дети не будут сверкать продранными локтями. Все это оставалось верным и сейчас, но мечты о такой жизни больше не привлекали Искрена. Спокойная, серьезная, ровная, всегда одинаковая – Метелица и сейчас оставалась такой же, какой была зимой. А сам он изменился. Весна тревожила, звала искать что-то иное, новое, неожиданное, манила и обещала… Что? Он и сам не знал.
– Это наши, что ли, здесь ходили? – Будила наклонился к ветке, рассматривая вышитый рукав рубахи и стараясь в полутьме рощи различить узор.
– Нет, это куделинские. Дреманова молодая жаловалась, что они самую лучшую березу каждый год платочком помечают – после Медвежьего дня, что ли, бегут сразу? Вон та береза и есть.
На ветвях красивой раскидистой березы уже висело пять рубашек, еще несколько украшало ближайшие кусты. Среди зеленых ветвей трепетали платочки, поблескивали красные, синие, желтые бусы. Дарить вилам настоящие ожерелья, стеклянные или каменные, было бы слишком накладно, и бусины для них просто лепили из глины и обжигали, но уж зато какими узорами их раскрашивали! Сестра, Громница, целыми вечерами рисуя на цветных бусинах то ромбики с точками, то волны, то ростки, всегда приговаривала, любуясь делом своих рук: «Сама бы носила, да шея тонка!» И в этом была своя правда: крупные и яркие глиняные бусы выходили очень тяжелыми.
– Опоздали мы, брат! – Искрен хлопнул Будилу по плечу. – Наши еще с утра ходили, куделинские тоже дома давно. Разве что лютических застанем.








