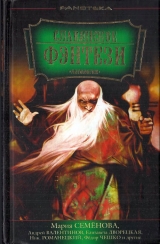
Текст книги "Славянское фэнтези"
Автор книги: Мария Семенова
Соавторы: Елизавета Дворецкая,Екатерина Мурашова,Дмитрий Тедеев,Владимир Аренев,Павел Молитвин,Эльдар Сафин,Николай Романецкий,Наталья Болдырева,Федор Чешко,Ника Ракитина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
ГЛАВА 10
– По-моему, ты с ним либеральничаешь. – Алла грациозно потянулась, прекрасно сознавая производимый эффект. – Эти рисунки, всадники…
– Самое странное, что они есть. Алла взмахнула ресницами:
– Мало тебя на кафедре ругали? Дмитрий, ты же взрослый человек!
– Да, – сказал Дмитрий.
Яркий ноготь Аллочки брезгливо ткнулся в рисунки.
– Не знаю, как ты, но я в своем доме такое держать бы не стала.
Дмитрия слегка покоробило, но он смолчал. Любимым девушкам иногда стоит прощать ригоризм.
– Ну что, что ты в этом находишь? – завелась она. – Веришь в ерунду! Иногда мне кажется, что ты меня не любишь.
Она произнесла это патетическим шепотом – как в сериале, и осторожно, чтобы не размазать тушь, промакнула платочком глаза.
– Да, – сказал Дмитрий. И вдруг опомнился: – То есть как это?!
Лицо у него в этот момент, по мнению Аллочки, было преглупое.
– Ну-у… – Она капризно выпятила губы. – Вот когда-то любили. Эти самые… рыцари. Для дам были готовы на все. Ну там, со скалы прыгнуть…
– Ага! – по-военному рявкнул Дмитрий, лихорадочно соображая, есть ли в окрестностях Гомеля скала и не сойдет ли за нее труба в парке Луначарского.
Алла поморщилась:
– Дурак. Ты для меня даже эти рисунки сжечь не решишься.
– Зачем – сжечь? – удивился Дмитрий. – Славка…
– Ну да, конечно. – Девушка всхлипнула. – Он тебе брат, а я никто. Тебе для меня даже этих бумажек жаль!
– Да не жаль! – с досадой выкрикнул Дмитрий, пробуя ее обнять.
Алла отшатнулась.
– Да, конечно, брат и все такое. И Карна.
– Что?
– Что слышал! Думаешь, у меня глаз нет?!
Она рванула со стены портрет в тонкой деревянной рамочке.
– Я не стану жечь.
– Тогда я сама сожгу!
Она сгребла рисунки в охапку и понесла к ласково подмигивающей в углу зала печке. Листы разлетались по дороге, Алла подбирала их, роняла следующие. Ломая ногти, обжигаясь, дергала дверцу. Швыряла листы в огонь. Их было много, они не вмещались, свернутые, не хотели гореть.
– Кочергу дай! – со злыми слезами в голосе крикнула она. Перемазанная сажей, с растрепанными волосами и размазанной косметикой, она походила на ведьму.
Дмитрий машинально исполнил приказание.
Она разворошила рисунки кочергой, огонь разгорелся. И она бросила портрет Карны вслед за остальным. Славка вошел неслышно. Он увидел разбросанные по полу альбомные листы, злорадные глаза Аллы, жадно гудящий в печке огонь. Оттолкнув Аллу, метнулся к устью. Не чувствуя боли, выгребал рисунки из пламени. Скрученные, почерневшие, они лежали на полу. Словно в насмешку, проступали на уцелевших лоскутах цветок, морда лошади, осколок синего неба. Глянули из обожженной черноты глаза Карны. Славка хотел закричать – и не смог. Сердце вдруг замерло, потом упало куда-то вниз и забилось часто-часто. Он глянул на мертвое лицо Дмитрия, на ухмылку Аллочки: «Посмотри, как сходит с ума твой братец», – и сказал тихо:
– Ты их убила.
Там догорали сейчас деревянные стены Полоцка, и копье вонзалось Добричу в грудь, и несжатые колосья падали под копыта, потому что здесь, сейчас совершалась подлость. А он не успел помешать. И он увидел свой последний ненарисованный рисунок: поле, железнодорожная насыпь, комья земли на ней с торчащей желтой травой. А на ржавых рельсах, повернутых к горизонту, вороной длинногривый конь без седока.
Эльдар Сафин и Юлия Гавриленко
ВАСИЛИСА
Умная женщина – это дьявол в состоянии интриги.
Ж.-Б. Мольер
Алексий вышел из дома, легко вскочил на оседланного Вьюжка, быстро пробежался руками по притороченным вещам – кольчужка, шелом, длинная плотная рубаха. Попробовал, как выходит из ножен Кладенец, – легко идет, хорошо. Отъехал шагов на двадцать, обернулся – в окошко выглядывала Василиса.
О такой жене мечтают. Ладная, красивая, хозяйственная. Не каждому князю так со спутницей угадается – а уж простому воеводе на дальней заставе и мечтать нельзя! А вот же – повезло.
Алексий мягко хлопнул коня по шее – с таким другом и уздечка-то не нужна, сам все поймет. Вьюжок легко перешел с шага на рысь, потом в галоп.
Чем раньше начнем – тем раньше закончим. Эх, что ж так зачастили в Нежинку Змеи Горынычи?
Василиса отпустила занавеску на место, сладко потянулась и решила было еще поспать – но одумалась. Время дорого, это в старости она позволит себе поваляться, пока дети да внуки хозяйничать будут – да и то невесток поди заставь что-нибудь путное сделать!
Жена воеводы пока еще не рожала – но уже загадала если не на этот год, так на следующий точно подарить мужу наследника. Она прошла в свою горницу, сняла хитро заколотую булавками тряпицу с громадной рамы и продолжила работу над давно начатым покрывалом.
На холсте уже виден был Алешка, во весь рост, точно как в жизни, с теми же родинками, морщинками в уголках глаз, с длинным шрамом на левом предплечье. Василиса вышивала его обнаженным, в полный рост. Точно таким, каким помнила, – ну разве что с мужским достоинством чуть польстила любимому мужу.
Иногда, даже не замечая за собой, она начинала чуть слышно напевать что-то из детства – про серых гусей, белых лебедушек, ясных соколов.
– Василиса, хозяюшка, надо ж грустненько петь, – запричитала одна из приживалок – бабка Нюша. – Муж-то твой на бой ускакал, а вдруг как не воротится? Вот ты весело поешь, а потом плакать будешь!
Остальные зашептали, соглашаясь. Василиса улыбнулась приживалкам, хотя сердце ёкнуло – после этих слов ей и впрямь стало не так весело. Эх, беда с этими суевериями! И ведь не объяснить им никак, что Лешке ничто не угрожает! Ну куда Змею против былинного богатыря в расцвете силы?
– Каждое утречко муж-то твой выезжает в поле чистое биться с врагами земли Русской! – гнула свое баба Нюша. – Вот только четыре дня об этом месяце нормально отдохнул. Так ты ж не ломайся, спой про березоньку, про куропаточку спой, которую коршуны заломали. А там, глядишь, и вернется наш воевода с победой! И тебе радость двойная, что предчувствие дурное не сбылося!
Василиса мрачно молчала. Тугая русая коса, спускавшаяся почти до коленей, легонько подрагивала, подсказывая, что молодая женщина уже почти в бешенстве. Однако старухи этого не замечали.
– Жена мужа бояться должна! – заявила бабка Фрося. – И за мужа бояться должна! Потому как если муж ударил, все одно будто погладил. А без мужа тебе жизни точно не будет!
– Ты за ним как за стеночкою каменной, – подтвердила бабка Анфиса. – А ну как разобьют ее, что ж ты делать-то одна будешь, горемычная?
И вот так – каждый день. Только Алексий за порог, как бабки тут же его чуть ли не хоронят! Василиса знала, что надо просто подождать немножко, помолчать спокойно, и приживалки почти сразу начнут ссориться между собой.
Но невозможно было слушать их кудахтанье, и Василиса перенеслась мыслью в чистое поле. Что там есть, что будет? Навели все-таки бабки печаль-тревогу, вот и думать уже, как они, начала. И тревожно так стало, даже зажмурилась, а руки-то сами продолжают работу над вышивкой, Василиса тело любимое как помнит, так и ведет узор, ни одного стежка ошибочного не сделает, ничем милый образ не исказит.
Звонкий голосок прервал внезапно работу:
– Купцы приехали!
Василиса встрепенулась. Мигом спрятала рукоделие, топнула на приживалок, перекинула косу на плечо, провела легонько ладонью по лицу.
Вроде и нет колдовства-ведовства какого, а девка Аленка и бабки в который раз удивляются: только что хозяйка в горнице была – и нет уж ее. Сидит прекрасная девица, руки белы, щеки красны, коса гладка, а завиток шаловливый выбивается. И не думы о хозяйстве-пропитании думает, а о чем-то своем девичьем мечтает. Ни одной морщинки – только улыбка легкая и витает на челе.
Бабки же – затаились на лавке привычно, будто и нет их вовсе. Знают: ворчать и причитать можно сколько угодно, Василиса их ни одним словом не попрекнет, только бы при Алешеньке да при купцах молчали.
Гости вошли почти неслышно. Сразу стало ясно: этим ковер с оленями и цветами не глянется. Людей с южных земель красивым узором не заманишь.
Пока гости устраивались, Василиса три раза хлопнула в ладоши. Аленка – маленькая, но шустрая. Никогда не путает. Вынесла дивный ковер – тонкий, легкий, нежный. Посреди голубого озера – лебедь плывет белая. Хороша лебедь, но глаза печальные. Смотрит она ввысь, и будто стон ее слышен.
Приживалки расплакались, Аленка, пока ковер расстилала, влагу с ресниц украдкой смахивала, даже купцы – уж на что суровые люди, да и то прослезились. Спрашивают:
– Почему же она такая грустная?
– А чего же ей не грустить? Всякая птица в небо рвется, негоже ей в чулане пылиться.
– Берем. Как и договаривались.
Пока купцы отсчитывали монеты, Василиса тихонько прищелкнула пальцами. Раз пошло дело – можно и другой ковер предложить.
Расстелила Аленка новое чудо – на отвесных скалах терем прилепился. Вроде и на пряник похож, но со стороны не подобраться никак.
Покачали головами купцы.
– Э, нет, хоть ты и умница, – старший запустил пятерню в бороду и покачал головой, – но сразу видно: не знаешь мира, не понимаешь, что и кому предлагать. Не годится нам твой замок – земли у нас сухие, песок один. Да и не строят у нас так.
Василиса с сожалением вздохнула, но ничего в ответ не сказала. Только рукой по ковру с лебедью провела – а купец зорко вглядывался в эти движения.
Скоро он выйдет из терема, выведет своих людей в чистое поле, расстелет ковер, так же проведет по узорам рукой – и выпростаются лебединые крылья, поднимут людей вверх, и полетит вытканный Василисой чудесный ковер туда, куда, мягко ведя по вышитым линиям, направит его купец.
– Ну, спасибо, хозяюшка, – негромко произнес торговый гость. – А как мои заказы на огненный ковер и ковер с булатными мечами?
– Неинтересно мне, – еще тише ответила Василиса. – А когда неинтересно – как душу в ковер вкладывать?
Когда гости ушли, бабки вновь принялись за свое, да еще между собой поругались: одна говорила, что веселые песни ни девушке, ни женщине петь вообще не должно, другие утверждали, что можно – но только если муж позволяет.
Потом хозяйке совсем надоели препирания, она оставила покрывало, хитрым образом прикрыв его. Покинув горницу, взяла на лестнице лампадку, зажгла ее, вошла в подвал и, затворив за собой дверь, погасила чадящий огонек.
По щелчку пальцев перед ней мигнул веселый шарик света. Женщина спустилась вниз, к леднику, мягко пробираясь по старым деревянным ступеням.
– Что, Премудрая, утомили тебя безумные бабы? – Между кадкой с квашеной капустой и бадейкой медовухи сидел худощавый мужик в длинном черном плаще. Чтобы вместиться в пространство между полок, он согнулся вдвое, но чувствовалось, что такое положение дел его не смущает. – Я бы на твоем месте каленым железом вычистил этот очаг мракобесия.
Когда гость улыбался, становилось видно, что верхних передних зубов у него нет, а нижние выгнуты жутковатым образом. В глазах гостя поблескивали желтоватые огоньки, а из-за спины торчала рукоять меча, обтянутая потрескавшимся кожаным ремешком.
– Если ты… – Василиса не шагнула – проплыла шаг к гостю, – еще раз… – и снова шажок, – назовешь меня Премудрой… – третий шажок, и молниеносным движением гость вынимается с полки и выкидывается на пол, – то я тебя, Кощеюшка, несмотря на все твое бессмертие, изничтожу напрочь!
Кощей решил не вставать – только поправил плащ, чуть сдвинул за спиной меч и, отсмеявшись, продолжил разговор лежа:
– Вот я вас, баб, совсем не понимаю! Возьми любого мужика, каким он захочет остаться в летописях – Ванькой Умным или Ванькой Красивым? Хрен ведь кто на красоту позарится! Через полтыщи лет плевать всем будет на красоту. А умных – запомнят. Премудрая ты, и этим все сказано!
Василиса вновь замахнулась, но ничего не сделала – ясно было, что ей сложно ударить лежачего, видимо, на то и был расчет. Кощей расхохотался.
– Ну что, Василиса, поговорим о делах?
Хозяйка мрачно посмотрела на него.
– Сколько?
– Змею пять гривен надо, он и так слабый уже, четвертый раз за год ему все головы снимает твой Лешка. Абылай-хан отказывается вести в Нежинку орду, и никакие деньги тут не помогут – хазары ропщут, не любят они проигрывать. Баба-яга за гривну прилетит – но на следующей неделе. Кикиморы по четверти гривны, но они ненадежные, хорошо, если три из пяти придут, а по лицам их даже я не различаю, чтобы к ответу призвать.
– А тебя за сколько?
– Меня за две гривны. – Кощей поморщился и привстал, опершись спиной о полки. – Но я старый, Лешка мечом быстро машет, какое ему удовольствие – если начнем битву на рассвете, то к полудню уже хоть как зарубит. Ну, парочку лешаков с собой приведу, оборотня еще могу. Вместе со мной – три гривны.
– Завтра сможешь?
– Нет, завтра хоть как свободный день у Лешки твоего. После Змея Горыныча – святое дело.
Василиса раскрыла кошелек и отсчитала десяток тяжелых монет, подумала и добавила еще пяток.
– За каждую отчитаешься!
– Не извольте сомневаться, Ваша Прекрасность! – растянул губы в щербатой улыбке бессмертный злодей. – Все будет в лучшем виде.
Хозяйка еще не вышла из погреба, когда легкий ветерок пронесся по леднику – Кощей переместился в свои владения.
Эпоха былинных богатырей диктовала свои правила: вся нечисть теперь пряталась по углам, не пытаясь подгрести под себя Русь, – иначе было недолго и жизнь потерять. Выживали как могли.
Вечерело. Пот щипал глаза, меч Кладенец становился все тяжелее и тяжелее. Ни рука не поднималась, ни спина не распрямлялась. Хотелось спать. Но вначале бы в баньку… А еще сгрести бы Василису в охапку да завалить…
Но милый дом и красавица-жена – только после расправы над Змеем. А его, гада, все никак добить не удавалось. Две головы с вывалившимися языками уже катались под ногами. Но третья, посередке, все никак не поддавалась.
Уворачивалась, тварь кровожадная, да еще и издевалась:
– За что же ты, Алексий, на меня так взъелся? Я хороший!
Хитрый Змей достаточно на белом свете прожил, знал много уверток. Вставал против солнца, крутился, припадал к земле, взлетал, за спину заходил. Как попасть по вертлявой шее?
Из последних сил нежинский воевода нанес удар – да не попал, только чуть в землю меч не вогнал! Змеиный черед пришел – полыхнул гад жаром. Лишь заговоренные доспехи спасли Алексия. Богатырь устало выругался:
– Бороду подпалил, скотина!
– А ты водичкой живой умойся, – съехидничал Змей. – Новая вырастет. Нет, ну чего ты ко мне привязался? Все утро гонял, потом слова мне гадкие говорил, а теперь режешь, как теленка!
– Ты мне, вражина, зубы не заговаривай! Ползете с чужой земли один за другим. Не место на Руси чудищам обжористым!
Алексий прищурился: в косых лучах тень от Змея смотрелась смешно. Длинные-предлинные ноги и червячок шеи с горошинкой головы. По лапам ему, что ли, вдарить? Или крылья подрубить?
– Эх, Лешка, совсем ты дикий. – Змей, чувствуя, что богатырь его не достанет, принялся философствовать, не забывая держаться с солнечной стороны. – Вот пустил бы меня ближе к заставе, я бы показал… И как пить надо, вы ж пить-то не умеете! И насчет баб я тоже мастак! У вас баб-то много там? Говорят, у тебя жена красивая, пойдем, познакомишь?
Голову-то охальник спрятал, потому и глумился безбоязненно, но Алексий изловчился – вроде и не глядя против солнца, а на тень посматривая, рубанул по Змеевой лапе.
Сразу – как подкосил на одну сторону, завалился Змей направо, заорал от боли:
– Ты чего творишь?
На трех лапах не разбегаешься сильно. Тут уже был вопрос времени – снес ему Алексий последнюю голову. Подумал, да и левую лапу отрубил, для красоты. В ад и калечных пускают, Лешка специально у отца спрашивал, еще когда маленький был.
Распинал лапы и головы по разным сторонам, подозвал Вьюжка, снял туесок с живой водицей, жадно глотнул. Солнце садится – надо домой спешить. На всякий случай еще умылся живой водой – вдруг кровь у гада ядовитая, разъест кожу, а ну как разлюбит Василиса?
«Как приеду – сразу в баньку! А потом чарку! А потом к Василисе».
Каждый раз он возвращался с тревогой. Василиса – баба видная, мало ли кому приглянется. Мужа рядом нет, а от скуки такое может натворить… Сидит она за своей вышивкой с утра до ночи, вдруг дурь какая в голову придет?
Поэтому как ни был он изможден и изранен – от жены к бревенчатой стене храпеть никогда не отворачивался.
Глупые мысли, глупые. Любит его Василиса и ждет верно.
Да и кто может ее соблазнить? Нет другого богатыря, равного Алексию. Разве что Илья из Мурома раньше, еще до свадьбы, за ней приударить мог. Но он-то точно больше не соперник.
Прислал письмо недавно. Нынче воевода Киевский. Либо лежит на мягких перинах, либо сидит за накрытым столом. Ходить ему даже трудно, не то что на коня взгромоздиться. Да и какой конь его выдержит? Верного Вранко добрые советники замучили, в табун к кобылицам пустили, все хотели богатырских жеребят разводить. И что?.. Кобылицы довольны, а Вранко совсем изморился и зачах.
А жеребята под Илюхой ходить не смогут – только хребты с хрустом переламываются. И воевать ему не с кем. Былая слава всех врагов отпугивает.
Вот и валяется он день-деньской дома, строит козни, пьет горькую и жалостливые письма пишет.
То ли дело Алексий: и сила богатырская, и фигура молодецкая, и жене радость.
– Под смеющейся луной раздавался треск степной.
Из среднего обрубка Горынычева тела с мокрым шлепком выскочила голова на длинной шее. Левая и правая уже с нетерпением ее поджидали.
– А стихи у тебя плохие, – задумчиво сказала левая. – И есть очень хочется…
– Завалюся я в кабак, поем свинины на пятак, – поддержала ее правая.
Средняя немного пришла в себя и лязгнула на соседок крепкими голубовато-белыми зубами. Через неделю они вывалятся – молочные как-никак. Потом опять пережидать резь, пока нормальные не вылезут.
– Щас вам кабак, ага. До завтра потерпите. Правко, лучше подкинь лапку. Неохота новую отращивать, авось и эта приживется.
Правко попыталась дотянуться до передней правой лапы, но застарелые шрамы на месте прежних «срубов» головы не давали шее растянуться. Кожа так хрустела и скрипела, что Середко поморщилась.
– Ладно, сами подойдем, пригнись, Левко.
Левая голова откинулась на спину, и Змей подтащился к одной из отрубленных лап, загребая двумя оставшимися. Ну а ко второй на трех лапах уже подобраться несложно было.
– У меня после вырастания аппетит, – заныла Левко.
– Я бы тоже бы поела, чтоб в желудке не болело, – поддержала ее Правко. – А потом неплохо нам бы прогуляться бы и к бабам.
Середко же внимательно посмотрела на все четыре лапы и прикрикнула:
– Цыц! Надо нам затаиться и людям на глаза не попадаться. Поэтому никаких кабаков и девок!
– Но почему?
– Василиса нас терпит, пока мы не балуем… Работу подкидывает. А вот если не будет в следующий раз меч смазан живой водой?
Василиса сделала последний стежок, как раз когда сердце подсказало – едет домой любимый муж. Провела легонько ладонью по милому облику, усмехнулась, затворила обратно – все получилось, как она хотела.
Вышла в двери – и точно, бежит Аленка, первой успеть сказать, что с башни видели Алексия. И, как всегда, в недоумении подбегает – как узнала? Почему вышла? Может, ворожба какая?
Нет, никакой ворожбы. Только сердце женское – только любовь истинная. Василиса сжала в руке вышитый платок и почувствовала, как в глазах защипало.
Как она за него дралась! Как она настраивала князя Владимира против Алексия, жениха своего! Как ссорила Лешку с остальными богатырями, чтобы он сам уехал из Киева, гадюшника этого! Совладала со всеми навалившимися разом проблемами, вытянула мужа.
Те богатыри, что в Киеве остались, спились или поистрепались. Добрыню уже и за человека не считают – после того как он в пьяном угаре спалил собственный терем с женой и детьми. Муромец растолстел – под ним, говорят, пороги в избах крошатся, а в сырую землю он по колено проваливается, как в снег.
Так и остался Алешка единственным настоящим богатырем земли Русской. Каждый день при деле, гордится собой, чувствует, что нужен.
Не гуляет на сторону, не балует, не пьет – да и когда?
Подъехал, соскочил с коня, обнял жену – она любила его таким. Да, грязный, потный, уставший! Зато – настоящий мужчина.
Василиса Прекрасная склонила голову на плечо мужа и крепко-крепко прижалась к нему. По ее щеке скатилась маленькая слезинка.
Алеша Попович осторожно поцеловал жену в лоб и устало улыбнулся.
Вот оно, настоящее счастье-то…
Фёдор Чешко
ОН
1
Какая-то лесная мелкая дрянь (крыса, что ли?) порскнула в придорожные кусты чуть не из-под самых копыт, и конь, храпя, шарахнулся к противоположной обочине. Витязю примерещился взблеск двух красных глаз-точек там, где смутная мохнатая тень вонзилась во взбитое ветром жёлто-чёрное месиво; даже злобное еле слышное ворчание будто бы исхитрилось не утонуть в пергаментном шорохе палой и непалой листвы. Послышалось? Может, и нет – мало ли небывальщины наслучалось уже за время пути? Боевой конь испугался крысы, крыса перерычала ропот осенней пущи… Снизойди, Всеединый, позволь хоть впредь ничего странней не изведать! Ох, не позволит…
– Что это было? Слышал, твоя доблесть? Вот опять – что это?!
Ага, старик тоже расслышал крысье рыканье… Или нет, он расслышал другое. И конь, значит, испугался вовсе не крысы – конь тоже расслышал; один ты, твоя витязная доблесть, просморкал то, чего никак бы не следовало. Впрочем, тебе простительно. Столько лет добрые (а паче – недобрые) люди гремели по твоему шлему разными увесистыми предметами – от обмотанных войлоком деревянных учебных мечей до боевых палиц… Умно ли тебе после такого упрекать слух в неспособности тягаться чуткостью с конским? А старик… А что старик? Он ведь не простой старик.
– Вот опять… – жалобно проныл «не простой старик», придвигаясь вплотную к витязю.
Да, опять. То ли ещё громче, то ли ещё ближе. Тонкий плач, переливистый и надрывный, серой паутиночной нитью продёрнулся сквозь ровное полотно ветряного шуршливого бормотания, пульсирует, бьётся, словно запутавшись в полуголых раскоряченных кронах…
Конь встревоженно задёргал ушами и… Нет, попятиться он всё-таки не решился (знал: всадник может простить любое своеволие, кроме трусости), но и дальше идти не желал.
– Это волк? Скажи, твоя доблесть: волк? – Безотрывно пялясь в чащу, старик нашарил витязное колено и вцепился в него.
Витязь успокаивающе похлопал коня по шее, буркнул:
– Ты уже имел случай понять: Крылатый не боится обычных волков.
Тут он заметил наконец, что по рукаву стариковой хламиды шныряет какая-то мерзость и что оная мерзость явно склонна предпочесть полусгнившей овчине серый бархат кое-чьих штанов. Заметил, торопливо высвободился из ногтистой старческой хватки и заставил коня сделать несколько шагов по выжелтенной листопадом дороге. Конь всхрапывал, запрокидывал морду, косил на седока круглым от страха глазом, и «несколько шагов» получились равны длиной как бы не одному нормальному.
А вой тем временем оборвался – разом, вдруг, словно вывшему перерубили глотку (вот бы оно и по правде так!). Старик облегчённо перевел дух, оглянулся… и очень удивился, обнаружив, что рука болит и ни за что не держится.
Старик…
Кислоглазое лицо, облиплое жирными космами дрянной бородёнки; грязные клочковатые брови, ошарашенно вздёрнутые на ещё более грязный лоб; трясущиеся губы, похожие на агонизирующих от голода пиявок…
Витязь спешно заотворачивался, чиркнул взглядом по стриженой конской гриве, по кустам, по обомшелой коре раскидистых двуохватных деревьев… Нет, поспешность не спасла. То ли это от гадливости щеку успела-таки передёрнуть невольная судорога, а то ли именно из-за торопливого порывистого движения треснули вроде бы уже начавшие подсыхать рубцы, и опять из-под заскорузлой повязки на чернёный, испятнанный ржавым нагрудник сорвалась свежая капля.
– Он ушёл?
Витязь сперва не понял этого вопроса, а когда понял, рассмеялся – хоть и чувствовал, что от смеха раненая щека засочилась ещё обильней. «Ушёл»… Дитятя напуганная, даром что при бороде и дервишеском посохе… Конечно, тот, который выл, – он, наверное, ушёл… откуда-то. И теперь, возможно, идёт… куда-то. Вполне, кстати, вероятно, что прямиком сюда. А первейший из свитских Его Блистательной Недоступности витязей – надо же случиться такому! – безоружен. При нём, при первейшем-то из свитских, всего-навсего и есть, что кинжал. Ну палица ещё. Ну чекан. Ну ещё можно зачесть щит, которым оный витязь на своём веку напереламывал костей не меньше, чем палицей. Но что бы то ни было, витязь без меча – это как без рук за пиршественным столом: суметься-то всё сумеется, но как!
Тем временем старик вроде совладал и с удивлением, и со страхом (впрямь дитятя: насмешливо буркнутого его доблестью «ушёл-ушёл» вполне хватило). Совладать-то с вышеперечисленным он совладал, но вести себя по-нормальному, очевидно, не умел вовсе. Потому что вдруг замер, таращась так, будто не витязь был перед ним, а сам Всесотворивший Всеединый в грозе и славе своей.
– Ты сказал… – От возбуждения голос дряхлого оборванца сбивался то на щенячий провизг, то на сиплое перханье. – Ты, твоя доблесть, сказал: Крылатый не боится… Это, значит, коня твоего так кличут: Крылатый? А ведь и на щите у тебя… Так то есть ты… то есть вы… вы – это, значит, тот самый и есть? Витязь Крылатого Коня?
Додумался-таки, доскрипелся… Старый шелудивый хорёк. Грех, конечно, даже в мыслях оскорбить дервиша Всеединого, и, конечно, даже в мыслях оскорбить старика недостойно витязных обетов, а всё равно – хорёк. Старый и шелудивый. Ну вот, теперь пристанет: куда, мол, да зачем, да почему…
– Смиренно умоляю вашу доблесть извинить назойливое моё любопытствование, но откуда же вы здесь… То есть откуда – это как раз понятно… Но зачем? В одиночку странствовать по Предпустошью… В этом проклятом Всесотворившим краю даже многочисленные рати, случалось, пропадали без вести и следа… Как же вы изволили решиться?.. Ради чего бы?
Ну вот, пожалуйте откушать. И что теперь? Лгать нельзя – дервиш же! Отмолчаться тоже нельзя (по той же причине). А рассказывать этому хорь… хор-рошему старику всё как есть… Во-первых, не поймёт, а во-вторых, просто стыдно. Бесы пекельные, это ж представить только: сподобил бы Всеединый хоть на миг какой-нибудь промедлить утром, и не пришлось бы теперь… Грешна мысль, и с достоинством витязя напрочь несовместима, но вот пришла же… И в ней, в мысли этой, тоже дервиш виноват: ввел в искушение… Вот же впрямь, что бы стоило с утра коню потерять подкову?! Или ветру задуть не встречь, а наоборот – тогда б верещание старика расслышалось для этого самого старика чересчур поздно…
* * *
…Прошлая ночь неожиданно выдалась почти спокойной и даже почти уютной (во всяком случае, по сравнению с двумя предыдущими). Последние скудные людские приметы в округе исчезли задолго до полудня, гордиться витязным небрежением к опасностям да удобствам было не перед кем, и потому он решил не лезть в Последнюю Дебрь натемно глядя. Десятках в четырёх перестрелов от того места, где малоезженый, почти незаметный беглому взгляду караванный тракт запущенной просекой втискивался в лес, нашлась скирда. Была она рассевшейся да гнилой – видать, году этак в запрошлом какие-то полоумные… то бишь беззаветные храбрецы отважились косить здешние травы, и не сумели (что при такой храбрости вполне понятное дело) дожить до возможности попользоваться результатами косьбы.
Волглая от гнили травяная труха вряд ли сочлась бы достойной человека постелью при дворе Высокого Дома (да не потускнеет вовек Недоступность Его!); и болотного крикуна, лишь слегка только обожжённого (витязь не стал искушать судьбу разведением путного костра), придворные уж точно не посчитали бы человеческой пищей. Ну и хряку их промеж окороков, придворных-то.
Утро выдалось по-настоящему осенним. Ветер, сонным прибоем накатывая от Дебри, щемил душу горчинкой настоянного на листопаде тумана; стылая небесная голубизна пыталась кутаться в серый пух, но изветшалая облачная полсть расползалась, и из блеклых прорех лился испокон-вечный бродяжий гимн – клик перелётных стай…
Конь шел вялым бесцельным шагом; приостанавливался, чтоб выдернуть из свалявшейся травяной шкуры редкие недовыблекшие пряди; окунув наконец седока в дырявую тень траченного осенью леса, вообще встал, потянулся губами к испятнавшим приобочинные ветви кровяным сгусткам сморщенных переспелых ягод…
Витязь не понукал Крылатого. Витязю надоело спешить, ему нравилось вот так не по-витязному мешковато горбиться в седле – медленно, всей грудью вдыхая сырую пряную горечь, слушая зовущие крики с неба, горько упиваясь собственной и непохожестью, и похожестью на растворяемых далью птиц.
Птицам грустен и тревожен отлёт, но они знают, для чего сорвало их с места властное ощущение своей нужности в нездешних краях. Они знают, что нужность – это для них, что не смогут они выжить здесь, но, наверное, смогут там…
Да, возможно, они и знают.
А ты?
Витязь Крылатого Коня, самоотверженнейший защитник всех сирых и притесненных, образец чести и доблести, самый непобедимый из бойцов ойкумены, прославленный, великий, долгожданный, незыблемая опора и крепкий щит – что ты знаешь о занозе непокоя, без внятной причины впившейся в твоё сердце? О чувстве непременной немедленной нужности где-то, которое рухнуло на тебя вдруг, ни с того ни с сего, и подмяло, и вырвало с корнем из привычной обыденности, не разрешив задержаться ни на единый миг, ни на полумиг не позволив засомневаться в том, что она, нужность эта твоя, неведомо где и невесть кому, несоизмеримо важнее твоих желаний, твоей репутации, твоей присяги на верность Его Недоступности Великому Дому… О чувстве, заставившем уйти, даже бежать – ночью, по-предательски, не озаботившись испросить соизволения или хоть уведомить… О чувстве, которое беспричинно (ведь его, чувство это, не согласится считать причиной ни один здраво… да что там – просто ни один мыслящий) гонит тебя захолустными дорогами в пустынный неведомый край, на Бесовы Пустоши, о которых точно известно только одно: мало кому из людей удавалось добраться туда, и почти никому из редких этих счастливцев не удавалось вернуться.
Наставник говорил, что умение топить чувства в мыслях, а мысли в душе – это последнее из умений, которые превращают ремесленника войны в витязя. Последнее лишь по времени овладения, а по важности – первое. Наставник был мудр. Опытный ратник въезжал бы в Дебрь, заранее изготовив оружие, зорко всматриваясь, чутко вслушиваясь, ожидая наихудшего и загодя готовясь к… К чему? Вот то-то. Нельзя заранее приготовиться ко всему плохому, которое только может случиться; особенно – в Предпустошьи; тем более – на самих Пустошах. К чему-то получится быть готовым лучше, к чему-то – хуже, а что-нибудь обязательно нагрянет врасплох, и готовность к другому окажется лишней помехой.








