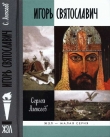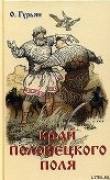Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Дом показался ему угрюмым и темным. Ни света в окнах, ни пса во дворе. Минуту Ярослав чутко прислушивался.
Вера сидела, не зажигая свет – всё равно не для кого – и следила, как медленно движется по полу комнаты острый лунный луч. Из окна спальни ей видны были гибкие высокие ветки шиповника. Сегодня утром показалось, будто в шиповнике незаметно пробуждается жизнь и в черных страшных ветвях бесшумно бродит живой сок. Бывает ведь, что даже люди, пережившие горе, покалеченные телом и душой – оживают, встают на ноги. В самом диком отчаянии находят силы жить дальше. А шиповник от природы куда живучей человека.
Вскинулась на стук в дверь. Не спрашивая, отбросила засов.
– Я знала, что ты приедешь.
– Почему? – войдя с мороза, с хлещущего ветра улицы, Ярослав наслаждался ошеломительным теплом. Теплом жилья и теплом ее рук, порывисто его обнявших.
– Потому что очень тебя ждала… А человек всегда рано или поздно приходит туда, где его любят и очень ждут.
– Давай не будем ничего загадывать, Вера. Я не знаю, прав ли я, что приехал к тебе. Не знаю, как у нас получится…
Он не мог сказать вслух – ему тесна была и замкнувшая в одиночестве затхлая квартира, и пошлая крикливая Москва. Непонятная тягучая боль поселилась в груди, хотелось уехать, убежать – куда-нибудь. Две новых песни за одну прошлую ночь, отнявшие слишком много сил.
Есть ли вообще на Земле место, где ему было бы светло и спокойно?.. Сейчас прибился к девочке, с которой не хотел делиться своими страданиями и химерами. Она слишком чутко понимала его, слишком близкой оказалась – так близко Ярослав не подпускал никого, может быть, боялся предательства.
– Не будем загадывать, – тихо кивнула Вера. – Будем просто жить. – И, как будто это непонятно и так и обязательно нужно высказать словами, добавила: – Я очень, очень тебе рада…
– А всерьез ничего у нас не получится, – Ярослав нервно загасил сигарету в массивной пепельнице. Прятал взгляд, оттого что этот разговор был ему тяжел. Не знал, что делать с Вериной преданностью – безоглядной, такой, на какую обычно способны только дети и звери. – Понимаешь, для меня уже поздно… Поздно что-то начинать сначала.
– Пойдем тогда я тебе кое-что покажу.
Вышли в сад. Едва рассвело. Утро пахло снегом. Деревья, сонные от зимы, замерли, точно олени, осторожно вышедшие к людскому жилью. А шиповник очевидно сошел с ума, всё перепутал теперь – за несколько дней появились бледные молодые листки, зябко дрожали на декабрьском ветру. А одну ветвь венчал бутон, чуть розовый, точно детская ладошка, сжатая в упрямый кулачок. Вопреки всем законам природы шиповник решил расцвести в декабре, едва оправившись от ожога.
– Это что такое? – Ярослав бережно потрогал бутон.
– Чудо, – усмехнулась Вера. – А второе чудо… Скоро родится.
Ярославу это напомнило день из его детства. В южном городе, где он вырос, снег случался редко. А то навалился лавиной, перековеркал сугробами все улицы, подмял холодной силой сады, парки. И такие яркие, растерянные стояли под снегом цветы и живьем замерзали, а с сердитого штормящего моря ветер подул уже теплый, тревожный. В тот день в городе только и разговоров было про снег. Так вот всё ушло, забылось, а теперь возникло в памяти, точно только вчера было – его одинокие, драчливые, волчьи двенадцать лет и первое рожденное тогда стихотворение.
1
Солнце вовсю лезло в окна, смеясь, играло на белой жесткой, пропахшей чем-то больничным простыне. Так играло, что хотелось протянуть руку и погладить, как живого зверька, теплого солнечного зайчика, примостившегося рядом.
Вера выглядела изможденной, но улыбалась покойно и счастливо, едва приподымаясь от подушки.
– Она такая маленькая, я даже не знала, что мы такими крошками рождаемся… И такая родная.
Надсадный крик женщины, донесшийся из соседней палаты, резанул по нервам. Вера вцепилась в руку Ярослава с отчаянием и мольбой.
– Пожалуйста, забери нас с маленькой домой.
– Нельзя, родная. – Ярослав растерялся, как всегда, когда его просили о чем-то, чего он не в силах выполнить. – Тебе надо окрепнуть.
– Я дома лучше окрепну. Если бы я дома родила, всё было бы лучше. Я из-за врачей сердце сорвала, – голос ее стал тихим и упрямым. – Запомни, из-за врачей. Не из-за ребенка. – Вере не хотелось, чтобы дочь повторяла ее участь. Быть виноватой тем, что родилась.
– А вообще… очень больно тебе было? – Ярослав испытывал обычное мужское любопытство и робость перед родами любимой женщины.
– Не знаю. Я когда дочку на руки взяла, про все боли забыла. А знаешь, она засмеялась сразу. Другие детки плачут, а наша засмеялась.
– Есть легенда. В одном городе у женщин вдруг стали рождаться не совсем обычные дети. Дети были здоровые и, рождаясь, смеялись, и у них были маленькие крылья… Люди тревожились, советовались с учеными по поводу этой аномалии, и вот нашли выход: врачи стали делать новорожденным операции – удалять крылышки. Дети переносили операцию, выживали. Вот только они никогда больше не смеялись, и на лопатках навсегда оставались шрамы от отрезанных крыльев.
Беспокойное вдохновение исказило лицо Ярослава, когда он рассказывал.
– Я ведь родом из этого города, Вера.
– Родной мой… Твои крылья целы, я их чувствую. Потому и люблю тебя. Просто они стали невидимыми. Сам знаешь зачем. Чтобы люди пальцем не тыкали. Или вправду не подрезали.
– У нашей девочки тоже обязательно есть крылья. Невидимые. – Ярослав тихо рассмеялся, сам не зная чему, а Вера взмолилась:
– Славонька, они тут меня мучают, совсем не дают с маленькой быть, унесли ее куда-то. Забери нас домой.
Он вдруг решил: на все пойдет, переругается со всеми врачами, хоть и с министром здравоохранения впридачу, а если понадобится, выкрадет жену и дочку под покровом полночи. Дочку… Как удивительно быть отцом. Ярослав не понял еще толком, не привык к этому чувству, только шальная, безудержная радость теснилась в груди.
2
Стоял теплый полдень, они открыли в спальне большое окно; из сада пахло наливающимися белыми яблоками и прогретой солнцем летней листвой.
– Обещай мне одну вещь, – сказала Вера очень серьезно. Ярослав догадался, о чем она – просто они говорили на одном языке и привыкли чувствовать друг друга.
– Не надо. Не думай об этом.
– Нет, обещай. Обещай мне, что будешь жить… Даже если я умру.
– Не умирай.
– Постараюсь, – Вера болезненно сглотнула – что-то давило горло. – Но если вдруг. Захочешь уйти следом, знаю я тебя. А ты живи. Хоть ради Наташеньки, – решили дочь назвать Наташей. – А еще и ради меня. За меня живи, умоляю.
– Развела панихиду, – крикнул Ярослав резко. – Всё, хватит. Я тебя не отпущу.
– А я никуда не уйду, – приподнялась и, обняв его, стала тихо укачивать, точно он тоже был ее ребенком. – Я тебя слишком люблю, чтобы бросить. Даже если умру, я не умру совсем, а стану… вроде ангела. Чтобы всегда оберегать тебя и Наташу.
Вечером Вера пила лекарство – потерянно пряча глаза, как будто ее застали за чем-то стыдным. Случившееся казалось подлым: не умерла же она, когда была никому на земле не нужна. Непрошеной, нежеланной появившаяся на свет – зацепилась, выжила. А теперь два самых родных человека нуждались в ней.
Ни страха не было, ни других сожалений, а только эта жгучая материнская жалость: как бросить?..
Вскрикнула – обожгло болью. Сердце, как пробитый пулей мотор, больше не хотело служить ей.
– Видишь, я слабая, физическую боль плохо переношу… Жалко, что я не цыганка. Говорят, цыганки и рожают – не кричат. И если их ранят, стойко очень переносят.
– Они умеют заговаривать боль, – предположил Ярослав.
Вера думала о старых умных кошках и собаках. О том, как они, умирая, уходят со двора, чтобы не отягощать любимых людей. Вот бы уйти так же далеко-далеко и сгинуть – чтоб никто не видел, не плакал…
Ночь каменной горой навалилась на их притихший, беззащитный дом. Ярослав проснулся от тишины и от инстинктивного, звериного понимания: случилось. Так тревожно и смутно в доме, когда отходит душа.
– Вера, – позвал он, и голос сорвался на крик. – Вера, ты слышишь?
Может быть, он успеет ее позвать и удержать…
Окно было по-прежнему распахнуто, крупные звезды дрожали на ветках яблонь. Шиповник, точно приподнявшись на цыпочки, заглядывал в спальню, молча силился утешить хозяина.
3
Когда уходят близкие, отчаянно хочется верить в ангелов. Знать, что они теперь на небесах, с Богом. Если знать и думать не про небо, а только про червей в земле, можно ведь голову о стену разбить от отчаяния.
То, что лежало под кисеей в продолговатом, как маленькая лодка, ящике, не было Верой. Больше нигде на земле не было ее голоса, ее запаха, ее чутких ласковых рук. Дом наполнился суетливыми похоронными хлопотами, не имеющими, как казалось Ярославу, отношения к Вере. Приехала мать, в своем горе строгая и как будто ревнивая, она каждым словом и распоряжением давала понять, что горе – ее, только ее, на которое она одна имеет страшное и священное право.
– Останешься с ребенком, – велела она Ярославу.
В другое время, не будь оглушен и ослеплен болью, он обиделся бы, наверное.
А если быть перед собою и Богом совсем честным – он сам не хотел ехать на кладбище, не мог это пересилить. Он и отцовскую могилу навещал очень редко, от живых получал за это горькие упреки, а отец наверняка понимал и прощал его. Потому что дело было не в трусости, не в бегстве от правды. Он не понимал смерти, не верил ей. Помнил и хотел помнить отца живым, и потому могила казалась жестоким надругательством. Он не мог видеть, как Веру, беззащитную, забросают холодной землей. Не хотел, по обычаю, сам бросать в нее первую горсть. Единственное, на что хватило силы, пока не обезумел еще – отломил ветку лесного шиповника, усыпанную зреющими ягодами, и положил рядом с нею, среди пышных, увядающих, совсем чужих и ненужных ей цветов.
Священник показался слишком молодым, у него были ярко-синие проницательные глаза и ранняя тревожная складка между светлых бровей, а голос высокий, с юношеским надломом. В комнате стало душно и голубовато-дымно от ладана и как-то особенно горестно от звучащих псалмов.
Отслужив панихиду, отец Дионисий подошел к Ярославу.
– Я понимаю, утешать вас сейчас бессмысленно, – сказал тихо и просто. – Прошу вас, держитесь. Ради нее.
Ярослав поднял мутный, каменеющий взгляд. У него тряслись руки.
– Лучше умереть тоже.
– Наши близкие, которые умерли, не хотели бы, чтобы мы шли следом. Мы обязаны жить. За них. Вы теперь не только за себя, а за нее живете, ее жизнь в вас осталась. Человек не умирает, пока живы те, кто его любил.
– Хватит, – Ярослав вздрогнул, как от окрика или удара, судорога боли дернулась в теле. – По какому праву рассуждаете, не лезьте уж лучше. Это мы родного человека хороним, а вам все равно, кого отпевать.
– Если вам от этого станет легче, – священник не отвел взгляда, неизжитое отчаяние на миг исказило его красивое лицо, – два года назад я похоронил брата. Он, когда уходил, очень, очень просил меня жить…
… А потом Ярослав остался в доме сам с уснувшей малышкой.
На полочке под зеркалом лежали Верины заколки, в прихожей осталась ее обувь и плащ. В доме все было так, будто Вера просто ушла на работу и вечером вернется. В кресле сидел смешной плюшевый лисенок, Вера почему-то дала ему кличку Шляхтич и даже в больницу таскала с собой.
Вдруг Ярослав подумал, что она жива, не могла умереть, она уснула просто. Сорвался бежать, предупредить кого-то, чтоб остановились, не закопали живую…
4
Наверное, неправда, что время лечит. Оно только чуть притупляет боль, и еще – выхолащивает душу, каждый день прибавляет усталости и отчуждения. Привыкаешь, что близкого нет рядом, привыкаешь к молчанию…
Те, кого мы любили, остаются с нами. Я не умру, пока ты меня помнишь и любишь. Я часто говорю тебе это, но ты за своей скорбью не всегда слышишь.
Вплотную подступила осень. Город застился мелким, колким дождем. Сквозь деревья в аллеях просвечивало небо. Прохожие с разноцвеиными зонтами шли каждый по своим делам, вряд ли кто обращал внимание на высокого мужчину, неприкаянно бродившего по улицам.
Район был незнакомый, Ярослав не помнил, как зашел сюда. Вдруг напряженным взглядом он выхватил из толпы молодую женщину на другой стороне улицы. Секунду стоял, всматриваясь – и рванулся к ней. Бежал, расталкивая прохожих, не слушая их возмущенных окриков, боясь только одного – что не успеет догнать и она исчезнет. Дождь припустил сильнее и как плетьми хлестал Ярослава по плечам, по лицу. На перекрестке раздался дикий скрежет тормозов, какая-то машина остановилась, едва не сбив бегущего.
Девушка ускорила шаг. Ярослав догнал ее, попытался схватить за руку.
– Вера!
Прохожая обернулась. Испуг в ее взгляде сменился состраданием. Вблизи она оказалась даже не очень похожа на Веру.
– Извините… – Ярослав отпустил руку девушки, она стеснительно улыбнулась и заспешила прочь.
А он очнулся, прозрел. Что он здесь делает, в чужих кварталах чужого города?.. Маленькая наверняка проснулась и плачет, Ярославу стало стыдно и страшно, что он оставил ее с утра одну. Остро ощутил, как успел соскучиться по ней, теплой, родной, недавно снова научившейся смеяться. Вера оставила ему бесценный дар. И сейчас, как тогда, когда держал дочку на руках, Ярослав с небывалой силой чувствовал жизнь.
А дождь все метался над равнодушной улицей, отражая в лужах небо.
* * *
Когда-нибудь вправду проснешься от жгучего света, когда снег, как покров, затянул все раны земли, укрыл всю грязь. И как маленькое доверчивое чудо, на снег лягут крохотные, еще робкие следы, первые шаги ребенка. Так должно быть. Это единственный секрет жизни.
Море тихо дремало после шторма – так обиженный ребенок, наплакавшись и накричавшись, утихомиривается и засыпает на материнских руках; зеленоватые волны колыхались, как мерное спокойное дыхание, и разве изредка слышались последние – уже спросонок – горькие всхлипы. Заходящее солнце просачивалось сквозь водную толщу теплым янтарем.
Девочка-дельфин любила эти часы затишья. Она родилась в океане и разделяла с ним, как с добрым другом, все его радости и боли – наделенная душою более чуткой, чем ее друзья по лазурной дельфиньей стае, и подавно несравненно более чуткой, чем люди.
Вдруг по желтому песку заскользила хмурая тень, хищная тень. Она кралась, как беда, как грозовая туча по небу над морем, как сама смерть, осторожная и неумолимая. И протяжно крикнул старший дельфин, предостерегая. Это шел «Черный воин», лютое китобойное судно. Затаиться, припасть ко дну, не сметь выныривать еще много часов. Все помнили касатку, красавицу Лу – с железным гарпуном в боку пришла она в подводное ущелье умирать, уйдя от погони, не став добычей жадного невода – ах, как досадовали, наверное, матросы.
На дельфинов эти люди обычно не охотились, только на китов, да мало ли что сотворить могут сослепу или спьяну.
Злая тень медленно уходила на север от Города дельфинов. Тяжко вздохнуло море.
Она жила с рожденья в океанской глубине, среди своих добрых братьев и сестер дельфинов; но оказываясь в белесой прибрежной пене, обретала тело прекрасной девушки. Даже родители, было время, стали чураться ее, словно такая дочь могла навлечь беду. Потом попривыкли – она ведь не делала никому зла, только в лунные ночи, когда по воде рассыпано невесомое серебро, поднималась на поверхность и пела дельфиньи песни так нежно да тужливо, что замирали сердца у всех, кто слышал, и сами волны печально вторили ей.
На берегу песок, как бархат, льнул к ногам – непривычное ощущение. Вдалеке вырисовывался людской город, нескладный, химерный, но чем-то манящий ее. Чуть слышно скрипел влажный деревянный причал. У самого моря высилась одинокая скала, набегающие волны лизали гладкий черный камень.
– Здравствуй, – крикнула девочка-дельфин знакомой чайке, и та приветливо поздоровалась в ответ. Всё живое на Божьей земле, и в небесах, и в водах говорит на одном языке, простом и сокровенном, вот почему дельфину нетрудно понять птицу или цветок.
Она сидела у скалы, обхватив руками коленки, на самой границе между родной своей стихией и чужой, неизведанной землей. Издалека мигал зоркий маяк.
Парень подошел и опустился на корточки с нею рядом. В его сутуловатой фигуре чудилась какая-то беззащитность, длинные русые волосы разметались по плечам. Он попытался улыбнуться девушке, и получилось это так, словно он улыбался очень-очень редко и даже забыл, как это делается.
– Привет, – начал подошедший. – Ты тоже любишь море?
– Люблю.
– Это мое любимое место. Сюда хорошо приходить, когда устал от всех.
– Я тебя не видела здесь, – говорить на человеческом языке ей было легко и радостно. – Наверное, ты живешь далеко?
– Нет, здесь, почти в порту. У меня мало свободного времени… А как тебя зовут?
Ах да, люди ведь дают друг другу имена. Дельфины тоже разговаривают меж собою, их разговор похож на музыку. И так же есть особый клич для каждого, вроде имени.
– Аве, – примерно так ее имя звучало для людского слуха.
– Аве? Похоже на молитву, – он улыбнулся уже увереннее. – Ну а я просто Грэй. Очень рад, – Грэй взял девушку за руку и легонько стиснул ее тонкие пальцы. Аве покосилась испуганно, потом поняла – это просто ритуал знакомства, дельфины ведь тоже притрагиваются друг к другу; и она по дельфиньему обычаю быстро коснулась губами его щеки:
– Я тоже рада.
Грэй достал из кармана хлеб и стал бросать низко пролетающим чайкам, но осторожные птицы сторонились его. Тогда Аве воскликнула по-чаечьи, воздух наполнился шумом крыльев, чайки стали ловить кусочки мягкого хлеба прямо на лету, почти из рук.
– Ты что, дрессировщица? – поинтересовался Грэй.
– А что это такое?
– Ну, учишь животных и птиц разным штукам, знаешь к ним подход, чтобы они слушались тебя?..
– Нет, я ничему их не учу. Просто это мои друзья.
– Я тоже хочу быть твоим другом.
– Ты мой новый друг, Грэй. Ты первый, кого я встретила здесь.
– Так ты приезжая?
– Можно и так сказать… Я из моря.
Собеседник не слишком удивился. В нескольких сотнях миль был остров, Грэй слыхал, что там живут какие-то поселенцы, давным-давно вступившие в конфликт с властями и не то сосланные, не то сбежавшие. Он решил, что Аве островитянка.
– Ты пахнешь морем, – сказала Аве; они сидели совсем близко.
– Я работаю на корабле. Пропахнешь тут, – голос Грэя стал сердитым.
– Что ты, это ведь чудесный запах.
– Зато работа не чудесная. Ладно, извини.
Солнце краешком зачерпнуло из соленого моря. Близился вечер. Протянулись по берегу две цепочки следов: мальчишьи – грубых сандалий с решетчатой подошвой, и девичьи – босые.
Город зажег разноцветные огни. То был скромный портовый городок со скучными улицами, с фонтаном на центральной площади – там бродили и целовались парочки, – с несколькими кафешками под зелеными опахалами пальм, только и всего; но Аве он показался прекрасным, ведь это был первый виденный ею город, и с нею был новый друг.
– Пойдем ко мне ночевать, – предложил Грэй. – Правда, каморка тесная, как-нибудь уж поместимся. А завтра утром мы с командой выходим на промысел, я отвезу тебя домой.
– Спасибо, Грэй. Но мне хочется просто побродить. И домой я отлично доберусь сама, не беспокойся.
– Ты замерзнешь.
На ней было тонкое, гладкой материи платьице, голубое с лиловатым отливом, как дельфинья кожа, нехитрый наряд едва прикрывал хрупкое, полудетское тело.
– Я никогда не мерзну, – возразила Аве с ноткой гордости. – Ты не думай, будто мне не хочется идти к тебе в гости, чуть позже обязательно зайду. Понимаешь, для меня здесь всё чудесно, всё внове, я хочу сразу побольше увидеть и узнать.
– А мне пора. Завтра спозаранку начинается работа, я должен хоть немного отдохнуть.
Тревожно зашумели ракиты, зашуршали выцветшей от зноя листвой.
– Они говорят, что рано утром будет гроза, – сказала Аве. – Милые сестрицы, они всегда так рады дождю.
– Скверно, – нахмурился Грэй. – В непогоду что за рейс, можно и вовсе без добычи вернуться.
Аве не спрашивала Грэя о его работе, и что за добыча ему нужна. Она слыхала о ловцах жемчуга, ее они мало интересовали, ведь красоту нельзя присвоить. А ни о чем другом не могла подумать.
Они простились под журчание фонтана, похожее на лепет подводных родников. Аве долго бродила в нежном свете звезд, фонарей и огромной луны. За нею увязалась большая собака, желтая с темно-коричневыми подпалинами, славная умная собака, они сразу подружились. А под утро захлестали молнии и хлынул теплый дождь. По улицам, бранясь, загрохотали тележками мусорщики. Ливень проводил Аве в родное море.
Дома свои хлопоты-заботы. Младший братишка, несмышленыш, наткнулся на морского ежа, наделал переполоха на всё подводное царство.
Мать горюет:
– Ты к людям ходила?
Грустно, виновато кивнула Аве. И увидела в глазах матери две крупные, недобрые слезы:
– Значит, не нужна тебе больше семья, не нужен родной океан. Гляди, наживешь беды, ко мне тогда не ходи плакаться.
Аве окинула взглядом Город дельфинов. Просторные, упругие течения мерцающей бескрайней воды, роскошные коралловые цветники. Каждый камушек донный, каждый завиток волны с детства ей привычен. Нет, не отдаст всё это, не променяет на каменную коробку. И вскричала девочка-дельфин:
– Мама, матушка! Скажи, почему так, и за что? Кто сделал меня такой? Почему все вы только дельфины и не терзаетесь никакими тревогами, кроме дельфиньих, а мне такая судьба?
– Не знаю, доченька, правда ли это. Бабушка Веда – ты помнишь ее, к старости она стала совсем белая, как створка моллюска, а ведь дельфины обычно не седеют, не меняют цвет своей кожи, – так вот, она говорила, будто наш океан забрал девушку, юную и прекрасную – она утонула, опрокинувшись в лодке; ее родные очень плакали и не отпускали ее умереть, вот ее дух и вошел в тебя, малого дельфиненка, а заодно ты получила и ее плотский образ.
– А вы, мои родные, боялись меня поначалу, да? За то, что я не такая, как все.
– Дочка, дочка… Дай Бог тебе никогда не узнать, что делают с теми, кто непохож на других, люди.
Грэева каморка приютилась под самой крышей, и из ее узкого окна был виден город, как игрушечный. Аве беспечно села на подоконник, раскинула руки, как крылья.
Аве рассмеялась – будто раскатились и разбились звонкие хрустальные шарики.
– Сумасшедшая! – крикнул Грэй. – Слезь немедля.
– А вдруг я умею летать? Иногда мне кажется, что летать не труднее, чем плавать в море. Знаешь, как плыть легче всего? Ловишь волну и сливаешься с нею, и тогда волна сама несет тебя. Может, и в небе так же – нужно ловить ветер.
Странное то было жилье и странные, разрозненные и в то же время одушевленные вещи наполняли его, почти не оставляя места для людей. Пестрый диван отзывался на каждое движение сидящих болезненным хрипом пружин, в углу к стене был прислонен огромный корабельный штурвал, треснутый посередине и кое-как связанный черной суровой нитью; потрепанный плюшевый заяц соседствовал с тяжелой пыльной бронзовой вазой, из которой торчали давно засохшие цветы; стены украшали большие цветные фотографии длинноволосых смеющихся парней с гитарами – «они делают музыку, классную музыку», пояснил Грэй; на полке стояло десятка три книг, чей вид говорил о том, что прочтены они увлеченно, неоднократно и не слишком осторожно – на многих корешках было ничего не разобрать, а иные и вовсе лишились обложек. Одна вещь заинтересовала Аве пуще всего – крупная витая раковина, розовато-перламутровая изнутри и коричневая снаружи.
– В ней живет голос моря, – сказал Грэй.
– Я знаю. Хочешь, я подарю тебе много-много таких?
– Зачем много? – спросил Грэй чуть позабавлено.
– У каждой своя песня. Ты сможешь каждый день слушать новую песню моря. Когда тебе грустно, нежную и веселую. А когда тебе весело – грустную.
– Зачем же грустную, когда весело?
– Чтобы не забывать, что есть на свете те, кому грустно.
Грэй разлил в маленькие стаканы темно-красный напиток.
Аве пригубила:
– Жжется… Нет, всё-таки сладко…
– Ты впервые пьешь вино?
Девушка кивнула.
– Если выпить слишком много, закружится голова, – улыбнулся Грэй.
Подкрались сумерки, и он зажег свечу. Смелые руки скользнули по плечам Аве.
– У тебя ведь еще не было любимого?
– Ты мой любимый, – ответила она, отзываясь на его нежность. Дельфины не боятся любви, как боятся и стыдятся ее иногда люди.
Утром Грэй вручил Аве продолговатую бумажку.
– Ты можешь сходить на рынок, купить хлеба и картошки? Я мог бы и сам, но мне немножко нездоровится.
– Хорошо, я схожу, – согласилась девушка, надеясь, что Грэй не заметил секундного замешательства в ее глазах.
Рынок кипел зазывными выкриками торговок, бранью, смехом. Аве решила понаблюдать, как делают другие – дети природы именно таким образом учатся новому. Про хлеб и картофель она уже знала и нашла на прилавке то, что нужно. Она заметила, что люди отдают торговке бумажки в обмен на продукты, как будто игра такая. Аве сделала то же самое, положила покупки в сумку и, поблагодарив, пошла прочь. В очереди позади нее зашептались.
– Сдачу-то возьми… Ушла и сдачу забыла, во блаженная… Эй, растяпа!
– Вот, – отдав Грэю сумку, Аве закружилась в грациозной пляске, по-детски радуясь, что выполнила поручение и любимый будет ею доволен, и еще тому, что она учится обычаям людей.
– А сдача? Я ведь дал тебе много денег, мне на них надо было жить недели две.
– Я разве сделала что-то не так? – Аве остановилась, складочка обиды легла у ее губ. – Я дала женщине ту бумажку и взяла еду. Так все делали. Ты мне не давал много, только одну бумажку… И я не пойму, как ты собирался на ней жить, разве это комната?
У Грэя вырвался из горла нервный хохот. Правда, смеяться ему было не с чего, в карманах ветер гуляет.
– Бестолочь! – не сдержался парень. – Как ты могла такое вытворить, ну как? Издеваешься ты надо мной, что ли? Дикарка полоумная!
– Прости меня, Грэй, – прошептала Аве и понуро пошла к двери. – Наверное, я действительно очень глупая.
– Постой, милая. Извини, я погорячился. Ничего, ты ведь не нарочно. Да постой же, не уходи.
– Я вернусь, – пообещала Аве. – Мне очень грустно оттого, что ты обидел меня злыми словами, и я знаю, что сейчас буду плакать. Я не хочу, чтобы ты видел мои слезы, потому что люблю тебя.
– Когда же ты вернешься?
– Когда перестану плакать.
Глухо, безнадежно хлопнула дверь.
На приморскрй аллее к Аве подошел мужчина в темно-синей одежде.
– Покажите ваши документы.
– У меня нет документов, – искренне ответила Аве.
– Почему же?
– У дельфинов не бывает документов.
Брови сержанта удивленно вскинулись.
– Я дельфин, – пояснила Аве. – Когда выхожу на берег, обретаю девичье тело. Я уже встретила любимого. И мне очень нравится ваш город, хоть он и не такой красивый, как Город дельфинов.
– Ясно: дурка, – буркнул сержант вполголоса. – А что там, в Городе дельфинов? Янтарные дворцы?
– Нет, дворцы нам ни к чему. Там просторные волны и коралловые цветники. И все мы верим друг другу, – вдохновенно принялась рассказыват Аве, не заметив насмешки.
– Пройдемте со мной.
Аве доверчиво пошла, даже не спросив, куда. Хоть и шелохнулась в груди тревога – она интуитивно почувствовала опасность.
А потом были равнодушные люди в белом и дом с желтыми стенами, с зарешеченными окнами. Дом, где у нее отняли свободу – одно из немногих прирожденных сокровищ, которым она дорожила.
– За что вы со мною так, – молила Аве, сдерживая соленые слезы. – Ведь я никому не делала зла.
От круглых таблеток хотелось постоянно спать. И даже снов прекрасных, сказочных, как раньше, больше не видела девочка-дельфин: только сомкнет больные тяжелые веки – перед глазами бурая, ржавая вода, горькая мертвая вода, какой в морях и не бывает, а разве что где-нибудь в болотах, в зыбучих трясинах.
Это был дом, где души живые ведут на убой. Дом именовался сумасшедшим. У кого были крылья, здесь их срезали, с нее же здесь содрать пытались ее дельфинью кожу, разлучить с памятью об океане и обо всей жизни прожитой, навязать взамен чужую жизнь, постылую, как та ржавая вода во сне.
Другой воды хотелось, живой и чистой. Аве полюбила тесную кабинку больничной ванной, как последнее напоминание о море.
Она нашла способ вырваться на волю. Отречься от всех своих слов, отречься от себя, никому никогда не говорить больше правды.
– Итак, вы утверждаете, что вы дельфин?
– Нет.
– Как вас зовут?
Она называет вымышленное имя.
– Где вы родились?
Она называет соседний городок.
– Вы хорошо плаваете?
– Немного умею.
– Где находится Город дельфинов?
– Его не существует. Никогда не слышала о таком.
– Вы понимаете язык зверей, птиц, деревьев?
– Нет.
– Кажется, она выздоровела.
Улица встретила Аве запахом горькой осенней листвы. Скорей домой, в бирюзовую глубь. Она бежала и чувствовала, как бьется сердце, будто колокольчик, резво и громко. Вечер зажигал холодные звезды и окна чужих домов. Аве нравилось заглядывать в чьи-то окна, представлять себе, как живут эти незнакомые люди. Но сейчас она торопилась.
Около певучего фонтана собралась компания человек в десять. Они были молодые, причем не временной, а особой непреходящей молодостью. Аве разглядывала их, как диковинку: латаные джинсы, рубахи с дикими рисунками. У одного парня была в руках гитара, он пел простую и добрую песню.
Аве подошла и села с ними рядом. Почувствовала, что можно так запросто подойти и подружиться, была в них какая-то открытость, невраждебность. Ведь приучилась бояться людей, а этих можно не бояться.
Здесь хлеб и вино делили по-братски на всех, предложили и ей.
– Кто вы? – спросила Аве.
– Мы свободные создания, дети пироды. Мы хиппи.
– А можно, я тоже спою свою песню?
– Будем рады, – парень дружески протянул ей гитару.
– Нет, эту музыку делать я не умею, – смущенно призналась Аве. – Я только спою. На своем языке.
Она пела дельфиньим зовом и клекотом, замирающим на гортанных щемящих нотах. Пела о том, как рождается солнце на заре где-то за дальней кромкой моря, и в этот час два любящих сердца находят друг друга. И еще о том, как дельфин угодил в расставленную хитроумную сеть, как бился и кричал, зовя на помощь, и плакал: зачем нужно созданиям Божьим ставить западни друг на друга?..
Смолкла волшебная песня без слов. Друзья по очереди крепко пожимали Аве руку. Не чужая она им, своя. Девочка, что играла на флейте, порывисто обняла Аве и завязала ей на запястьи тонкий нитяной браслет, черный по синему узор. Флейтистку звали Одиночкой – здесь сами выбирают свои имена.
– Спасибо, – тихо сказала Аве. – Спасибо за тепло души, за радость встречи. Оказывается, хиппи такие же хорошие, как дельфины.
Повстречалась с Грэем – словно и не был долгих дней разлуки. Аве учила его собирать опадающие осенние листья, яркие, как глубоководные рыбки. Они зашли вдвоем в дешевое кафе и пили сладкий кофе, но долго там сидеть им было скучно.