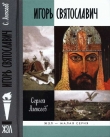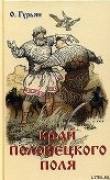Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Цикл посвящается всем, кто воевал, и их матерям, женам, сыновьям и дочерям.
Особо посвящаю памяти моей прабабушки Зинаиды и прадеда Кирилла
1
Лицо врага должно быть маской зла,
искажено пред правдой автомата.
А вот война приблизила, свела
немецкого и русского солдата.
А этот немец – вовсе молодой,
Ивана даже чуточку моложе.
На брата на погибшего похожий…
А землю до небес вздымает бой.
Разрывов ошалелая гроза,
и пули, как пророчицы, слепые.
А вот враги сошлись – глаза в глаза.
Глаза обоих были голубые.
Что ж. Не убил бы – самого б убили.
Лицо врага – совсем не маска зла.
Глаза обоих были голубые.
И кровь обоих – красная была.
2
Осторожные, волчьи тропы
через минные поля.
Глядит глазницами окопов
раненая в грудь земля.
Уже не просим небеса о чуде,
подсчитывая потери и раны.
Вдвое больше, чем окопов, будет
могил безымянных.
3. Военный поэт
Знаешь, какое бывает небо
за полчаса до атаки?
Тяжелые, серые, пороховые тучи
похожи на бесшумные танки.
Знаешь, как красивы бывают зори,
даже в таком аду?
Немолодой солдат рифмует для истории
смертную беду.
Знаешь, как пахнут летние травы,
еще не политые кровью?
Только всё ж по какому праву
это горькое многословье?..
Ведь, подумать защитные береты
тяжелей терновых венцов.
У войны не должно быть поэтов —
слишком страшно ее лицо.
1
Чадит под иконой лампадка.
Ветер ходит у окон.
И страшно, и больно, и сладко
думать теперь о далеком.
Вдалеке громыхают разрывы,
но дети привыкли и спят.
Он на фото такой счастливый,
добрый парень… Еще не солдат.
Не спится… А встанешь до свету,
яблок в саду нарвешь —
они, правда, тоже военные,
их вкус на порох похож.
Утром дымным сегодня,
в тревоге крестьянских забот,
увидишь вдруг почтальона,
стоящего у ворот.
Прошептать не успеешь молитву,
как снаряд разорвется в груди —
враз поймешь, почему у калитки
он стоит, не решаясь войти.
2
Летят легко и безутешно
над плачем сожженной земли
треугольники надежды,
как раненые журавли…
Конверт! И сердце жжет —
тепло сыновних строчек
и твердый и чужой
сочувствующий почерк…
Ждала с надеждой вести,
молилась за ребенка.
А получила вместе
письмо и похоронку.
Таял обугленный снег сорок первого года.
Зори пожаров стояли над стылой деревней…
3
Мать бранила мальчиков,
которые играли в войну.
Никто не хотел играть за немца.
Автоматами были кленовые палки.
А солдатка, поседевшая в 25 лет,
и ругала детей, и грозилась бить,
а потом заплакала вдруг навзрыд.
Отстроят дома, театры и школы,
пройдут не то что года – века.
Но память останется – как осколок,
застрявший в теле фронтовика.
1. Ветераны
Седые, в орденах. И мирною весной
идут на митинг… Хмурясь, улыбаются.
И шаг у них, как прежде, строевой,
хоть многие на палки опираются.
Мы чтим их раз в году – суровый грех!…
Жаль, годы метко добивают тех,
кого когда-то пули не достали.
Давайте их помнить, пока они живы.
Земной поклон вам, солдаты бывшие и навечные.
Всё меньше ветеранов приходит на встречи.
Давайте беречь их, пока они живы…
2
Чужак
Старик проснулся. Ночь была безлунной,
и дождь испуганный стучал в окно.
Ночь показалась тяжестью чугунной —
опять начавшейся войной.
Ведь где-то в темноте рвались снаряды,
светлела ночь от залпов, как от ран…
Проснувшись, как у края ада,
не сразу понял ветеран,
что не одно уже десятилетье
прошло от фронтовых от страшных дел,
и это просто мирной ночью летней
веселый гром над городом гремел…
В. О.
Джунгли меня прогнали за то, что я человек; а
человечья стая – за то, что я волк.
Редьярд Киплинг, «Маугли».
I
Тяжелая ночь, глубокая, как вечный, жестокий океан, в котором тонешь, не можешь, внезапно проснувшись, одолеть эту ошеломительную тяжесть и подняться со дна. Чернота – жгучая, сплошная, без малейшего проблеска, даже окно не угадывается, и тем она похожа на слепоту. Дыхание мучительно сжато, холодным камнем наваливается тишина. Воспоминание о сне сожжено страхом.
Через минуту начинаешь различать звуки – безжалостно мерное тиканье часов: они, как злые жуки, точат ночь, отгрызают от нее секунды, – злобные (или исполненные отчаяния?) рывки ветра, от которого дрожит хрупкое стекло и гнутся за окном деревья. Новая волна липкой удушливой тревоги захлестывает смятенное сознание. Безотчетный, почти звериный страх не дает пошевелиться.
Такое пробуждение – знак: беда с близкими либо с Родиной. Утро подтвердит.
Уснуть больше не удалось. Считал длящиеся, зловеще долгие минуты до рассвета – позднего, тусклого осеннего рассвета, который ничего не исправит, конечно, но хотя бы прогонит мучительную темноту.
К обоим богам взывал: будьте милостивы, не враждуйте, – войной, ценой чужой крови, никто еще не доказал своей правоты.
Когда встал к окну, – половицы отозвались тревожным, тоскливым скрипом, словно человек был чужим, незваным в этой душной комнате, – звезды умерли, в окно хлынул рассвет, мутно-синий, высветивший резкие черные ветви угрюмых деревьев, костлявыми руками ведьм вцепившихся в беззащитное небо.
В глубине комнаты чувствовалось беззвучное движение – двойник, заключенный в большом зеркале, следил за каждым шагом.
Древняя, скудная земля, – чьим жителям он был чужим и которую, однако, именовал Родиной – и не по вынужденности паспорта, не от тяжести родительской эмиграции, нет, скрытно и остро чувствовал ее Родиной в каком-то потаенном уголке закаленного недоверием и одиночеством сердца, – немного помнила спокойных времен, в столетиями копившейся истории исчисляла их не годами, а днями; даже если страна затихала в зыбком перемирии, в недрах ее тлели раздоры. Это закалило жителей, сделало их смелее и жесточе, наделило чутьем хищника; приучило ко всему, к чему привыкнуть кажется невозможным, и главное – к естественному страху смерти, который уже и страхом быть перестал, переплавившись в странную, злобно-обреченную готовность.
Но сейчас неотвратимо и смертельно, как горный обвал, надвигалась война почище полувековой Кавказской. Распрям последних лет предстояло померкнуть и сравниться с детской игрой в солдатики.
У него было русское имя – Владимир. И если существует затаенная в подсознании память предков, способная спорить с географическим понятием Родины, то именно она заставила его возвратиться в страну, некогда покинутую родителями.
Они с Россией долго привыкали друг к другу. Та встречала затяжными холодными зимами, колючим, как недоброжелательство, снегом, и, что выдержать оказалось труднее – тем, что врачи называют ксенофобией. Владимир изучал когда-то медицину и психологию, но эти познания были беспомощным грузом, знание причин неприязни еще не гарантирует ее преодоления.
К одиночеству он привык издавна – не с юности даже, а с дикого, мятущегося своего детства. Одиночество – мудрое состояние. Те, кто жалеют одиноких людей, как будто убогих – допускают, по незнанию своему, ошибку. Одиночество – это близость к искусству и к Богу, уединение с собственной душой.
К враждебности же нельзя было ни привыкнуть, ни оправдать ее. Впрочем, она скоро истерлась, как медная монета, усмирилась до всего только недоверчивости. Большего и желать не следовало.
Более всего в России он полюбил березы. Гордые и целомудренные, в темном шелке ветвей молчаливо стоящие на холмах и обочинах, как монашки, вышедшие к заутрене, они были живыми, с ними можно было говорить. Очертания же деревьев Чечни помнились резкими и дикими, словно состоящими из причудливых изломанных линий.
Решение пришло ослепительно и мгновенно – так молния раскалывает небо. Почти наощупь – бессознательно заопасавшись включать свет: окно представлялось бы с улицы мишенью – собрал рюкзак, оставил на кухонном столе деньги и короткую записку для неприветливой, чуть выживающей из ума старухи, у которой снимал жилье, тихо запер за собой тяжелую дверь и бесшумными волчьими шагами спустился по сонной лестнице.
Наступающее утро дышало холодом и тревогой. Сияющая страшная чаша солнца возносилась в блеклое небо, и человек, идущий навстречу ей по темному тротуару, знал: не минует она никого.
Там, на «первой Родине», были другие восходы. Поначалу различие это казалось ему странным: небо-то везде одно. Там день начинался душным багрово-рыжим маревом, сжигавшим ночь на огромном полотнище неба; и лишь после медленно выплывало тяжелое, словно бы задымленное солнце.
Через дорогу метнулась черная гибкая тень. Владимир не был суеверен, но сейчас тоска и страх, нагнетавшиеся в душе много часов, выплеснулись раздраженным окриком, разбудившим гулкое эхо между серыми скалами домов.
Животное вздрогнуло и остановилось, жалобно, с надрывом мяуча, и мужчина разглядел, что это даже не кот еще, а тощий большеглазый котенок, в чьем взгляде читался беспомощный упрек грубости человека.
Это Россия, не зловещая, какой представлялась оттуда, а загнанная и исстрадавшаяся, провожала того, кого за годы так и не решилась признать не чужим.
…Вокзалы угнетали его всегда. Ассоциировались с бездомностью или изгнанничеством – Владимир не облекал это чувство в слова, оно жило в нем на подсознательном, почти инстинктивном уровне и пробуждалось на вокзале.
Пахло именно вокзалом, кисловато и душно. Похожий на студента высокий парень и две женщины, утомленные жизнью настолько, что возраст их определить было нельзя, спали в жестких креслах, возле них толпились чемоданы. Они еще, конечно, не знали о войне. А если и знали бы – им было безразлично.
Снаружи по подоконнику, как капли серого дождя, прыгали воробьи. Тишина казалась невыносимой.
Мужчина нервно закурил, потом бросил недокуренную сигарету прямо на пол, даже не позаботившись ее загасить, подошел к кассе и спокойно взял билет на последний поезд. Он знал, что на последний. Что к вечеру объявят военное положение и все рейсы на Грозный отменят. Он должен был успеть.
Подмигивали, меняя ядовито-красные цифры, большие электронные часы над входом. Одна из женщин пошевелилась во сне и что-то неразборчиво прошептала. К оконному стеклу прилип заплаканный березовый листок, а в углу под потолком обитал безразличный к человеческой суете тонконогий коричневый паук. Всё здесь было таким привычным, таким обманчиво-успокаивающим, что на минуту Владимир усомнился в своих предчувствиях – полно, не принял ли он дурной сон за знамение?
Но знал – всё верно. Он дорого дал бы, чтобы избавиться от своего безошибочного и страшного дара, похожего на инстинкт коршуна, за много верст чующего гибель.
Мужчина вышел на оживающий от заспанной толпы перрон. Тонкие нити-лезвия рельсов,
нити кудесниц Мойр, пока не разорванные, уплывали куда-то за пределы взгляда. Холодный ветер таил запах дождя. В тишину вонзился протяжный гудок подходящего поезда.
Поезд был безобразен, уродлив сам по себе, как сказочное чудовище. Плацкартный вагон жил своей временной и суетливой жизнью. Проводница с равнодушным лицом и прокуренным голосом проверила билет, спросила нового пассажира, будет ли он брать постель и не желает ли чаю или кофе.
– Я не стану спать, – ответил он, не пытаясь ей улыбнуться. – И мне ничего не нужно.
Проводница заторопилась прочь. Она решила, что этот человек явно не в себе, и взгляд у него какой-то дикий, и вообще лучше бы он сошел на ближайшей станции.
Неуклюжая громада поезда медленно покатилась вперед – сначала бесшумно, только спустя несколько секунд мерный стук догнал движение.
Хотелось не думать ни о чем. Просто забыться.
Вместе с ранними сумерками в вагон прокрадывался озноб. День догорал, болезненно и безмолвно. Попутчики коротали время за игрой в карты. Русские с чеченцами: дорога скрадывает обычную отчужденность между людьми разных наций. Здесь пока еще не важно было, кто победит.
Вагон, предоставлявший каждому узкую казенную полку в общей тесноте и шуме, имел что-то общее с больницей и тюрьмой. С других полок долетали обрывки беспечных разговоров.
Высокий мужчина у окна неподвижно смотрел словно бы в пустоту или в память. В наступившем полумраке его смуглые черты казались еще резче. Даже в минуты тяжелой задумчивости в нем чувствовалась страшная грация хищника, готового к броску, и одновременно скованная неловкость движений, как будто он шел по бревнышку через пропасть.
Владимир с затаенной болью и совсем не бездумно смотрел в окно, где быстро сменялись затемненные кадры бесконечной киноленты. Он хотел напоследок запомнить этот мир – мирным. Зная, что ничего не может исправить. Так мать смотрит на умирающего ребенка.
А там остался позади черный блеск небольшой усталой речки, заарканенной мостом. Лес издали напоминал спящего дракона. Царила тишина. Хотелось открыть окно и впустить в вагонную затхлость грустный нежный запах осени. Но окно не открывалось.
Небо на востоке озарилось слабым розоватым свечением, словно к черной театральной ширме с той стороны поднесли свечу. Как раскаленная монета, округлая, чуть выщербленная с краю, медленно подымалась луна, багровая, словно отразившая отблеск пожара; вид ее сжимал душу тугими кольцами первобытного ужаса, но и не глядеть не было сил. Осколки темно-синих облаков таяли в ее ореоле. Она казалась жестоким знамением, эта страшная, окровавленная луна, бросающая с неба беззвучный упрек безумию всех, затеявших новую резню. Она, бессмертная, много войн повидала, от них и полнилась кровью.
II
Владимир давно приучил себя крайне мало спать. Отчасти в этом помогла ему врожденная физическая выносливость и склонность к аскетизму, в остальном взяла свое выработанная привычка. Мужчина знал, что во сне любой человек становится беззащитен – и перед окружающим миром, и перед собственным подсознанием. А он не смел себе позволить быть беззащитным.
Но сейчас он, если бы и хотел, не мог бы заставить себя уснуть. Оттого ночь тягостно длилась, поезд рассекал темноту, как шпага, но не умел ее одолеть.
Когда кончились долгие часы тьмы и зажегся удушливый день, легче не стало. Уже в восемь утра репродуктор ожил встревоженными, однако лаконичными сводками о начале военных действий. Страх мгновенной и цепкой волной прокатился по вагону, порождая где отчаяние, где злобу. Хрупкое, недолгое дорожное примирение наций рухнуло в одночасье, теперь в глазах людей читалась жгучая взаимная вражда, пассажиры держались порознь и подчеркнуто настороженно.
По мере приближения к Грозному вагон пустел. За окнами уныло тянулась седая предгорная степь.
«Зачем приехал?» – обожгла мысль. Владимир знал – воевать не будет, ни на чьей стороне. В миссии же миротворцев ему нравилось только слово, невольно и ошибочно наводящее на мысль, что эти люди действительно в силах восстановить мир.
Он не мог оставаться безучастным, наблюдать издали подлую и бессмысленную резню, которую его соплеменники по крови затеяли с его же соплеменниками по рождению. Зачем приехал? Он и сам не мог дать ответа, по крайней мере, укладывающегося в слова. Он должен был быть здесь, ежечасно чувствовать дыхание своей раненой земли, не затем, чтобы ее скудеющей древней силой поддерживать свой дух – напротив, ей, насколько возможно, передать скрытую в нем необъяснимую силу.
Беда чувствовалась во всем – и в безлюдьи кривых горных улочек, и в неприступных и притом таких беззащитных домах с плотно закрытыми ставнями, и в тяжелом, свинцовом небе, метафизической тяжестью нависшем над городом.
На вокзале проверяли документы и унизительно шарили в сумках. У Владимира не было оружия. Он не пытался противопоставить стозевной мощи войны какой-то пистолет или нож.
Предчувствие гибели, затаенное в городе, казалось едва ли не страшней будущих схваток.
Дорогу Владимир вспоминал без труда – интуитивно, как слепой, какою-то душевной ощупью. Откуда-то влачился удушливый запах дыма. На площади стоял хищный серый танк, нелепый, как из старой кинохроники. Около левой гусеницы, напоминая пятно крови, валялась раздавленная гвоздика. Откуда? И больше всех грядущих потерь, не мереных сотнями жизней, больше собственной судьбы Владимиру вдруг стало жаль этого маленького цветка. Такие гвоздики выращивала его мать.
За последним поворотом открылась улица в несколько домов, такая же гулко-вымершая, как все ее сестры. Покосившийся колодезный журавль казался надгробием. Будь у него крылья, как у настоящих журавлей, он давно покинул бы эту страшную землю. Что-то вонзилось в сознание тревожной непривычностью – не сразу мужчина понял, что именно. Заборы. Корявые, наспех сбитые, враждебные. Их никогда раньше не было. Здесь люди, соседствующие, принадлежащие к одному тейпу[11]11
тейп – несколько семей, берущих начало от одного рода.
[Закрыть], не отгораживались столь явно друг от друга.
Возле угрюмого, давно привыкшего к тишине родительского дома умерла яблоня.
Владимир помнил, что она цвела еще, из последних сил цвела в ту весну, когда он уезжал. В горных деревнях бытует поверье, что старые деревья высыхают от скорби. Эта яблоня пережила обоих хозяев, и даже тот, кого она помнила ребенком, бросил ее.
В щели крыльца пробивалась темная, жесткая трава. Окна были заколочены досками. Ржавый замок на двери пришлось сломать – он не желал впускать ключ. Дверь открылась неторопливо, глухо отклоняясь в пустоту. В доме было холодно и пахло погребом. Косой луч от двери робко вторгся в годами скопившийся сумрак.
В голых стенах жилья есть какая-то сирость, на них не хочется смотреть, словно дом раздели. В комнате осталась только высокая железная кровать, тяжелый сундук и старинная, потемневшая не от времени, наверное, а от людского осуждения икона Богородицы. Скорбный и женственный лик.
Мать никогда не пыталась спрятать ее, не скрывала своей веры. И те, кому случалось войти в дом, говорили потом, что Мария – ослушница, неугодная Аллаху. Отец несколько раз пытался уговорить ее убрать икону, но женщина, обычно послушная мужу и кроткая, здесь оказалась непреклонна.
Уезжая, Владимир хотел забрать икону. Но когда попытался снять ее со стены, глаза Девы блеснули немой обидой.
Тень вечера упала на селение. В сумерках силуэты и очертания не расплывались, напротив, становились темней и четче.
Резкой, птичьей походкой шла к колодцу высокая худая женщина в черном. Шаги ее не нарушали пустынной тишины. Молча она оперлась на журавль и недолго стояла так, потом наполнила ведро, блеснувшее вроде молодого месяца, и узкой тропинкой стала возвращаться к своему дому, иногда останавливаясь: ей трудно было справляться с тяжестью.
Владимир тихо приблизился к ней. Эта женщина была чуть моложе его матери, рано покинувшей землю.
– Мир твоему дому, Зухра, – произнес он на вайнахском наречии. – Позволь помочь.
Женщина остановилась. Она казалась великолепно выточенной из крепкого камня – незыблемо прямой стан, мужественное и древнее совершенство спокойных линий; Зухра придерживалась старых традиций – лицо ее скрывала чадра. Она не отводила от пришельца темного взгляда, полного ненависти, но ненависть эта была рождена не злобой, а болью.
– Ты приехал убивать нас, – глухим и спокойным голосом проговорила она, и не добавила больше ничего.
– Нет. Я приехал на Родину, – Владимир почувствовал, как сквозь сердце словно бы прошла тонкая игла. – Тебе не нужно меня бояться, Зухра. Я не хочу никого убивать.
Женщина пошла прочь, вода печально плескалась в ее большом ведре. Сиреневая осенняя темнота разъединила их.
III
Кто хоть однажды видел, как рушатся дома, никогда не забудет этого зрелища. Беззвучный крик разбитых окон тонет в реве падающих камней; мощное строение в единый миг подламывается, зияющий пролом стены на мгновение открывает приют чьего-то навсегда разрушенного быта, позволяя впечататься в испуганную память каким-то мирным обрывкам обстановки. Тут же всё обращается в безжизненную груду кирпича и досок, обнажается изувеченный остов дома, но и тот раскалывается, как мачта тонущего корабля; завеса пыли и дыма обволакивает строение – как закрывают обычно лицо покойника: это предел, за которым живым не дозволено видеть.
Над улицей метнулся скрежет тормозов, и машина, дернувшись, как нервная лошадь, остановилась в нескольких метрах от того, что еще час назад было жильем. Нужно было искать объездной путь – эта конкретная, бытовая мысль тщилась заглушить в сознании инстинктивный ужас.
«Там же люди были… Надо спасать тех, кто жив…» – давняя привычка сказалась без учета нынешних обстоятельств, и тут же Саша горько упрекнул себя за непоправимую наивность. Кому здесь эти люди нужны, кого заботят они и их дети. А он уже почти опаздывал к штабу. Парень снова завел свою колымагу и с трудом развернул ее, руки непозволительно дрожали. Разбитая дорога не позволяла ехать быстро, то одно, то другое колесо попадало в рытвины, и машину качало из стороны в сторону, словно бы она от страха ослепла. Это был тяжелый старый грузовик, требовавший управления умелого и жесткого. Водитель старался не думать о его и своей миссии.
Войну Саша знал только из книг и стариковских рассказов. И совершенно не хотел в ней участвовать. Понимал, что каждый, попадающий сюда, становится одновременно и мишенью, и палачом. В военкомате, не слишком надеясь, сказал, что не умеет стрелять. (Тогда уже призывали гражданских – жест отчаянья.) Поверили, как ни странно. На обучение времени не было – получил задание доставлять в военный штаб оружие со станции, куда оно поступало, как догадался позже, нелегально.
Но себя обмануть не смог, и Бога тоже. Он убивал, как любой солдат. Только чужими руками. Мысль, от которой удавалось спасаться днем, подступала безжалостной ночью – в часы, когда темнота и тишина не дают скрыться, обнажают душу до правды: не честней ли было бы посмотреть в глаза тому, на кого наводишь прицел? Он не знал, в чьи руки попадают автоматы, которые он перевозит, не знал, в чьих телах успокаиваются бесчисленные обоймы патронов. Но это спасительное незнание не освобождало его совести.
Он странен был на войне – растерянный, словно подросток, впервые утративший иллюзии. Высокий и тонкий, сероглазый, чуть взъерошенный. Однако наивная наружность скрывала умение выживать, такое, которое с годами могло бы стать цинизмом.
Вид разрушенного города был тягостен, хотя уже почти привычен. Война выжигает все эмоции: сперва страх, потом жалость, потом веру.
Вчера взорвали кинотеатр. Это было довольно далеко от уцелевшей дороги, но обочину искололи несколько крупных оплавившихся осколков матового стекла, – недавно на этом экране магическим образом оживали лица и голоса.
Природа создает хищников, и даже таких, кто может разодрать себе подобных; но ни одно живое существо не способно терзать и пожирать самое себя. Россия же, полтора века не имея географической границы с Чечней, жжет собственную землю.
Саша осторожно вел машину запутанными глухими переулками; за каждым углом и в каждом окне мог притаиться прицел, но, если хочешь избежать помешательства, об этом нельзя думать. В одном из дворов ему почудилось движение. Мгновенно – не понять, откуда – дорогу загородили трое мужчин в масках; водитель едва успел затормозить.
Один из незнакомцев что-то кричал на чужом языке, таком резком, что слова, при незнании значения, походили на острые камни. Жестами этот человек требовал выйти из машины.
«Они убьют меня» – появилась спокойная догадка. Парень открыл дверцу автомобиля. Уйти было невозможно: у двоих оказались автоматы.
– Документы, – потребовал захватчик с сильным акцентом. Липовая справка, где значилось, что он перевозит гуманитарную помощь, служила только для самоуспокоения: здешние люди не так глупы, чтобы верить. Но реакция чеченца была неожиданной.
– Ты – нам нужен, – немного успокоившись, произнес тот. – Я знать, в твоей машине оружие. Теперь другой штаб. Я показываю тебе, как ехать.
Минутное удивление сменилось гневом.
– Врешь. – Саша хотел выкрикнуть это слово, но потрясенный голос не слушался.
– Не врешь. Я знать пароль. Пароль – «беркут», – черная маска наверняка скрывала самодовольную ухмылку. – Пусти меня в машину и ехай, куда я скажу.
То, что сначала могло казаться недоразумением, вдруг стало, при всей чудовищности, ослепительно просто и понятно.
Разыгрывать патриотический водевиль с единственным возможным финалом не хотелось. Будь другое время и другая война, когда сражались действительно за Родину – выбор между геройской гибелью и постыдным выживанием был бы иным. Чувствуя жгучее унижение, Саша открыл вторую дверцу для непрошеного гостя, и мужчина с какою-то дикой грацией вскочил на сиденье. Остальные двое в ту же минуту молча скрылись в ближайшем подъезде.
Указания чеченца – тот говорил по-русски не только с трудом, но и с явной неприязнью, и часто призывал порывистые жесты на помощь словам, – водитель выполнял; он не знал этой дороги. Верно, не знал. Саша всегда запоминал любой путь и, однажды проехав, мог вспомнить через годы – прежде работал на «Скорой помощи». Он чувствовал дороги, словно живые нервы Земли.
– Я должен бы благодарить тебя, – в голосе чеченца странно переплетались насмешка, ненависть и раздумье. – Но я презираю вас, русских. Я презираю вас, потому что вы – продажные, – глаза его зло сверкнули сквозь прорези маски.
– Кто? – жестко выдерживая взгляд врага, спросил Саша. – Кто предал нас? – впрочем, он предполагал ответ. – Сериков, да?
– Не твой дело. Налево поверни.
Саша ненавидел себя за это трусливое подчинение. Он не хотел, чтобы с его невольной помощью русские убивали местных – но еще более не хотел, чтобы нохчи убивали русских.
Дорога, сузившаяся и лишившаяся надежности асфальта, привела к некогда недостроенному многоэтажному зданию. Солнце близилось к закату, и небо над жалкой рощей и злобным остовом дома было непозволительно красиво; в изменчивых клочьях облаков можно было угадать существа, коварные и враждебные.
– Здесь останови, – приказал чеченец. – Я позову людей.
Он ушел, возвратился быстро и не один. Несколько суетливых, грубых солдат в считанные минуты освободили кузов автомобиля от страшного груза.
– Ехай теперь, – обратился недавний спутник к Саше. – Дать бы денег, а понял – не возьмешь. Я знать людей. Ты не как все, ты другой. Ты не умеешь воевать…Ехай прочь! – прикрикнул мужчина, словно устыдившись своей откровенности.
IV
Не страх, не скорбь – Владимира мучило бессилие. Почти вовсе перестав спать, он долгими злыми ночами слышал гневные отголоски взрывов, где-то сотрясающих горячую землю и до камня, до праха рушащих людские построения. Звериная тоска гнала его прочь из дома, заставляя бесцельно и неустанно скитаться по опасному городу. Он не боялся. Гибель была повсюду, с земли и небес глядела, но около себя мужчина не чувствовал ее. А не боялся потому, что страх – это инстинкт жизни. Владимир устал жить, устал от долгих враждебных лет, потому страх смерти был ему просто непонятен.
Как-то, возвращаясь, он снова повстречал Зухру. Еще не приблизившись к ней, только разглядев издали силуэт возле ладного, ветшающего от одиночества дома, понял: беда.
Протяжный плач женщины вонзался в седую предвечернюю тишину. Так кричит птица над разрушенным гнездом. Временами судорожные рыдания или злые неразборчивые слова прерывали сонату скорби.
Повинуясь безотчетному порыву, Владимир подошел к ней, попытался обнять; воспаленные глаза женщины блеснули дико и неузнающе, она на миг отстранилась, отшатнулась, не смолкая; затем растерянно приникла к нему, руками охватила, как утопающий.
– Марата убили… Марата нет больше, – причитала она. С бедой кончается гордость: женщину не заботило, что чужой видит ее рыдающей и жалкой. Владимир чувствовал ее пронзительную дрожь – Зухра почти билась в его беспомощных объятиях.
Не прошло минуты, как она злобно оттолкнула его и принялась выкрикивать невыразимые проклятия русским, звала его врагом и безбожником и вопила, что ненавидит. Женщина была страшна в эти мгновения.
С криком, замершим на самой высокой ноте отчаяния, она вдруг повалилась на землю.
– Сына! Сына мне сохрани, Аллах! Мужа отнял, помилуй сына! Они говорят – война праведная, во имя Твое… Нет! Нет! Ты не был матерью, Аллах!
Владимир знал, что ей нужно выкричаться, и не останавливал ее. И не мог бросить одну – до того мига, когда Зухра вскочила и внезапно тихим, до дна вычерпавшим плач голосом сказала ему:
– Убей меня, чужак. Я не хочу больше жить. Убей меня.
Тогда он, не выказав боли, молча пошел прочь. Зухра кричала вслед, умоляла вернуться – ей страшно было остаться наедине с горем. Мужчина не обернулся и не замедлил шага.
Напряженная собранность зверя, изготовившегося к последнему, смертельному броску, чувствовалась в предвечерней улице. Всякое движение было прекращено, на перекрестке, дерзко беззащитные в своей вооруженной открытости, небольшой группой стояли чеченцы, встревожено и негромко что-то обсуждая, часто они озирались опасливо и зло. Владимир молча прошел мимо них. Они говорили на одном из редких старых диалектов; но почти все слова, даже искаженные в звучании, ему были непоправимо понятны.
Не мертвая броня площадей влекла его, не пыльная тишина обочин; мужчина ушел с дороги туда, где с неслышным шелестом никли поблекшие, словно бы сожженные травы, вблизи жилищ еще скудные. Скоро полуразоренные кварталы испуганных домов остались вдали, узкая затерянная тропа пошла в гору, а затем резко вниз.
Только спустившись к реке, ощущаешь, как душен и тяжел город. Угрюмый каменистый берег дышал горькой прохладой, вдаль от воды отступило молчание черной рощи, – в колючих переплетениях ветвей чудились древние письмена, но они таили не угрозу, а мольбу.
Как гордый дикий конь, попавший в людские узы, бился Терек, волны его, вдребезги растерзанные об острые камни ущелья, вспененными клочьями взметывались в замерший воздух, тревожно искрились, пронзенные последними лучами усталого солнца, и, разбитые, ежеминутно воскресали; в грозном рокоте бушующей воды, чутко прислушавшись, можно было различить и воинственный рев зверя, и тонкое всхлипывание ребенка. У берега вода была безукоризненно прозрачна, неумолчные волны не мутили ее; казалось, властелин реки щедро и гневно бросает на мокрые камни пригоршни осколков хрусталя. Но за чертой взбешенного прибоя подступала внезапная чернота глубины; сколько ни гляди – гулкий холодный провал, ни очертаний дна, ни отражения неба.
Высокий, болезненно худой мужчина стремительной и осторожной походкой приблизился к реке, печальная тихая улыбка тронула его обветренные губы. Он долго стоял, завороженный дикой, злою красотой Терека, потом опустился на корточки, зачерпнул воды в ладони и медленно, будто совершая таинство, умылся.
Наподобие раската грома, зарождающегося где-то в затуманенной дали едва слышным рокотом, близящегося, чтобы наконец раскатиться мощным взрывом, нарастала и зрела в его душе особая тревога, предвещавшая жестокое внезапное сражение, каких в последние дни было довольно.