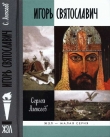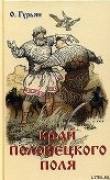Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
KWIAT PAPROCI
(z tomu)
Mistrzewi
Kwiat paproci
Kwiat paproci rozkwita w dłoni.
Kwiat paproci – to Boży ogień.
Potajemność ziemi і Rusi
kwiat gwiazdowy powiedzieć musi.
Gwiazda pada, jej boli życie.
Nie rozbije się, w ziemi zroście.
I zapłacze srebrna dzwonnica.
I rozkryje się kwiat paproci.
Ja wam dam potajemne słowo,
klucz do ziemi, do wiecznej prawdy.
W dłoniach Mawki – światło brzozowe —
kwiat paproci, jak zorza, jak rana.
Piolun
śiwy piolun,
gorzki piolun —
jak dym, śiwy,
jak łza, gorzki.
Jestem piolun,
gorzki piolun
na najskrytszych
ścieżkach wilckich.
* * *
Z jabłoni dzikiej wiatr rwie kwiat,
w łzach bursztynowych stoję sosny.
Ja szukam ten zgubiony świat
z drewnianym starożytnym słońcem.
Mineło większe śmierci łat,
jak błądzem zmarlymi ścieżkami
I szukam ten zgubiony świat,
gdzie dom zielony pod sosnami.
Pieśń dziewczyny
Gdy nastanie wiosna, jasna wiosna,
rano wzejdzie słońce już nie krwawe,
z nieba spadnie młoda biała gwiazda,
w chłodnej ziemi ciepłym kwiatem zroście
I przez mgly pokaże komuś drogu.
Gdy nastanie wiosna, jasna wiosna,
z ciężkiej bitwy wrocie moj kochany.
Znow zaśpiewa swoju pieśń łagodnu.
Znow on będzie ptakow karmić z dłoni,
dzikich ptakow і wiewiorek złotych.
Z ciężkiej bitwy wrocie moj kochany.
Moja pieśń, jak ta samotna gwiazda,
jemu chce przez mgly oswietlić drogu…
* * *
Senną trawą zroście nasza ścieżka,
tatarak z mojego sładu stanie.
Nasze słońce niby chmura ciężkie,
ale komuś serca nie poranie.
Ty nie pragniesz zemsty i pokuty.
Smutnu jesień, jak wiewiórku rudu,
z dłoni karmisz szczęścia wspomnieniami.
* * *
Nie wierzę rozłące. Nam dano spotkanie
na skrytej we mgłach poziomkowej polanie.
Zielony poranek przez drzewa nam świeci.
I jesteśmy sercem i usmiechem dzieci.
Las ma dobre oczy. To zwierze i drzewa.
Ten las na sto głosów weselnej nam śpiewa.
I śpiewa strumień, pod sosnami się chowa.
I świeci polana – ze snów – poziomkowa…
Zbieranie urodzaju
Mojemu dziadekowi Borisowi
Się opierłą o mocnu czereszniu,
jak o ojcowske ramiona.
A czerwiec podnosi liście,
niby żagiel zielony.
Nibo tak dziwne blisko —
mogłabym dotknąć dłonią.
Trzyma mi mądre drzewo,
jak ojcowske ramiona.
* * *
Czarnieje mi srebro,
śiwieją mi włosy.
Czas – jak nóż pod żebra.
Nie powrócisz łosu.
Niebo duszu ranie.
Życie – garstka ziemi.
Moja pieśń zostanie,
ona śmierci nie wie.
ZIELONY DOM
(z tomu)
* * *
Moj zielony dom
z oknem w dziwny las!
Tam gdzie gospodarz —
dobry czarodziej…
Czarnę nocę znow
szukam ścieżki tej.
Ale spada czas,
niby krew na śnieg.
Nie ma ścieżki tej,
nie znajduję dom!
Tylko stary pies,
miły rudy pies —
ach, psie łzy – na śnieg
I na moju dłoń!
* * *
Na ziołach krew —
to słońce spada w las,
jak złoty poraniony ptak.
To las za tobą płacze w smutny czas!
Tu każde drzewo, każdy krzak
pamięta ciebie і do ciebie woła.
Tu twoja ścieżka boli, boli…
Dzwon
Woła dzwon,
boli dzwon.
W lesie – czarnej nocy krok,
na dzwonnicu wschodzi cudzy,
na dzwonnicu wschodzi wrog!
Niby serce, woła dzwon.
Krwi nad lasem święty dzwon.
Rwie powrozow żyły dzwon.
Nad świętym ogniem
W drzeworytach zascigał czas
I odmieniał się na bezśmiercie.
Cicho śpiewał łagodny las
starożytnej wsi czarodziejskiej.
Żyli głosy srebrnysh gitar.
Żylo słońce na drzeworytach.
Święty ogień…
Zgubiony skarb,
mojej Rusi zlamane skrzydło.
Czarnym stał się mi biały świat!
Czarodziejski las nie powrocisz.
Śiwym wilkiem tam płacze wiatr —
obłąkanej pokuta Rusi.
* * *
Jarzębinowa krew
po kropli spada w okno
I dołu, w zapłakane ciche trawy.
Przychodzi czarny ptak jej pić.
Po kropli spada krew jarzębinowa.
W zielony dom nie wrocie gospodarz.
O jarzębino, siostro jarzębino,
popłacz tu ze mną,
mojim bolem zaliej
rozbite okno…
* * *
Z jabłoni dzikiej wiatr rwie kwiat,
w łzach bursztynowych stoję sosny.
Ja szukam ten zgubiony świat
z drewnianym starożytnym słońcem.
Mineło większe śmierci łat,
jak błądzem zmarlymi ścieżkami
I szukam ten zgubiony świat,
gdzie dom zielony pod sosnami.
* * *
Ziemio moja, nóżem pokrajana,
krewna Rus, za Judyn grosz sprzedana!
W gniewie szumią sosny bursztynowe,
czarny wiatr do Boga niesie słowa:
czas mój, czas, stółecie obłąkane!
Święty ogień, jak wiewiórka ruda,
skoczy w dom, gdzie zamieszkali Judy.
* * *
Na białej dzwonnice
żałoba majowa.
Na strunach urwanych
muzyka i słowa.
Tam słońce sosnowe
ma usmiech dziecinny,
wkazuje nam drogu.
O świat czarodziejski,
w żałobie majowej
zabity bez winy!
Niech lesna modlitwa
odmienie się w bitwu!
Las śmierci nie wierze.
Niech drzewa-żołnierzy
powstają na wroga!
Nie oddam dzwonnicy,
nie oddam świętyni,
ojcówskiego progu!
В этом разделе мои стихи на славянских языках, польском и украинском. Правда, на украинском я писала очень мало, а вот в польском ощутила свое второе крыло.
Спомин
Була моя у лагiднiй покорi.
Була менi як непiзнаний свiт.
А яблука котилися, як зорi,
губилися у росянiй травi.
А ми збирали iх собi на щастя,
хмiльнi слiди ховали споришi.
Я тихо цiлував тво зап ястя,
шукав шляху до бiдноi душi.
Спомин кличе до саду старого.
Ти приходиш, як ангел, вночi.
Ми згубили вiд щастя ключi,
у минуле нема дороги.
I зимно, i душа не хоче миру,
а сон, як кiнь слiпий, верта назад.
Тодi блищав лиш мiсяць, як сокира,
а вже i справдi порубали сад.
О давня, я тебе не потривожу,
нема вже яблук в росянiй травi.
Як всiх нещасних в свiтi – Матiр Божа,
мене твiй образ береже довiк.
Матiнка
Матусю, свiтла берегине,
тобi вклонюся, мов святiй.
Душею я до тебе лину
крiзь терен буднiв i надiй.
Коли з життєвої розлуки
до тебе повернуся, мамо,
я поцiлую рiднi руки
смиренно, як iконку в храмi.
До дому рiдного, до матерi стежина
одна у серцi, як земна калина.
Моя пресвiтла, лагiдна матусю,
я на зорi за тебе Богу помолюся.
Там небо журавлями вишите
над домом, рiдним назавжди.
А весни облiтають вишнями
i зрiють лiт важкi плоди.
О мамо, я люблю i вiрю,
я повернуся, лиш чекай,
як журавлi знаходять сiрi
небесний шлях у рiдний край.
Львівське
Моїй сестрі Тіні
Місто Лева – поезія в камені,
зачаровані сиві віки.
Таємниця тужливої пам'яті
львівські роки вплітає в вінки.
Місто древнім Велесом всміхається.
Над соборами – осені дим.
І загублена молодість бавиться
левеням, наче день, золотим.
ПРОЗА
Горислава
I
Затаился Полоцк в ночи, как рысь. Тишина и темень, только где-то в дальних домах виднелись прищуренные желтые огни. Черное окно в оскале резной рамы уводило взгляд молодой княжны к небу, холодная комната сочувствовала ей. Долгие нынче ночи. По времени уж утро, а за окном всё та же сутемень. Долго, больно восходить солнцу.
Рогнеда стояла у окна, безучастно глядела на сонный город, на сутулые невидимые во мгле улицы. Расплелась мягкая коса цвета гречишного меда. И отчего-то очень зябли тонкие пальцы, всё согревала их дыханием.
Дверь всхлипнула и распахнулась, и ворвалось в залу чудное дикое существо, ростом в пояс Рогнеде, с гримасой фавна.
– Отец хочет видеть тебя, – создание важно поклонилось своей юной госпоже, при этом едва устояв на хлипких ногах. Это был маленький шут Рогнеды, умный и преданный, подаренный ей отцом еще в детстве. Они росли вместе, и часто думалось Рогнеде о том, зачем на земле столько горя, несправедливого горя; почему она вот статной и здоровой родилась, княжной к тому же, а мальчику простолюдину судьба приделала горб и дурацкую гримасу, и собственная мать продала его на ярмарке за три гроша. Ваул был товарищем детских забав Рогнеды, она привязалась к нему, славному, родному, и с каждым годом меньше доверяла другим людям.
– В такую рань, – княжна состроила недовольную гримаску.
– Тебе не оттого грустно. И ты совсем не спала, Рогнеда, гляди – глаза красные. Коль не будешь спать ночью, сгорбишься и станешь, как я.
– Да хорошо бы, – зло сказала Рогнеда. – Тогда бы, может, не шли за меня торги. Ваул, Ваул мой… Продают твою княжну, как кобылицу.
– Меня возьми с собой, когда замуж пойдешь. Пригожусь. А если муж злой случится, я тебя защищать буду.
– Замуж?! Вот я тебя, – в шута полетела расшитая подушка. Смех оборвался, замер, стал комом в горле.
За окном вставал холодный, мутный рассвет.
– Отец звал тебя, Рогнеда, – напомнил Ваул.
Они шли бесконечными замковыми коридорами, на стенах рвались и трепетали огромные тени от канделябра в узловатых руках горбуна, и под высокими потолками металось гулкое эхо их шагов. Вот тяжкая дубовая дверь родительской залы.
Рогнеда вошла и поклонилась.
– Ты звал меня, отец.
Полоцкий князь Рогволод был стар, лицо его изрезали морщины, как потемнелый разбитый валун, а вот глаза остались живыми, цепкими. Некогда мощный, теперь отяжелел и поседел, но осанка, выправка воина, крупные крепкие руки выдавали былую силу. Смолоду лихим был, но ни княжество, ни золото не радовали его, пока не родились долгожданные, поздние дети. Кажется, должен бы сына любить крепче – наследник, мужчина, продолжатель рода; а против воли сердце тянулось к дочке. Лицом и станом Рогнеда пошла в мать, тоненькую молчаливую северянку, один из боевых трофеев молодого Рогволода; а нравом незнамо чья.
– Ярополк князь Руси. Объединив наши земли, многого добьемся, – величаво заговорил Рогволод. – Эх, да что бабе толковать, – досадливо махнул он рукой. – Всё одно ведь пора, дочка, твою долю устраивать. Братец его незаконный, рабынич, сватался, я прогнал к чертям поганым.
– От моего имени, отец? – взгляд Рогнеды полоснул, как лезвие. – Благодарю за честь и уважение. Продать меня решил, как племенную кобылу, за кусок земли. Чтоб тебе ее наесться, земли, – нечаянно, с отчаяния сорвалось проклятие, сама испугалась, зажала себе ладошкой рот. – Прости.
Царства безжалостны. Ты слишком молода, девочка с золотой косой, чтобы понять это. Отец знает. И твой шут знает. Ты лишь разменная монетка в судьбе державы.
И вовек не докажешь, что не говорила тех слов, которые вложены тебе в уста и, переданные от твоего имени, разожгут кровавую свару; потом и в летописи легко ложится ложь, чтобы и перед потомками стала ты чужая и окаянная, и маска злобной спеси скрыла твое молодое усталое лицо…
А назавтра горел Полоцк. Огонь вздымался над холмами, как будто стаи небывалых рыжих птиц, с диким клекотом, с шумом чудовищных крыльев. А вместе с клочьями черного дыма полз страх, инстинктивный, звериный, не оставляющий места ни рассудку, ни спасению.
Затрещали и рухнули кованые двери, и створчатые окна разлетелись, испуганно звеня. Простой, привычный с колыбели мирок не жил больше, и краснокаменный замок, впуская ватагу воинов русичей, стонал и хрипло плакал каждой жилкой, каждым камнем, содрогаясь под их тяжкими, как конский топот, шагами. Рогнеда успела увидеть, как брат дрался с двоими, дрался люто, по-мужски, по-медвежьи, – на том самом месте жилья, где когда-то сделал первые шаги, – и упал мертвый, заливая кровью потемневший пол.
Один человек смотрелся чужим в грубой, ошалелой орде. Весь как напряженный нерв, как туго, до смертного предела натянутая тетива. Его отрешенный взгляд царил над безобразной бойней. Он был высок ростом и статен, одеждой же не отличался от прочих. Княжна бессознательно бросилась к нему. Спаси, прикрой от хищного лязга клинков, от огня, от смерти, корчащейся повсюду.
– Ярополково войско, да? – она говорила на славянском наречии, словно ступала по краю ущелья – с пугливой старательностью.
– Нет, – юноша засмеялся болезненным, надрывным смехом. – Я князь Владимир. Запомни мое имя.
Заломил ей тонкие, детские запястья с проступающими голубыми венами.
– А ну там, – крикнул на дружину, как на борзых собак. – Вышли все прочь. Ждать снаружи.
Рогнеда вспоминала о кинжале, своем прекрасном востром кинжале с бегущею серебряной волчицей, вытиснутой на рукояти. Оружие отняли. Да и не смогла бы, наверное, воспользоваться им, вонзить острие в живую плоть. Даже защищаясь.
В том, что произошло с ними, было больше отчаяния, исступления, чем нежности, предусмотренной Богом для мужчины и женщины. Владимир жаждал ее так, как загнанный волк жаждет жить. Сцеловывал соленые слезы с глаз, лица, с хрупких озябших плеч, когда лежала она на полу, как смятый цветок, и не было почему-то в ней злобы к нему.
– Любимая, – прошептал Владимир нежданно для себя и бережно поднял Рогнеду на руки. Кожа ее пахла так, как пахнет степь на изломе летнего дня – зверобоем, полынью, горькими пьянящими травами. Вынес за порог, и там его ударил по глазам свет догорающего дня. Дружина хлестнула было их пошлыми шуточками, но тут же и умолкли от единственного княжеского взгляда.
– Подожди… Проститься…
– Не надо, девочка моя. Там никого не осталось. Прости… Если только можно это простить.
– Пусти меня.
Отпустил. Она вошла, шатаясь, в пустой дверной проем, побрела по затоптанным коридорам.
– Вздумает запираться – выкурим, как лисицу из норы, – усмехнулся широкоплечий юноша с хорошим, простоватым русским лицом. – А хороша. За такую полземли сжечь не жалко.
– Молчи, Путята.
Прощалась Рогнеда. С разоренным домом, с обломками юности. Но больше ни слезинки. Сжала губы, почти до крови.
Мать лежала на пороге опочивальни. С мученическим оскалом, в разодранных льняных юбках. Когда-то молодость и женская судьба ее началась так же, как нынче Рогнедина, но за годы никто не слыхал от нее ни злобного, ни жалобного слова.
– Прости, – Рогнеда опустилась на колени и поцеловала холодные веки матери. – Я буду достойной твоей дочерью, клянусь.
Рогволода дочь больше не видела. Может быть, его отволокли и сбросили в реку. Выходя, едва не споткнулась о еще одно тело. Шут скорчился на каменном полу, как пес. Он был еще жив, темная пена клокотала на больших бесформенных губах.
– Ваул, милый мой! Найду лекаря, тебя спасут… Тебя-то за что…
Паяц приподнял огромную голову и в последний раз улыбнулся Рогнеде.
– Я защищал тебя, моя маленькая госпожа.
Тут ей не плакать захотелось, а запрокинуться и выть, пока горло разорвется.
Вышла на крыльцо спокойная.
– Владимир, вели похоронить мою семью с честью, – обратилась к нему как равная, княгиня, не как пленница и поруганная девка. – Мать и брата, я не знаю, что стало с отцом. И Ваула тоже похорони с честью.
– Какого еще Ваула?
– Горбун. Шут. Пусть его похоронят так, как будто еще одного моего брата. Он мне и был как брат. И поехали, умоляю, поехали отсюда скорее. Куда угодно.
– Седлайте нам вороную, – устало распорядился князь. – И погребением займитесь, как велено.
Сквозь воспаленные веки горячим маревом сочилось солнце… Медленно шел княжеский обоз в обратный путь. Тряска на лютых дорожных выбоинах, крепкий запах ясеневой доски, но боль застила сознание Рогнеды, она не помнила, куда везут ее, широкая повозка качалась, как младенческая зыбка. Росинки пота холодили виски, Рогнеду бросало в дрожь, и кто-то бережно укрывал ее душным волчьим мехом, судорожно кутал в седую полсть. Лихорадка у ней началась со второго дня пути. Когда-то малой девочкой Рогнеду затянуло на реке в воронку дурного омута – только всплеск, радужные искры вспыхнули перед глазами, и дальше чернота, забытье. По сей день не знала, каким чудом вырвалась. Так и нынче тонула в омуте смерти, и невнятно снились лица и голоса ушедших, и солнечные искры, пляшшущие в водоворотах… А кто-то чужой и сильный держал за руку, упрямо тащил на белый берег.
– Кончается… Лебедь моя…
Владимир наклонился над нею, держал руку, где теплилась рваная ниточка пульса. Не хотел знать ни друзей, ни забав. Не скажешь ведь кому из верной дружины, что суровым, закаменелым в грызне за власть сердцем своим вдруг прирос к девке чужеродной, к одной из своих награбленных жемчужин, первой и единой. Умирать надо любимой, чтобы понял он, как она ему дорога.
– Поворачивай коней! – крикнул князь и со всей силою нелюдского отчаяния вытянул кнутом красивого тонконогого вороного. – В Каменцы! Я слыхал, там бабка знахарка.
– Да где они есть, твои Каменцы, – проворчал Добрыня, его разморило от солнца и усталости, а к смертям он на боевом веку своем привык. – Сколь живу, не знаю такого города.
– Маленькое сельцо, десять шагов – и все Каменцы. Отыщем. Скорее, родимые, скорее.
Миновали дикие поля, и миновали полегшую, стоптанную рожь. Владимир прислушивался к хриплому, затихающему дыханию девушки.
– Не умирай, слышишь, родная. Не умирай.
И отчаянно остро ощутил: нет, не всесилен он, не всевластен. Людям повелевает, и кланяются ему, новгородскому князю, хоть иные и черно ненавидят его; а ни жизни, ни смерти не может повелеть. И кого теперь заклинать, умоляя о помощи? Есть ведь горняя сила, познать бы ее. Давно знал, что в раскрашенных кусках дерева, возведенных на стогнах, нет Бога, это чернь можно заставить плясать вокруг них.
Не зная ни единого слова молитв, молча кричал в небо, умоляя оставить ему Рогнеду.
Вдали показались ветхие смоляные избы, выступив из белой стаи берез.
– Глядите, не сказывайте, кто мы, – велел Владимир. – Скажем, просто путники.
– Поверят, конечно, – невесело усмехнулся Добрыня, его родной дядька и добрый советник.
– Ничего. На лбу клейма нету.
Навстречу им вышла старуха, согбенная навечно в земном поклоне. А глаза у ней были молодые, пронзительно синие, насквозь душу проглядывающие, в солнечном венце морщинок.
– Что за лихо вас привело?
– Сказывают, в вашем селе живет бабка ведунья.
– Неужто. Ну, из каких дальних краев вы пожаловали к на волховать?
– Долго пояснять. Жена моя преставляется. Помоги.
– Коли так, пойдемте ко мне. Я и есть силой земной знахарка, Марфой меня кличут. Может, сумею пособить твоей молодой.
– Золотом заплачу, – сорвалось у князя, привык всё в жизни одною мерой мерить.
– Я силой земли-матери не торгую. Не надо твоего золота.
Смолистым духом, живицей, зверобоем пахнула теплая Марфина изба, двери были низкие – пришлось пригнуться, чтобы пройти. На узкое старушечье ложе положили молодую княжну в тяжелых и разорванных багряных шелках. Ее дыханье превратилось в хрип.
– Умрет? – спросил Владимир спокойно, он предпочитал глядеть правде в лицо.
– Потерпи, князюшка, здесь твоя власть не властвует. Отымем у тьмы ее.
– Откуда знаешь, кто я?
– Придумай еще что спросить. На всяку мудрость своя премудрость, – непонятно ответила бабка и захлопотала, собирая связки трав в широкий глиняный сосуд. Губы ее, иссохшие от старости, шевелились в беззвучном шепоте. В грубом очаге жил рыжий огонь и тихо вторил ей.
Владимир немного умел читать по губам, научил как-то глухонемой угрюмый варяг. Заговоры старой Марфы не походили на знакомые ему слова волхвов и зачаровывали непонятно, до дрожи.
– Какому Богу молишься, не пойму?
– Придет время, поймешь. Ты долго жить будешь. И все города державные, как коней норовливых, в одну повозку впряжешь. Ты сильный, удержишь. От тебя новая, великая Русь пойдет.
– Лесть говоришь, бабушка. Не княжити мне. Дали мне клок земли, Новгород, как псу безродному подачку, и всего только.
– Не зарекайся. Человек судьбы своей не знает. – Очень торжественно говорила знахарка, лицом посветлела, и даже будто бы распрямился стан ее, сгорбленный временем, что твое коромысло. – Да только через горе к тому придешь, тяжкий камень греха возьмешь на себя. Поржавеет от крови твой меч. От братской крови, князь.
– Добрый брат был у меня Олег, убили его, как оленя на охоте. А который остался, не брат мне.
– Не отрекайся. Родная кровь ведь.
– От меня вперед отреклись. Отец предал, братья так же. Чужак я. Вот всё, что мне осталось на свете – эта девочка, хоть я ее не любовью, а лютой силой взял. Спаси ее мне. Пускай сыновей родит. Тогда знать буду, что не напрасно жил. Зачем царство без сына.
– Спасу. А ты предашь ее. Не спорь, вижу. Боль свою утолишь на ней, потом предашь.
Невыносимо трудная задача – тревожить муть веков. Лавина клеветы, зарождаясь еще при жизни, со временем растет и крепнет, и через годы ничего не разобрать, перемешано всё, правда и домыслы, подвиг и преступление, любовь и ненависть.
Ярополка, проченного ей в мужья, Рогнеда увидела лишь однажды, почти накануне гибели его. Он оказался ростом неказист – не чета Владимиру, – а лицом, жестами, движениями, всем обликом братья были безжалостно схожи меж собою и походили на общего отца их. Держался Ярополк высокомерно и нелюдимо, похоже, от природы был скрытен и ожидал удара в спину.
«Брат мой – лихой враг мой», – припомнила Рогнеда слова Владимира. Где власть примешана, там не остается места родству.
Жалела Ярополка, как жалела бы любого убитого.
Самой ей было в киевских палатах неприютно. В делах государственных Рогнеда мало смыслила и не мешалась, но боярам и многим приближенным не по нраву пришлась, встречали ее заведомо, будто сделала она кому какое зло.
Прошла Рогнеда по самому краешку смерти и осталась жить. Что было с нею в пути из Полоцка, за какой край заглянула, она никогда никому не рассказывала; не доверила никому и того, что открыла ей ведунья.
Владимир рано устал от жизни. Еще отроком он приучился скрываться от людей, хотя и одиночеством тяготился. Вся жизнь – охота, пиры, наложницы, свершения державные – всё призвано было кое-как залатать жуткую и непонятную брешь в его судьбе.
Взял в жены Ярополкову гречанку. Ясно, с Рогнедой не сравнишь, да он и не хотел их сравнивать. В новой жене ценил дельный ум и страстное, опытное тело. А та – сострадающе нежная, податливая, как воск, чуткая девочка неполных четырнадцати лет, другой такой не будет.
Вечером Владимир навестил Рогнеду. В ее комнате горело множество свечей – ее пугали глазастые тени темноты.
Девушка разломила теплый хлеб – сама пекла.
– Удивительный хлеб… Сколь живу, не пробовал такого.
– Плохой? – по-бабьи встревожилась Рогнеда.
– Хороший. Очень.
– Оттого, что добрыми руками заделан. Ешь, не бойся. Не отравлю.
– Приворожишь. Колдунья степная… Может, ты вправду колдунья? У тебя глаза колдовские. То будто темные, а то вдруг как янтарь на просвет.
– Карие. Волчьи, – усмехнулась она. – А у гречанки твоей какие? Серые, верно?
– Врешь, у волков зеленые глаза. Я с девяти лет на волка ходил. С двух шагов стрелой…
– Не жаль было?
– Мне никого не жаль. Даже себя. А может, всех жаль, только без толку. Жалость – зряшная боль. Рогнеда, имя твое басурманское, язык изломать можно. Надо тебе хорошим русским именем зваться, зоренька моя.
Всё прошедшее: лихие страсти, чей век длился одну ночь; предательства и казни, и вечный злобный смех ему вослед, незаконному и странному; престол княжеский, оплаченный сполна кровавой данью, и верный меч его, обагренный по самую рукоять – всё это было мраком, мглою, точно копоть ночи застила его жизнь от самой юности, и вот теперь чистым предвечным светом восходила его заря. Думал, не бывает так. Вот подлинная ипостась Бога – Любовь. Не лживая, не звериная плотская. А та, за миг которой жизнь отдать можно.
– Зоренька моя, – повторил великий князь. – Зореславой будешь.
– Нет, не так… Горит, огнем горит душа у меня, родимый. Знаешь, как свечка в темноте. Хоть немножко осветить, согреть, а потом… Изгорела, и нет ее. Так и сердце мое для тебя… Гориславой зови меня.
С того дня звалась новым именем, а прирожденное никто ни разу не помянул больше. Умерла, сгинула Рогнеда, новая женщина родилась.
II
Невиданая метель разгулялась нынче на всем свету, завьюжила, запретила дороги, от края до края одна лишь неистовая снежная мгла, будто связала накрепко небо с землей, ни конному, ни пешему не пройти. Стучалась в окна, то с диким воем и блаженным хохотом, а то почти как музыка прорывалась или вдруг явственно слышался детский всхлип.
С такою дивной вьюгой вместо повитухи и родился на свет княжеский первенец.
Родила Горислава нежданно скоро и легко, без единого крика, только губы кусала до крови да судорожно вцеплялась руками в леденящие шелковые простыни.
– Не по добру это, – шипели прислужницы, девки, бабки. – Змеевна. Колдовка окаянная.
Благополучных родов никто не ждал; да и не принято, странно так – молча, повелось ведь испокон веков, что страдать положено бабе, еще ко всему первородке, рваться нужно было юному, не вполне созревшему ее телу, узкому гибкому стану, слишком тесному для дитя. И многим во дворце мечталось схоронить ее и сына. А родился Изяслав крепеньким, и сама Горислава лежала обессилевшая на подушках, но теплая улыбка светилась на лице ее.
Великий князь только к закату дня нашел время повидать роженицу и сына. С обычной для мужчины боязливой неловкостью Владимир взял новорожденного на руки. Ребенок зашелся тонким криком, и лишь возвращенный к матери, помалу успокоился.
– Богатырь, – ласково сказал отец, до кома в горле ощущая, какой родной ему этот светлоглазый крохотный малыш, родная плоть и кровь, первый и нежданный дар Всевышнего; и вдруг больно стало за свою перекошенную разгулом, незнамо куда несущуюся судьбу. – Жаль, бабка моя Ольга не дожила с правнуком потешиться. Больно ласкова до детей была. Считала, человек не подлый лет до трех только.
К ребенку пригласили кормилицу, немолодую, дородную; эта женщина вскормила пятнадцатерых собственных детей, из которых тринадцать остались живы, и скольких-то чужих.
– Не бывать такому, – заупрямилась Горислава. – Я мать! И поверьте, в груди моей достаточно молока. Не будет моих детей кормить чужая баба.
– Не срами князя! – набросилась ключница Рада, смуглая, красивая, с гортанно-невнятной речью нездеших мест. – Только девки-чернавки сами кормят своих щенков.
– Это не щенок, а ребенок. Заметьте, княжич. И верней всего, наследник княжества. Я вскормлю его. Мое право.
– Право княгини? – криво усмехнулась Рада.
– Нет. Право матери.
Горислава выросла в диколесьи, мглистый бор, подступавший чуть не к самым окнам родительского дома, был ей понятен и невраждебен. В престольном городе тосковала.
Под осень великий князь взял ее с собою и с боярами на охоту в Пущу. Жили в охотничьих бревенчатых домиках, прямо средь леса. Гориславе оставалось тогда месяца три до родов. Она не принимала участия в кровавой забаве егерей. Всё ходила ожидать любимого на реку, на деревянный причал. У причала на темной воде нервно дрожала лодка, как конь на привязи. За колдовскими соснами открывалась излучина медленной реки, сверкающей на солнце, как клинок. Пройдут века, а речка будет так же безучастно слушать еще чьи-нибудь песни и еще чье-нибудь горе.
Князь забывал ее за пиром и охотой, за войной или очередными распрями непростого, своевольного народа. Горислава ждала его, и ожидание давало ей силы жить.
В одно утро вышла она на причал затемно, по знобкой росе. Тревожно отчего-то было на сердце. Молчала и глядела в мутную даль, сминая в тонких пальцах колосок травы. Дитя в ней беспокоилось, толкалось.
– Ждешь?
Задумалась, не услыхала тихих, волчьих шагов его.
– Всегда тебя жду. И всегда буду.
– Не надо.
Страх и сострадание царапнули ей душу. Владимир был не прежним, нынче хмель исказил его облик, а может, и не хмель один, а начинавшийся недуг, коварная лихорадка, от которой в тот год много умерло в дружинах; по-матерински приметила Горислава его усталость и небрежность – длинные русые волосы спутались, глаза в болезненном венце темной тени.
– Что, очень берложный вид? – смеясь, спросил князь, читая ее огорченный взгляд. – Ничего, люби и таким.
– Люблю таким еще больней. Тяжкое твое бремя, родной.
– Еще тяжелей будет. Успеть бы хотя немногое. Нет нынче правды на Руси. И в людях правды нет почти.
Горислава вглядывалась в родные усталые черты, точно запоминала надолго, предчувствуя горькую разлуку. Приметила у него волевую, упрямую морщинку меж бровей. Недавно, кажется, только чуть намечалась, – с детства Владимир имел привычку хмуриться, глядя вдаль, – а теперь углубилась, резкой стала: беспощадный мастер Время.
Студеный ветер бросил в любящих горсть осиновых листьев, багряно-золотых, пронзенных заревыми лучами. Над зубчатой тиарой леса тишь разорвали трубы, возвещающие гон – бояре весело травили лисицу, а может быть, косулю.
Поднялись вятичи войною.
С этой тревожной вестью вошел в покои Гориславы старый воевода Незван, искалеченный в битве – он давно больше не сражался из-за старости и перебитой, хромой ноги, а лихое униженье свое топил в горьком хмелю.
– И что с того?
Молодая женщина кормила грудью младенца, сидя на своем широком ложе, теплый луч света осенял ее, и в ее лице, в мягком узоре губ была величайшая любовь и покой. В целом мире не могло быть для нее ничего и никого важнее маленького сына, припавшего к сосцу. Даже старый хромоногий воин невольно замер на пороге, залюбовавшись таинством. Горислава не вскрикнула стыдливо, не попыталась прикрыть грудь, не потупилась даже. Когда ты мать, грудь твоя принадлежит лишь ребенку, а не мужским взорам.
– И что с того? – спокойно повторила Горислава.
Так и было на земле от века, одно царство сжирало другое и воцарялось на том месте, как зоркий хищник; могло выжить, а могло в свою очередь быть поглощенным еще более сильным зверем.
– Всё княжество ваше не стоит того, чтобы у меня пропало молоко из груди. Вот и не тревожь меня зря.
– Не простила за Полоцк свой? – проницательно спросил Незван.
– Мне безразлично. Полоцк, русичи, вятичи – всё одна большая свара за клок земли и деньгу.
– Но великого князя могут в битве ранить, могут убить!
– С Владимиром ничего не случится злого. Пока я жива, любовь моя бережет его.
– Бабьи бредни, – сплюнул в сердцах Незван и вышел прочь.
Народца же того самонадеянного, вятичей, оказалась горстка, и мятеж их задавили скоро.
Отрадой Гориславы были конные прогулки. В седле держаться она научилась лет пяти, как не раньше, и часто слышала от близких укоры, дескать, тварей четвероногих больше жалуешь, чем людей.
– А с ними проще и надежней, – неизменно отвечала княжна. – Ни лошадь, ни собака никогда не предаст и не ударит в спину. В отличие от человека.
И теперь, когда подстерегала ее глухая тоска, Горислава шла на княжескую конюшню, седлала себе одну из лошадей и мчалась за околицы по мощным, молчаливым холмам киевским, к полудню достигала простодушных деревень и нетоптаных настойных лугов, и радовалась, что никто не может отыскать ее.
Одним утром навязалась к ней в спутницы Гала, жена Ярополка, горьким наследством перешедшая к брату его.
– Делить нам нечего, подруга, – усмехнулась гречанка. – У Владимира одна жена – власть.
Женщина эта рано и некрасиво начала стареть; одно богатство было у ней – необычайный, с мягкой шершавинкой голос, чарующий голос вкрадчивой хищницы. Горислава мир воспринимала больше слухом, чувством и ощупью, как чуткие слепцы; звуки и запахи запоминались ей больше, чем зримые образы. У самой Гориславы голос был девичий, замирающий на высоких нотах, который сравнивали иногда с плачем серебряного бубенца.