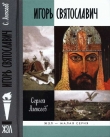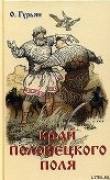Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Песни Гориславы
В.О.
1
Лебеди кричат,
вороны кричат,
небеса никак не поделят.
В темноту вонзится моя свеча.
На кострищах моих городов
я тебе присягаю, князь пресветлый.
На губах твоих горечь пепла —
твое войско спалило мой дом.
Лебеди кричат,
вороны кричат,
небеса никак не поделят.
Слишком много вместил ты в сердце —
удержал на ладони солнце,
и теперь обожжен навеки.
Твой народ стал моим народом.
Твоего я познала Бога.
Я и в горе останусь славна.
Не раба я тебе – жена.
Лишь под левою грудью ранка —
помяни-ка, хмельной народ, чужестранку.
Лебеди кричат,
вороны кричат,
и поныне небеса не поделят.
2
Рогнеда – это что за имя?
Звезда, упавшая в траву,
мелькнули конские стремена,
погасла искра на лету…
Как недобитую волчицу,
меня закинул на седло —
трофеем дивным похвалиться,
своею меткою стрелой.
Боишься показаться слабым,
поверить вздрогнувшей душе:
не скажешь ведь кому, что баба
дороже царства на земле.
Я буду первой и единой,
твою унявшей боль и грусть.
Рожу тебе, любимый, сына,
ты завещаешь ему Русь.
3
Бабья доля – что княгиня, что безродница,
всё один у сердца крик и зов.
Лишь Любовь нам зажигает солнце
через муть кровавую веков.
Бабья доля – вечно терпеливица.
Я преданней тебе, чем твой меч и конь.
Бабья доля вечно улыбается
назорянкой с нестареющих икон.
4
Тронулся лед, будто стая лебедей
на дальнюю сторону уплывала.
Ты позвал меня глядеть на приволье реки.
А река темнела, а река кричала.
Уносила река в морскую соленую пасть
жизнь старую, да Руси обломки.
Ты стреножил дикую кобылу – власть,
строил новь неблагодарным потомкам.
Плыли страсти-идолы, темнела река
да на своем языке что-то ворчала —
ей-то что, за свои века
и не то повидала.
И не раз взбухшей веной казалась река,
темно-красной от крови бросалась на стылый берег…
А нынче новый день из страданий рождался,
чтобы новому, единому Богу верить.
5
Меркнет мое солнце убиенное,
а я небо рву на лоскуты,
чтоб перевязать те раны страшные.
Наше небо в кровь зарей окрашено,
как над сердцем воина бинты.
Меркнет взгляд, синее неба ясного,
взгляд, державы повергавший в дрожь.
И слушают шуты сквозь темень окаянную
твой жаркий бред про счастье и про нож…
Но отступит лихорадка черная —
я вобрала знахарство земли.
В страшном торге с бездною незрячею
твоя жизнь на все века оплачена
силою моей земной любви.
6
И сказал, не повернув ко мне лица:
«Дам в мужья хоть воеводу, хоть боярина,
верной и страдавшей до конца
золотые горы дам в приданое».
Ты лучше своей рукою меня убей.
Я твоя – любовью лебедей.
Я пред тобою в страшном долгу.
Вот нож. Я уйти не могу.
7
Когда устанут псы, шуты и воины,
и мы с тобой останемся одни,
я буду гладить чуткою рукою
седеющие волосы твои.
Ты Бог и страх для всех. Суди и милуй,
швыряй в толпу им золото горстьми.
Ты князь для всех. А для меня – любимый,
болезный брат и непутевый сын.
ПРОЗА И СТИХИ ВОЕННОГО ЦИКЛА
I. НадеждаВремя… Пытаешься понять и не можешь. Что это за стихия, забирающая в темноту целые поколения с тем же равнодушием, с каким на полях жнут зрелые колосья, дабы посеять новые? Век прожив, не можешь осознать времени – пуще, чем в молодости, когда вовсе о том не думаешь.
Одна. Как дерево вырубленной рощи, последнее, глубокой памятью корней держащееся за выжженную землю эпохи. Одна.
Молодым почему-то кажется, что память стариков похожа на довоенный черно-белый фильм. Нет, память живет в красках и звуках, тогда как нынешний день беспомощно блекнет.
Надежда проснулась. Вернее, ей в болезненной мгле трудно было отличить сон от существованья, но старуха ощущала под собою кровать, а не сырую, дрожащую от близких взрывов землю, и слышала тишину, исполненную милосердия и тоски. Рука, иссохшая, как зимняя ветвь, ожила в медленном движении: Надежда крестилась. Лампадка под иконой в углу, наверное, давно погасла. Не разобрать было с нескольких шагов, старуха жила почти ощупью который уж год. Но чувствовала: погасла. Некому зажечь.
– Прости, Боженька, – прошептала она невнятно. – Не подымусь.
И снова дремота подкралась к старой женщине, убаюкала, как баюкала добрая чернокосая мама. Мама… Она такою близкой теперь казалась – давняя, молодая, и не умела Надежда понять, что скоро полвека мамы нет на свете.
Косой ливень огня. Словно рваное небо падает на землю. Боженька, смилуйся, смилуйся… Стонет боец, короткими сдерживаемыми вскриками, будто стыдно ему этого стона. А под собою чувствует Надежда колючую, продрогшую землю. Изнемогает – ни силушки, ни дыханья не хватает… Кусает обветренные губы. Ползет. И не пот, а чужая кровь струится, касается девичьего тела.
– Потерпи, родной, потерпи, – умоляет раненого, словно брат он ей, а ведь не знает, как кличут.
Рвется дикое ржанье, и прямо над лицом ее останавливается вороной тонконогий конь, склоняется умною взмыленной мордой с единственным глазом. Переступает бережно, даром что хром. Хозяин, всего верней, убит…
Перевязывает и чувствует, как мало в силах она сделать. Стать бы такою сильной, чтобы враз остановить войну – полудетские мечтанья семнадцатой весны… Да некогда мечтать – безногий, обожженный и раненый в грудь ждут помощи, у одного из них синие глаза холодеют, становятся как стекло…
Привыкла к крикам, к развороченной плоти. Она не имела права на страх. И только маленький крестильный крестик знал, как замирало, как отчаянно колотилось сердце.
Ползла. Как тогда, ползла. Только теперь нужно было с узкой кровати слезть, нащупать корявую палку и постараться – все силы собрав, как на поле боя – добраться хотя бы до кухни. Всё трудней давался этот нехитрый путь. Жалко скрипели половицы. Из углов тянулась сырая, затхлая прохлада нежилой комнаты. Жизнь старухи угасала, истлевала – ее не хватало, чтобы теплить жилье.
Одна… В прошлые зимы – счет годам давно был утерян – приходила соседская дочурка, льнула к Надежде: «бабушка, бабушка…» Старуха нянчила, забавляла девочку, как умела, и прирастала, пригревалась ослабевшей душой. А потом Настюша с родителями уехала, и через коридор в ветхой коммунальной квартире поселились чужие люди.
Немощь тяготила Надежду. Всё стало ей чужим и постылым: и комната с низким потолком и чахлой геранью, и опустевший мир, где ни одного близкого человека не осталось, и собственное тело, жалкое и непослушное.
Иглами мелких снежинок бьет в лицо вьюга. Озябли, онемели руки, которыми столько страшной и святой работы сделано, а предстоит еще больше. Девушка надрывно кашляет. Хрупкая палатка – медицинский пункт. Бой в тридцати шагах, не дальше. Ползком – бесконечный путь, а на самом деле – непоправимо близко. У входа Надежда медлит. Боится, сама не поймет, чего.
Марья, подруга, выходит к ней с лицом странно тихим и строгим.
– Еще один, – обреченность, пронизанная участием, слышится в ее голосе.
– Нет, – бессознательно шепчет Надежда, бросаясь в палатку. Он на земле лежит. Коля, Николушка, Коленька…
Руки как чужие. Покорно бинтуют, бездумно вводят лекарство из последних запасов – руки привыкли, не знают, кто, а глаза обожжены непролившимися слезами.
Почему так? Почему незнакомых солдат вырывала у смерти, а его – не сумела?.. Никогда не будет ответа.
Двое копают яму. Трудно, со скрежетом подается мерзлая земля, седыми комьями отлетает. Глубоко не вырыть. С первой талой водой откроется могила…
– Коленька-а-а! – что-то жуткое, нечеловеческое слышится в этом тонком крике. Надежду держат под руки. Последняя мысль: вот Соня – счастливая… Соседка материна. Ей похоронка пришла, да так на диво скоро, что хоронить успела приехать. Счастливая – ее мужа по документам опознали, лица не было. И значит, можно верить и ждать, документы-то могли у любого оказаться… Можно верить.
Резанула горячая боль под сердцем.
Дальше, дальше уводит заблудившаяся память. Серебряный, душистый вечер, тонкий месяц повис над притихшей хатой. Бормочет сверчок, и испуганная сирень рвется в окно.
Сильные руки, пахнущие сенокосом, как-то по-новому смело обнимают, смело, но и робко, детски.
– Наденька, Надюшенька моя, Надежда…
– Не надо, – волнуется она, вспыхнув, как мак.
– Меня на войну забирают. – И эти слова объяснили всё. Перед безнадежным ужасом разлуки, могущей оказаться вечной, пошатнулись правила.
До зари, хмельные от тревожного счастья, вышли под звезды. А над соседней деревней стояло страшное зарево первого пожара.
– Коленька… – сейчас во сне Надежда разговаривает с ним. – У нас внуки уже были бы. Внуки…
Война убила их дитя. А Надежду судьба заставила выжить.
Тяжело опираясь на палку, Надежда нащупала ручку двери, давно не запирающейся на замок. Она выходила редко. Хлеб приносил неразговорчивый сосед.
А будущею осенью, вероятно, и вовсе не сможет подыматься… Одна. Как древнее дерево, усыхающее ветвь за ветвью. Приходит ночь и садится на ее кровать последнею гостьей. Страшно слушать тишину долгими, долгими ночами. Утро, долгожданное, Надежда чувствует – зренья только на то хватает, чтобы отличить свет от темноты. Что-то безысходно давит грудь – кажется, на людском языке это называется одиночеством. Не легче ли ее Николушке – он остался молодым и, главное, не узнал каменного, обыденного равнодушия людей, прячущегося только раз в году, к годовщине победы.
Время… Какою силой уносит оно поколения, смывает понемногу память? Война далека, свидетели ее уходят в Вечность, а молодые забывчивы. Истлеют, выгорят старые фото и документы. Время, вкрадчивое и неодолимое, возьмет свое.
Каждая из ступеней лестницы была как коварная скала. Прощупывая путь палкой, останавливаясь, Надежда спускалась на улицу, пока еще в силах была на то.
Ласкалось солнце, ластилось, только теплым, чуть розоватым светом проникая сквозь пелену мглы, подступившую к глазам. И солнце это показалось вдруг отголоском, осколком позабытого счастья, настолько давнего, что оно сном казалось.
Цвели сады, нежный запах цветенья плыл над суетливой улицей. Лик весны не изменился за десятилетия, прошедшие, как горький дым.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…
Неуверенный, надломленный старостью голос был слаб, не сразу, как больная птица, расправил крылья, заново учась полету.
Выходила на берег Надюша,
На высокий на берег крутой…
Коленька всегда нарочно пел – Надюша. На миг она показалась себе молодой, наяву увидев глиняную хату на берегу смирной речушки и себя на пороге – девочкою в полевом венке…
Выходила – песню заводила…
А песня оборвалась, растерянно и жалко: человек, проходивший мимо, как камнем, бросил в нее грубым насмешливым словом…
II. Военный ГоспитальПроселочную дорогу, истоптанную в слякоть, медленно заносил снег, мешаясь с копотью, еще теплой. Черные печные трубы высоко торчали из руин, и сожженные избы походили на скелеты чудовищных птиц. И солнце, тоже какое-то дымное, мутное, подымалось неохотно, как будто ему стыдно было восходить над бойней и неизбывным людским горем.
Это последнее, что он помнил. Амадей лежал, ему поземкой заносило лицо. И, кажется, снег уже перестал таять.
Шел третий год, а точнее – тридцатый месяц лютой войны.
Госпиталем служила контора сельсовета, чудом уцелевшая от бомбежек и ретивых пожаров, просторная, ладная, на совесть построенная. В окно стучался замерзший куст оснеженной сирени. Даже забор сохранился крепким. А неподалеку шли железнодорожные пути. Около них и нашли раненого.
Вдоль синеватых рельсов бродили птицы, меж западающих скользких шпал угрюмо искали какой-то поживы. Пути шли в гору, а внизу чернела и еще курилась горькими дымкАми деревня. Стояла яблоня, как покалеченная лошадь, сожженные ветви прикрыл снег, и дерево чутко вздрагивало на ветру, будто прислушиваясь, переступая, но не в силах будучи уйти, спастись. Здесь и лежал в снегу человек в несуразной старой одежде, гражданской. Птицы не боялись его, не считали за живого.
Война приучила Катерину не присматриваться к лицам.
– Эй, братишка, живой? – окликнула, привычно постаралась нащупать пульс на узком, неподатливом от холода запястьи, уловить дыхание.
Живой, похоже. Жалостно дернулись запекшиеся губы.
Медсестра со своею тяжелой извечной ношей проваливалась по колено в сугробы. Начавшийся буран бил по щекам, застил глаза.
– Тяжелый, черт, – хотелось ругнуться крепче, но сил не было и на то, доводилось рассчитывать – до упора, до последней силинки – чтоб только до госпиталя добраться. Тащила беспамятного на себе, и за ними на молодом, едва выпавшем снегу оставался широкий рваный след.
Раньше Катя думала, что матерятся только мужики. А война всё перековеркала на свой лад. Она и курила тайком – крепкую солдатскую махорку, и самокрутки свертывала резво. Лишь прятала лукавые искорки в глазах, когда Елагин, полевой хирург, принимался добродушно журить ее:
– Не девичье это дело, Катюша. Совсем хлопцем сделалась.
Косы она остригла – путались, мешали. Стрижка высветила что-то упрямое, резкое в молодом лице.
В больнице найденный открыл было неузнающие воспаленные глаза, вскрикнул. но тотчас же снова сорвался в беспамятство. Он был светловолос и тонок, не старше тридцати лет от роду. Документов не нашли, только обнаружилось в нагрудном кармане маленькое фото улыбающейся русой, светлоглазой девушки, симпатичной, разве что с чуть крупным ртом, но лицо от этого не грубым смотрелось, а трогательным. Невеста? Сестра?
У Амадея был разбит затылок. На снегу полустанка, где он лежал, жутким ореолом расплывался кровяной круг. Теперь вторые сутки он был в тихой горячке, лишь изредка хрипло вскрикивая неразборчиво и снова забываясь, затихая надолго.
Друзей у Амадея не было. Боялся заручаться дружбой, в войну дружба значит – одно горе на двоих, а горя ему своего довольно: брат убит, старуха мать умерла. Держался сам, как зверь-шатун.
В бреду настигали его путаные, неспокойные сны. Огонь, пожирающий село, пляшущий над неубранным полем, жаром хохочущий в лицо.
Обрывки детства снились – яблоневый сад; и как однажды по весне прошелся град, искристыми мощными камнями вмиг побил едва распустившиеся цветы яблонь. На мокрой черной земле дотаивали градины, лежали в слякоти рваные лепестки, а он, нескладный мальчишка, грозился кулаком холодному небу. Мать сильно жалела тогда сгубленного урожая.
А то вдруг снился Гитлер. Не совсем как живой обыкновенный человек снился – в образе малорослого, красноглазого чертика, исходящего своей фанатичной злобой, дергающегося, как паяц, с дурацким «Хайль!». Как стало, что у такой чертовой куклы в руках оказалась сила и власть послать миллионы людей на смерть?
Когда погиб брат, Амадей стал яростно мечтать: отличится, отслужится, может даже подвиг сподобится совершить, но только непременно достигнет таких высот воинских, чтоб фюрер лично его награждал орденом, из своих нервозных цепких рук. И тогда, оказавшись на расстоянии шага, свернет он этому Адольфу шею, как цыпленку.
Конечно, вслух о таких мечтах не скажешь.
Их было 12 человек в лазарете, этот тринадцатый.
Для тех, кто не застал этих лет, бессмысленно рассказывать о полевом госпитале. Рвали простыни на бинты, делили последнюю крошку. Но не было подлости, не было равнодушия.
Амадею досталась опустевшая койка. Накануне схоронили парня из Белоруссии, сердце не выдержало второй операции, да и где было зацепиться, удержаться жизни в раскуроченном осколками теле.
– Слабы людские знания, Катюша, – видя, как девчушка неловко удерживает слезы, заговорил с нею врач. Павел Елагин был совершенно седой, хотя ему едва исполнилось сорок. – Убивать научились, а спасать – не очень еще… Да что там, не плачь, моя хорошая, обо всех не наплачешься.
Под вечер оказалась у сестры свободная минутка, и Катерина устроилась за шатким некрашеным деревянным столом писать доброе письмо любимому. Чадила керосинка, в окно царапалась метель. Зябкий угловатый почерк ложился на желтые листы. «Родной мой, пишу и не знаю, где тебя солдатская судьба носит теперь, надеюсь на полевую почту… Бойцы раненые такие славные, по-доброму относятся ко мне и стесняются плакать, если даже очень больно. Я совсем привыкла к всей этой дикой боли и несправедливости, научилась тоже не плакать и, наверное, я теперь намного старше, чем кажусь по годам… Так мечтаю, чтобы война скорее закончилась, мы с тобой вернулись домой и поженились. У нас будут дети, сын и дочка…»
Ойкнула и стыдливо прикрыла письмо ладонью. Павел Иванович улыбнулся ей усталой, выстраданной улыбкой – дескать, не стану я читать девичьи секреты.
– Там этот, новый очнулся. Боюсь, набедокурили мы с тобой, Катерина.
– Что набедокурили? – чутко вскинулась девочка. – Плохо с ним?
– Живучий, осилит. Иди поговори сама.
Недобитый открыл глаза, от боли и лихорадки мутно-синие, точно как у только что прозревших котят. Рукой тревожно шарил подле себя, искал незнамо что. Колючая белесая щетина старила его, скрадывала черты лица.
разобрала Катя в его несвязном бормотании немецкие слова…
– Что? Ты немец? Дойч? как ты попал в деревню?
Вопросы были бессмысленные и сыпались, как дробь. Амадей устало прикрыл веки. Он хорошо понимал по-русски, просто трудно говорить было. Жажда жгла глотку.
Федор не спал ни ночью ни днем, молчал и лишь крепче стискивал зубы от боли. Правой ноги он уже лишился. А если пойдет заражение, мог лишиться и второй. Весной ему исполнялось 22 года.
Нынче днем он отказался от еды. Не так чтоб откровенно демонстративно, но понятно стало, что зреет в нем бессильный гнев, протест, который он ищет как выразить больней и действенней.
Павел был поражен тем, как добрые солнечно-карие глаза парня мгновенно превратились в две жгучих точки ненависти, впившихся в его лицо.
– Дай мне костыль, уйду. Не хочу оставаться в фашистском притоне.
– Не уйдешь, ты не долечился, – спокойно возразил Елагин. – Я врач. И я здесь завожу порядки. Лазарет – не фронт, здесь законы другие. Людские. Здесь нет понятия «враг», а есть раненые.
– Так переходи к фрицам в шпиталь, их нянчи! – голос Феди некрасиво сорвался. – Тебе хорошо рассуждать, не тебя немчура калекой оставила.
Сердце, привычное к беде, опять кольнул горький стыд, ничем не обоснованный и все же растравляющий, тяжкий: стыд перед убитыми за то, что жив, что они в холодной земле, а не я; и такой же стыд перед покалеченными за свою невредимость. Погибшие остаются нашей совестью.
– У него клейма на лбу не было, – заметил Павел, неприятно почувствовав, что начинает оправдываться. – Нашли человека без сознания, в гражданском. Да Бог с ним, через неделю выпишу на все четыре стороны и забудем.
– За неделю он нас всех перережет! – крикнул с соседней койки человек с забинтованным лицом.
– Не перережет. Ручаюсь.
– Написать командованию, – донесся еще чей-то глухой и резкий голос. – Неясно разве. Елагин наш сам фашистам продался. Хороший маневр.
– Сучонок, – не сдержался Павел. – Я из тебя четыре пули выковыривал.
– Четыре выковырнул, а одну всадил, зато наверняка.
Госпиталь расколола вражда.
Павел редко молился, но сейчас молча, отчаянно взывал к Богу, к последней надежде, когда люди озлобились, ополчились против него, и никак нельзя разобрать, чья правда. «Помоги, Боже, научи, что делать теперь…»
Амадею это слишком знакомо было. Когда ты живая мишень горькой вражды, ты неизбывно виноват, чужой, лишний, живое горе и зло для людей, которые рядом, и вот беда, не знаешь как оправдаться. Сжившись с ненавистью, озлобляешься крепче. Так и беги, как волк в облаве, по замкнутому страшному кругу вины, ненависти и боли. А потом лезешь сам, намеренно, под пулю и зачем-то выживаешь – видимо, не надо таких даже смерти, рано умирают ведь всегда лучшие.
Белое зимнее солнце рвалось в отпотевшие, прояснившиеся окна некогда бывшего сельсовета. Наступивший день казался хорошим, мирным, искрилась капелью разросшаяся сонная сирень. Словно и не грохотал в полутора верстах фронт, и не скалилась издали, за рельсами, мертвая сожженная деревня.
Русский солдат с забинтованным лицом чувствовал этот пронзительный снежный свет как боль, резанувшую по глазам. Он был «ходячий». Обожженный. Оттого и чуткий к малейшей несправедливости, фальши, чуткий и непримиримый, человек с сожженной кожей. Движения доставляли ем боль, но он поднялся и осторожно, как по ломкому льду, пошел по залитой светом холодной комнате госпиталя, дошел, сжимая в руке ножичек, до койки, на которой недавно умирал белорус.
Непонятно, спал ли Амадей или просто не хотел видеть комнаты, где всем враждебен. Но смерти он не боялся, потому что жить не хотел.
– Ты что… – Федя понял намерение обожженного.
– Тихо.
Каждый шаг – как сквозь лес жгучих игл.
И вот уже склонился, и рука с лезвием застыла над тонкой шеей с выпирающим кадыком. В бою проще. А здесь спорила совесть: безоружного все же…
Раньше, когда он был цел, в непростые минуты предательской хрупкой жилкой начинал биться нерв на щеке. Теперь нерв не выдаст больше.
– Самосуд, значит?! – крикнул вошедший хирург.
Нож вонзился ярким острием в немощеный глиняный пол. Обожженный отпрянул, как вспугнутый хищник, в его глазах металась ярость.
– Так по совести будет, – прохрипел он. Наклониться и поднять ножик не мог, и бессильная злоба огнем мучила его. – Сделали вместо госпиталя посмешище. Он нас убивал. И завтра убивать будет.
– Хорошо, что я не твой комдив, – жестко, не отводя взгляда, сказал Елагин. – Опирайся давай на меня, помогу вернуться на койку. Да опирайся, мститель, я же вижу, ты обессилел.
Амадей совсем не чувствовал своего тела, и это испугало его. Лучше бы лютая боль. Затягивало его, еще недавно сильного, в воронку беспамятства. Видел над собою беленый потолок и не мог вспомнить, как оказался в этой широкой комнате, остро пахнущей больницей. Помнил о вражде, и то не знал, откуда пошла она, а вот в лихорадочных сумасшедших снах то говорил с братом, то бежал по ломкому снегу навстречу малорослому красноглазому черту с агитплакатов и разряжал, разряжал в бесноватую гадину черный послушный автомат.
– Помрет немец, – говорил Елагин примирительно. – Крови потерял много. У него группа самая редкая, четвертая. Да все равно для него не раздобыли бы.
У Павла были большие, загрубелые руки, в мирной жизни, видимо, привычные к земле, к труду; лицо суровое, каждая морщинка – как резцом по камню.
– У меня тоже четвертая, – внезапно отозвался Федор, слышавший этот разговор. Долго молчал, решался, теребил медный крестик на суровой нити, и вот сказал, смело, искренне поднял лучистый неозлобленный взгляд. – Может, пригожусь.
– Ты это всерьез?..
– А что… – на губах юноши затеплилась робкая улыбка. – Его тоже мамка родила…