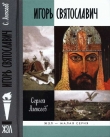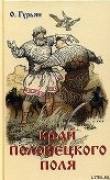Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Посвящается
Людям, которых судьба сломала,
Но прежде всего тем, кто сумел против нее выстоять.
Тем, с кем делили лихо, улицу и хлеб, вместе бедовали -
Они меня помнят.
Ваша Вантала
.
1
Что-то есть дивное в тех днях, когда ложится первый снег. Тогда легче поверить, что вправду когда-то на земле жили ангелы.
Только быстро снег никнет, мешается с грязью, рвется потемневшими лоскутами на обочинах дорог. Наверное, и с людьми так же… Рождаются-то все чистыми. А потом сгребет, перемелет жизнь.
Огромный город распластался, как чудовищный спрут, и жадно ловил, вглатывал этот тихий, пронзительно чистый снег. Блестели наперебой витрины, шли нескончаемым потоком автомобили, торопились прохожие. По другую сторону улицы был кабак. А старая церковка с кротким, незолоченым куполом казалась ненастоящей, сошедшей с рождественской открытки. Дверь была полуоткрыта, и видно, как в сумраке теплятся свечи; но до той двери – тонкая кованая калитка, десять шагов по мощеной дорожке… И путь, который ему никогда больше не пройти.
Человек, стоящий у церковной калитки, устало щурил воспаленные глаза. Он давно приучил себя не думать ни о чем: жив – и ладно. Хотя лучше бы не выжил.
Проходившие мимо пьяные парни зацепили его громкими насмешками. Сергей отвернулся, сжав зубы. Он боялся срываться в драку – знал, что может убить. Себя не помнил, видел Афган – как он убивал, как его убивали. Остыв, опомнившись, мучился, в кровь кусая губы: ведь не он же, а сам Бог дал человеку жизнь, а он с двух ударов мог отнять. Когда по приказу – другое дело. Не легче, нет. Просто выбирать не приходится. А на гражданке, самому, по своему почину, будто зверем стал… Боялся этого в себе.
Колька вспомнился, как живой перед глазами встал. Друг, почти братишка. Тогда, в горах, он первым заслышал нерусский стрекот автомата – и бросился вперед, захрипел, дернулся и стал падать; Сережа и сейчас помнил, как товарищ навалился на него, придавил к земле уже неживой тяжестью. Легче бы самому не подняться, не видеть, как больше чем друга, больше чем брата забросали землей и наспех наломанными ветками – даже могилы людской ему не было. Родным плакать над комком свинца.
Выжившим было не легче.
… Женщина в серой косынке вышла, чинно перекрестилась на церковь, нашла в кармане мелкую купюру и протянула Сергею с той суровой стыдливостью, с которой обычно подают нищим.
– Не надо денег, – нервно дернулся мужчина. – Хлеб если есть, дай.
– Нет, – растерянно улыбнулась прихожанка и поспешила прочь.
Стыда не было. Стыд выжигается первым. В придачу к клейму «афганец» получил другое, резче и весомей: зэк. Так Сергей обрел своих, звериную стаю, которая приняла его и ничем не попрекнула. Криминальный мир – как шкура волка: если издали, постороннему глядеть – страшно, противно; а по сути – с изнанки, где кровь – человечные, крепкие законы. Свои своих не бросают. А предателя просто убьют.
Улица жила своей суетливой жизнью. Зимой ночь наступает рано. Жег холод, город скалился сотнями огней.
Девочка показалась Сергею юродивой. Она остановилась и стала болезненно всматриваться.
Чужая женщина бросила горсть монет прямо на землю, под ноги нищему, и они раскатились, злорадно бряцая.
Спохватившись, девочка закопошилась в сумке, достала теплый душистый хлеб и, немного отломив для себя, остальное отдала мужчине.
Запах хлеба… И тепло, которое быстро выстудил ледяной ветер. Сергею показалось, что хлеб пахнет детством. Теплом деревенской печки, лаской вечно усталой матери. Думал, давно вытоптана в его сердце эта тоска, а она жива.
– У меня мама хлеб пекла… Не могу себе простить, жизни не могу простить, что мать без меня похоронили. Единственный родной человек, а меня рядом не было, когда она болела. Я сидел тогда. Не знал даже. Хоронили соседи.
– Она вас не навещала? – тихо спросила девочка.
– Я запретил. Не хотел, чтоб она видела меня в клетке, как зверя. Она плакала, когда приходила. И я сказал не ходить больше. Потому и не знал, когда она слегла.
– Как вас зовут?
– Все Серым зовут. Тебе, значит, буду дядя Сережа. Погоняла – Златоуст, так мой город родной называется. И не выкай мне, не надо. В тюрьме и на войне все на ты. Все свои. Если не враги, конечно.
– Не враги мы. Свои.
– А тебя как зовут?
– А зови как хочешь, – вдруг засмеялась девочка. – Все, кто по имени звали, только обижали.
– Интересно, – Сергей тоже засмеялся, смех оборвался надсадным кашлем. – Это церковь святой мученицы Варвары. Буду тебя Варей звать.
– Зови, – согласилась девочка.
Прижавшись к ограде, на них глядела рослая тощая собака, черная с подпалинами. Замечали вы когда-нибудь, что у бездомных псов – глаза ангелов?
– Пес, – позвала Варя шепотом, с такой замирающей отчаянной лаской, что у Сергея сжалось сердце, когда он услышал.
– Его Апостол зовут, – пояснил мужчина. – Околачивается возле церкви, вот и прозвали.
Варя опустилась на корточки и на ладони протягивала собаке свою долю хлеба. Пес взял еду бережно, девочке в руку ткнулась мягкая теплая морда. Снег почти не таял, блестел в жесткой шерсти мокрыми хлопьями.
Апостол всегда подходил к людям, доверчиво тыкался в руки, в полы пальто. Ждал Хозяина. Иногда казалось, будто чует родной запах, со всех лап бросался вдогонку. Но все люди были чужими.
Пес спокойно относился к молодой рыжей кошке, шнырявшей тут же, к птицам, подбирающим крошки. Чувствовал то, чего не понимают люди: Земля-то одна. Общая. Божья. И только одно по-настоящему страшно – озлобиться. Хоть человеку, хоть собаке.
Варя пришла и в следующий вечер, принесла нехитрой еды. Сама присела рядом, не обращая внимания на ядовитые взгляды прохожих. Апостол вертелся тут же, норовил лизаться в лицо.
– Я пришел с войны – никому не нужен, – Сергею хотелось рассказать свою судьбу, как только может хотеться сбросить невыносимо тяжелую ношу. – Жена предала, не стала ждать. Друг у меня один только был, убили его у меня на глазах. Завертелось… По пьянке вот сунулся в драку, не сообразил, что я же войной меченый, убить могу, падает планка.
Варя слушала без осуждения, без ханжеского страха.
– Тысячу раз хотел начать жизнь заново, по-человечески. Без жилья остался. На работу куда возьмут с таким прошлым. Живу, барахтаюсь как-то. Было, решил, что лучше такому не жить. Веришь, стрелялся. Из обреза. Недострелился. Хотя в Афгане в мазилах не ходил. Видно, не принял меня Бог.
– Значит, жить нужно. Всё еще можно исправить. У тебя есть дети?
– Сыну тринадцатый год. Я с ним не вижусь. Жена сказала – не нужен папа зэк.
– Живи ради сына. Придет время – он всё поймет не будет тебя осуждать.
– Дай Бог чтоб не пришло. Потому что чтобы понять, надо самому пройти. А я не хочу, чтобы у сына была такая судьба, как у меня.
Девочка молчала. Не то слезы, не то тающий снег разъедал ей глаза.
– Откуда ты такая взялась? Сейчас все бессердечные. В крайнем случае копейку кинут – подавись. А то вообще мимо. И глаза свинцовые.
– У меня любимый – художник. Он очень беззащитный перед жизнью. Оголенный нерв. Я и раньше всех жалела, но он научил меня еще острей чувствовать боль людскую. Я даже иногда глаза закрываю надолго, чтобы представить, как чувствуют себя слепые… Надо всем сострадать. Отдавать своей души частичку, как будто она безразмерная.
– Любишь его очень, да? Прямо сама вся светишься, как иконка, когда говоришь.
– Родной он мне. И за мужа, и за брата, и за сына.
– Ты молодая, Варенька, – произнес Сергей сочувственно, первый, кто понял душу ее; сказал так, как будто молодость – горькая болезнь.
Хотел сказать, да не решился, побоялся ранить. Прогонит он тебя. Я и сам не принял бы твоей жертвы, не ломал судьбы… Наверное, не понять мужчине, что любящей преданно женщине ты не в тягость любой, хоть даже ударит судьба болезнью или нищетой, вместе выстоять легче; а вот если прогонишь, навеки душу ей изломаешь.
– А что толку от моей жалости. Я даже не могу забрать эту собаку к себе. А он ждет. Как ребенок.
В карих глазах пса жили надежда и боль.
– Сейчас расскажу тебе, что никому не говорил, – Сергей пытался раскурить дрянную сигарету, а огонек всё погасал на ветру. – Я в молодости в Сибири был с одним старателем, он уже умер. Не умер – убили. Я знаю золотую жилу, про нее никто не знает. Хорошая такая жилка, крепкая. Хочу туда поехать, намыть золота. Не для корысти. Мне сейчас, чтобы жизнь человеческую начать, нужны деньги, без них как. Хотя с них все беды и начинаются, с денег. Никто это место не знает, вот поеду один, старательское дело знаю, руки, слава Богу, целы… Подняться хочу, понимаешь. Нельзя так дальше. А может, меня убьют за это самое золото, если кто узнает.
Совсем не казался матерым зверем этот невысокий усталый мужик с лицом, изрезанным морщинами, глубокими, как ножевые раны.
Город затаился в хищной ночи.
– Я тебя провожу немножко, – предложил Сергей. – Меня не бойся, я тебя не обижу. А другие могут, много всяких. Слишком много.
Горбатая улица шла вниз. Фонари казались жуткими, как виселицы. Пурга снежными иголками хлестала в лицо.
В одном квартале царствовали собаки. Одичалые, разных мастей, сгрудившиеся в бешеную свору. Завидев людей, они подняли хриплый лай в добрые двадцать глоток.
– Попробуем обойти, ну их к черту, – Сергей старался уберечь девочку. – Эти твари вроде меня, лиха хлебнули, тем же и отвечают.
Варя спокойно шла прямо на собак, что-то неразборчивое говорила им строго и ласково. Притихли чуть-чуть. Двое прошли мимо своры, псы хлестали себя тонкими хвостами по впалым бокам, но ни один не бросился.
– Ты что, колдунья? Или язык их знаешь? – усмехнулся бывший солдат.
– Меня никогда не обидят животные, – ответила Варя. – Только люди. Людей я боюсь. И знаю многих, кто будет рад, если меня зароют. А звери меня жалеют. И я их тоже.
Настал март. Черный городской асфальт обнажился в проталинах. Варя нашла знакомый переулок и добрую церковку напротив кабака.
– Извини, что долго не приходила, я болела.
Мужчина сидел на земле. Поднял на Варю тяжелый пьяный взгляд. Она села рядом, привычным свистом стала звать пса, к которому оба привязались.
– Можешь не свистеть. Здесь собачники были.
Варя сдавленно охнула. Как наяву увидела славную доверчивую морду, слезящиеся от мороза собачьи глаза. Непоправимость резанула по сердцу: никогда больше Апостол не возьмет у нее хлеб, не лизнет ладонь.
– Понимаешь, есть целые команды чистильщиков! – крикнул Сергей. – Собачники, менты – одинаково. Им платят деньги за то, что они очищают город от мрази. От бездомных собак и людей. Может, завтра я следом за Апостолом пойду. На меня ведь как на тварь смотрят. А я человек! Я совесть не продал и не пропил. Но теперь сам скоро забуду, что я человек…
2
К ноябрю стало ясно: в городе не выжить. В мутных лужах на асфальте отражалось продрогшее, жалкое небо. Всё студеней становились долгие ночи, всё голодней и опаснее дни. И так же равнодушно грохотали по городу автомобили, и отчаянной тоской убегали вдаль черновато блестящие узкие рельсы железной дороги, а меж колеями бродили иногда взъерошенные гадкие птицы с крепкими клювами и злыми глазами. Недобрая осень зажгла городские огни.
Вожак был сильный, нестарый пес серо-черной масти, с крепкими клыками и крепким духом, наполовину овчарка; остальных кровей, бежавших в нем, нельзя было угадать, может, даже волчья примесь имелась. Пес бежал по сумрачным окраинам нескладным, трудным бегом – левая передняя лапа еще в детстве была перебита и плохо срослась, но хроминка вовсе не уродовала мощного зверя.
На краю пустыря стояли две безобразные облезлые многоэтажки, в поздний час несколько окон теплилось в них. Вожак миновал стороной неприветливое людское жилье. Косой дождь подхлестнул его. Пес свернул в перелесок. Несколько тонких чахоточных берез, как белые свечки, тихо освещали мглистую ненастную ночь. Ветер обжег собачьи ноздри новым и радостным запахом, непохожим на городскую удушливую гарь.
Всем своим чутким звериным сердцем Вожак ненавидел город. Как будто очутился, загнанный облавой, внутри чудовищной огромной клетки. Людей избегал, на собачников был фартовый – они ни разу не заприметили его. Раздражали дрянные собачьи склоки, то и дело вспыхивающие из-за куска территории – поганой голодной улицы. Не одна бродячая псина носила отметки Вожаковых белых, как сахар, клыков. Но огрызался он инстинктивно, по горькой необходимости.
Вожак почувствовал вдруг усталость, тяжко ноющую во всех мускулах. Вгляделся зорко в темноту, но здесь она больше не была враждебной. Усталость была сильнее даже голода. Вожак лег на землю, чуть тронутую инеем, и вскоре перестал ощущать холод – местечко на земле согрелось от его тепла. Пес положил голову на лапы и блаженно уснул.
На Казанский вокзал залетел сизый голубь и бился под невыносимо высокими сводами.
Холодный зал ожидания был полупустым, люди дремали в окружении своих чемоданов, зябко сжимаясь, вынужденные привыкнуть к тяжелому духу вокзала. А где-то поезда, как волки в стылой зимней степи… Но есть еще и те, кому некуда ехать, некуда подеваться. Дежурная простуженным голосом беспрестанно объявляла чьи-то пути.
Жесткошерстная коричневая собака бродила между рядами кресел. Другая, покрупнее, черная, спала в углу около чуть живой батареи, рада и этому скупому теплу. Интересно, снятся ли собакам сны? А помнят ли они, как люди, свое детство? Помнят хозяев, которые предали их?
Пальму бросили щенком здесь, на трех вокзалах. Страшные дни пришли – сейчас и детей своих так выбрасывают, не то что животину.
Собаки, живущие при вокзалах, каждому умильно и отчаянно заглядывают в глаза.
А детдомовские дети к каждой незнакомой тете бросаются с вопросом: «Ты моя мама? Ты пришла забрать меня?»
Пальма рыскала среди равнодушных отъезжающих. Мальчишка хотел погладить, она отшатнулась. Бимка, ее молодой сын, напротив, ко всем ласкался, норовил лизнуть теплым языком. Несколько дней пес-подросток не показывался на вокзале. Пальма тосковала. На счастье или на беду ушел, нашел доброго хозяина или погиб – один Бог знает. Ведь кто, кроме Него, милосердного ко всем Своим тварям, ведет учет бесприютным собачьим, кошачьим жизням? Да и людским иногда тоже.
Старик Варфоломей покопошился в своей бесформенной и неопрятной сумке, достал хлеб, невесть где да как добытый, разломил, бросил собаке. Это был бездомный человек, седой как лунь, с воспаленными светлыми глазами.
– Эх ты, бедолага, – пожалел. – И ты бедолага, и я сам бедолага.
Вытащил флягу, налил в мятый пластиковый стаканчик мутную жидкость.
– Ну нет, собачка, этого тебе не дам, это гадость. Кушай хлеб.
А ночь ползла черной мухой по стеклу, медной стрелкой по циферблату исполинских часов.
– Не за себя больно, – старый Варфоломей чуть хмелел, но хмелел тихо, не скандально, всё сильней походя на юродивого. Он наклонился и бормотал, глядя в добрые собачьи глаза:
– Россия, мученица Русь… Очерствели душой люди. Это Русь нищая, слышишь, Русь бомжует. И во мне Ее лик, и в собаке бродячей – Ее лик…
После полуночи с вокзала выгоняют всех безбилетных. Варфоломей тяжело шел к выходу. Вслед за ним поднялась женщина, утратившая женский, да и вовсе человеческий облик, босая, в обносках, с искаженным и темным лицом, остекленелым взглядом. Никто из проводивших ее гадливыми или – изредка – сочувственными взглядами не знал, что в потайном кармашке нечистой кофты, под сердцем, она бережно прячет давнюю черно-белую фотографию, истертую, истасканную жизнью, как и она сама. С фотографии смеялась девочка лет трех со светлыми, льняными волосами.
Холод сразу пробрался под ветхий плащ, ночь ударила в лицо. В столице тысячи дорог, почти никак не перекрещивающихся меж собою. Есть у нее для всех отрада: и кабаки, и церкви престольные, и пустые забавы нового века, мертвые огни реклам, казино – кому что ближе; есть у нее припас и для бездомных – норы-подворотни, скамеечки в облетевших скверах, и даже подъезды не все еще ощерились хитрыми кодовыми замками, кое-где уцелели высокие лестницы и старенькие простецкие двери – вот уже и ночлег. Если хочешь выжить.
Варфоломей не хотел. Он лег наземь совсем близко от вокзала. Прислушался – казалось, что земля стонет. Шли чужие поезда. У старика потихоньку коченели пальцы. Рассвет он встретит юным и свободным, никто больше не унизит и не обидит его, не станет гнать, как приблудного пса… А слабое тело, что ж, пускай останется валяться здесь. Жаль, что не отпоют… Да перед Богом он и так оправдается. По правде жил, зла не делал никому, не отнимал чужого. А прожил как сумел. Кому его судить. Колючая поземка не таяла, запорашивая лицо старика, снег целовал незакрытые удивительно светлые глаза.
И видел издалека: под вечер палестинской деревней шел странник, босой, в белой рубахе, и взгляд его, добрый, лучистый, точно благословлял и согревал всех, кто шел навстречу; но близилась ночь, и ему негде было главы приклонить. Странник стучался робко в двери чужих жилищ, или молчание было ему ответом, или суровые лица и недобрые слова. А он устал и мечтал уже только лишь о том, чтобы добраться до чистого родника, попить воды и умыться – даже воды родниковой никто из сельчан не дал ему пить; за путником увязались две желтые тощие собаки, неприкаянные, как он сам, и он нежно гладил ладонью их холки и морды. Скоро наблюдавший заметил, что на рыжей каменистой земле от усталых, стертых ног путника остаются кровяные следы. И стучался, стучался допоздна во все двери, пока стали летать и кричать ночные птицы, и наконец в самой убогой лачуге дали ему ночлег.
«Ибо нищ и наг Я был, и замерзал, и вы не приютили Меня, жаждал, и вы не дали Мне пить».
Черная проказа века нашего – равнодушие. Болезнь души людской, которая страшнее самой злобы. Вот новое утро зазвенит трамваями, чужие пойдут мимо и будут попросту перешагивать лежащего на обочине человека.
Не надо тыкать пальцем в общество. Каждый в своем сердце посели искорку милосердия. Дающему воздастся и помогающему поможет Бог.
Вожак проснулся, когда белесая заря рваной тряпкой трепалась в небе над окраиной. Осторожно ступая, по своим же вчерашним следам, вернулся к последним жилым кварталам.
На свалке уже толклось несколько собак. Они было оскалились на пришлого, а маленькая, верткая песчаного цвета собачонка залилась тонким визгливым лаем. Вожак спокойно приподнял верхнюю губу, обнажая крепкие клыки, и издал глухой предупреждающий рык, говоривший: я не хочу драться и обижать вас, но постоять за себя могу. Псы присмирели, чуя его силу. Крупный кот тигровой масти фыркнул презрительно и вспрыгнул на высокий бак.
Часа не прошло, как по выбоинам брошенных дорог, бурьянными околицами, к западу от подлой Москвы, бежала свора в пять собак. Неровной, но сильной походкой вел их пес волчьей масти.
3
Зимой дачные поселки вымирают. Хрупкие покинутые домики глядели вдаль пронзительными сиротскими глазами. И только снег, чистый, нетоптаный, скрашивал пустоту этих безымянных, разбросанных по всхолмьям улиц, ложился на серые крыши, на заборы, жалел нагие ломкие ветви уснувших деревьев.
Девушка шла, проваливаясь в глубокий хрусткий снег. Из-под просторного пальто виднелась длинная черная юбка – в такой одежде ходят монахини. Но у монахинь не бывает таких изможденных, без возраста, лиц и опустошенных болью глаз, больше не карих, не золотых, не серых даже, а цвета остывшего пепла, цвета мертвой воды.
Дорога шла то в гору, то с горы. Тишина ошеломила пришлую: ни одной живой души. И недостроенные дома здесь казались руинами, а были и вправду старые руины, все под одной ношей одиночества и стужи.
Люди, лишенные крова и всяческих средств к жизни, тоже стараются держаться друг друга, как и звери, сбивающиеся в уличные стаи. Но Варя осталась одна. Никто не знал, куда исчез Сергей Златоуст, год не видала его, за это время сама оказалась выброшена из жизни, некуда, не к кому было вернуться ей; а старик Варфоломей вчера насмерть замерз на улице. Варя и себе выбрала бы его участь, если бы не новая жизнь, настойчиво бьющаяся в ней и ничем не виноватая. Последним советом чудной блаженный старик помог девушке: в городе сгинешь, езжай в деревню какую-нибудь – даст Бог, продержишься до весны.
Навстречу ей клубилась разношерстная одичалая свора. Девочка никогда не видала в глазах живого существа такого отчаянья, как у этих псов с выпирающими под тонкой шкурой ребрами. Варя опустилась на корточки, отбросила сумку с пожитками. Такие собаки могут впиться в глотку. Лютой болью горели их воспаленные зрачки. Варя спокойно протянула руку к стально-серому вожаку, он замер, рыча.
– Славный зверь, умный, сильный зверь, – заговорила она очень ласково. – Я не сделаю вам зла, собачки. Меня тоже предали, как вас. Ну, ну, тише. Лучше дружить будем.
Вожак отстранился с дороги, лег мирно.
Одна недостройка стояла обособленно в конце улицы. Красный кирпич смотрелся трогательно и уютно, и по крайней мере крыша от дождя и снега у этого домика имелась. Варя осторожно прошла в пустой дверной проем.
– Есть тут кто? – кликнула на всякий случай.
Глаза привыкли к наступающему сумраку, огляделась. Пола не было – земля, и в углу лежал продавленный зеленый матрац от дивана. В незастекленные окна уже лезла темнота. Здесь даже камин был до половины сложен, добрый очаг. Когда-то она мечтала о доме с камином.
Ребенок толкнулся упрямо и сильно. Что ж ты, родимый, так торопишься в неприветливый мир…
Спала Варя тревожно, мешал холод и безотчетный страх. Ни зверя, ни человека давно не боялась – те, кому нечего терять, не боятся.
В кошельке несколько белых монет с бессмертным двуглавым орлом и некрупная купюра с затасканным изображеньем храма. Зачем церкви печатают на деньгах, самое святое – на самом грязном и бесчеловечном. Варя прикидывала, на что можно поменять эту последнюю бумажку, на одну булку хлеба хватало, если цены не подняли, да и где искать здесь магазин.
Вскрикнула и согнулась – мощная, живая боль толчками пульсировала в теле. Чуть оправившись, разворошила сумку, но кроме своего домашнего платья, не нашла, что простелить.
К полудню Варя впала в забытье, не помня и зная ничего вокруг. А когда прояснялось, одно лишь было в сознании, в жилах, в сердце: стужа, беспощадная белая стужа, здесь никак не выжить ребеночку.
В хлеву Вифлеемском хоть тепло было, там край не знавший холодов, и теплое дыхание овец. А нашего сыночка кто спасет…
Резанула мысль: я плохая дочь, не заслужившая материнской любви – может, за это и решил наказать Бог, отнимая мое собственное дитя… Кричала и молилась: пощади. И в мареве бреда наплывало детство.
Лет двух от роду Варе все хотелось забраться на подоконник и посмотреть с высоты. Еще жив был дедушка, материн отец, он подсадил малышку, ей стало и интересно, и боязно, а он держал крепко и приговаривал: не бойся, я удержу… Совсем крохой себя помнила. Детские воспоминания ранили, не могла понять, когда же, в какой момент она стала для близких тварью. Невозможно вернуться к себе той, двухлетней на подоконнике, когда еще не предали ее, не хлестнули наотмашь: уходи.
Ледяную комнату озарил детский крик, Варя почти не различала света перед собою. Лихорадочные мысли: как обогреть… И пуповина… Зубами, что ли, перегрызть, как волчица…
Совсем неподалеку другая мать, звериная, страдала и тонко выла на белый свет. Рыжая собака, брошенная хозяевами на продрогшей даче, родила шестерых теплых слепых щенят на сене в сараюшке. Один за другим умирали ее детеныши, оттого что в ее дряблых, иссохших от голода сосцах не было ни капли молока. Только что она лизнула холодеющую мордочку последнего и заскулила жалобным криком. Поднялась и, шатаясь, побрела, не зная куда.
Подошла собака к краснокаменному домику. Не было здесь ни растопленного очага, ни пищи, но угадала присутствие человека, и услышала писк малыша. Запах крови, запах родов растревожил ее. Боль сгубленного материнства обратилась у нее в бесконечную нежность и сострадание. Она сунулась доверчивой мордой в руку матери, лежавшей без памяти, и легла с детенышем, закрыла его своим телом от холода.
В окно летели колючие снежинки. В дверном проеме показалась заснеженная морда Вожака. Он всё понял, подошел и тихо лег рядом.
Наступал новый день и требовал жизни, требовал слабеньким плачем ребенка, и этот звук придал Варе небывалые силы. Бродячие собаки спасли ее и новорожденного от Варфоломеевой участи. И если никому на свете не была нужна ее любовь и преданность, ее душа живая, то теперь, со вчерашнего дня, она стала нужна, необходима беспомощному родному созданию.
Полдня Варя бродила по пустому селу, аукая, как полоумная. Пока увидала на откосе сооружение, кое-как сколоченное из больших досок и напоминающее жилье. Под дверью валялась какая-то посуда, тряпки, – здесь ютилась жизнь. Варя долго стучалась.
– Что тебе? – дверь распахнула худая чеченка в мужском джемпере, в калошах на босу ногу. У нее были цепкие темно-смородиновые глаза и маленький шрамик над левой бровью.
– Помогите мне, пожалуйста. Я здесь недалеко живу пока… Мне некуда идти. Можно взять у вас немного еды? И молока. У меня денег мало, вот кольцо есть серебряное.
– Э, милая, где я тебе молока возьму. Беженцы мы. Сами нищие.
– У меня ребенок маленький. Новорожденный.
– Сейчас, погоди, – чеченка на минуту скрылась в хибаре и вынесла горячие картофелины в мундире и большой ломоть хлеба. – Возьми, покушай, у тебя молоко появится. Ты где оставила ребенка, с кем?
– Там, где живу сейчас. Там собаки, они его согревают. Мне долго ходить пришлось.
– С собаками? Ты сумасшедшая? Это собаки страшные, они убить могут, загрызть.
– Собаки не страшные, скорее люди страшные. Они не причинят нам вреда. Спасибо.
– Не надо твоих колец, – досадливо отмахнулась чеченка. – Слушай еще. Не живи как придется, приходи к нам. Потеснимся. Я знаю, как с дитем на улице. У меня младшему семь, дочке двенадцать. А старшему двадцать было бы, убили его. По годам тебе пара был бы. Ты приходи, помогу. Все под одним небом. В жизни так: мы добро делаем – нам добро возвращается. А зло будем делать – к нам зло возвращаться будет.
Варя попросила еще спичек. В роще набрала сухих веток, хотя руки скверно слушались, неподатливые от мороза и слабости.
Развела огонь в месте, предназначенном для камина. Чужие, ничейные стены хранили тепло. Рыжая собака ревниво оберегала логово и светло спящего детеныша. Мирно потрескивал огонь, белое солнце стояло над белым бескрайним снегом, и так хотелось не поддаваться больше ни горечи, ни озлоблению. Варе стало вдруг светло и покойно на сердце, она чувствовала, будто кто-то молится за нее, искренне, крепко молится.
– Выживем, родной, – поклялась она ребенку, впервые взявшему грудь.