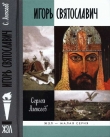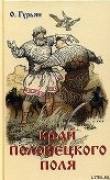Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Алфеев Иаков попытался заслонить учителя и выхватил из ножен крепкий меч.
Он был воин по духу и по крови, отважный Иаков. Он знал и закон Бога, и закон волка. Года не пройдет, как он погибнет от меча ненасытного старика Ирода в Иерусалиме, первым из апостолов, не считая предателя Искариота.
Тогда и Петр обнажил клинок и, как поминается в Евангелии, рассек ухо рабу первосвященника.
– Не надо, – покорно остановил их Иисус. – Не надо больше ничего.
Понукая и хлеща, как охромевшую лошадь, его всей толпою повели на подлый суд.
Варфоломей спешил. Пасхальную ночь он пробыл у больного старика. У него получилось усмирить боли, и старый человек уснул под утро. Варфоломей знал, что сострадание должно быть деятельным. От слов и слёз проку никому не будет. Вот и не остался он в праздник со всеми, а ушел к старику, нуждавшемуся в помощи.
А на рассвете явился гонец, запыхавшийся мальчишка, и сообщил, что Иисуса Назарянина схватила стража.
Варфоломей почти бежал гулкими, пустыми рассветными улицами, и сердце колотилось в такт шагам, дыхания не хватало, виски ломила единственная мысль: успеть. Он защитит Иисуса, докажет, что нет за ним никакой вины, почти без труда отобьет его у первосвященниковых воинов. Варфоломей ненавидел власть во всех ее проявлениях – кесаря, первосвященников, всех начальствующих с их повелительными криками, жадными глазам навыкате, и рабскую робость толпы пред ними. Мечтал, чтобы общество строилось на доверии и доброй воле. Упразднить, выбросить все заменители совести: начальство, деньги, пыльные свитки законов и орудия казни. А палачи пускай растят сады прекрасные.
Тяжело дыша, вошел Варфоломей в сад. Между деревьями неспешно, вперевалку шел толстый садовник.
– Здесь был Иисус Назорей. Скажи, прошу, где он сейчас. Мне сказали, его взяла стража.
– Ну была здесь заварушка какая-то с утра. Вон, всю клумбу цветочную истолкли. Влетит мне теперь.
Варфоломей едва сдержал порыв вцепиться в его ленивую равнодушную глотку и тряхнуть, как собака крысу.
– Где он сейчас? Куда его повели?
– А я почем знаю, – ответил садовник, давясь зевотой. – Не хватало мне следить за всякими.
Тяжелая дубовая дверь первосвященникова дома закрылась перед Петром. Он кричал, колотил в дверь кулаками, но никто не впустил его. Он пытался подслушать, что же там происходит, припав к стене, но мощная каменная кладка не пропускала наружу ни звука. Петр издали следовал за стражниками, уводившими Иисуса, хотел придумать, как внезапно напасть и освободить его, но один против толпы ничего не мог поделать. Решил ожидать на заднем дворе, обманывая себя надеждой.
На задний двор выходило одно окно, наглухо завешенное холстиной. Ночь едва просветлела, было холодно, и прислужники развели костер. Петр протянул к рыжему огню озябшие руки. Возле огня – круг света и тепла, и тем враждебнее казался темный холод улицы, тем труднее сделать шаг прочь от костра.
Петр мог бы поджечь дом Каиафы, отчетливо представил, как бросает в окно жаркую головню. Но что с того? Пламя быстро затопчут. Узнику уже не помочь.
Иисус жил еще, сносил униженья и боль, хотел еще жить и видеть солнце, а для близких его наступил горький покой, как будто он уже умер. Так люди оправдывают свое равнодушие. Так кажется легче.
Рассвело. К костру подошла старая служанка подбросить дров. Внимательно сощурясь, поглядела она в лицо Петра:
– Ты друг того, которого сегодня судят? Кажется, тебя видали с ним.
– Нет, – ответил он, не пряча глаз. – Я не знаю этого человека.
Когда она ушла, один из сидевших у огня усмехнулся:
– Зачем лжешь. Ты был с ним.
– Я не был с тем человеком и не знаю его. Разве я должен поклясться перед тобою?
Костер сердито зашипел, прогорая. Новое утро начиналось насмешливым, режущим барабанные перепонки петушиным криком.
5
Как пришибленный зверь, метался предатель по околицам. Слабость и страх гнали Иуду прочь от людских поселений. Вчера он люто хохотал пред всеми, а теперь боялся собственной горбатой тени и отзвука своих шагов. Он не искал оправданий своего поступка, ибо их нет и быть не может.
Хотелось лечь и завыть по-звериному в серое, тягостное небо. Весь город побежал глядеть на казнь, для них это хорошая забава. Последний хрип умирающего встречает одобрительное гиканье толпы. А глаза у них пустые, точно ямы.
Внезапно Иуда понял, зачем он шел в этот дикий перелесок, и для чего взял с собою тонкую прочную бечеву. Он остановился под иссохшим мертвым деревом, коряво нависающим над тропкой, и принялся мастерить затяжную петлю.
Знал: смерть всех оправдывает, кто не смог оправдаться жизнью. Смерть милосердна.
Иуда очень боялся боли, любой телесной боли, потому заколоть себя мечом не мог. Надеялся, что в петле промучается недолго. Он зацепил веревку за высокую ветвь дикой высохшей смоковницы, неловко влез в отверстие петли и закачался над нехоженой тропой. У него сразу переломился шейный позвонок, хребет оказался хрупкий, как у рыбы; долго страдать было бы ему слишком большою честью.
6
Потемневший крест вонзался в небо над горой. Страшная гора, точно выжженная, никогда ни травинки здесь не пробьется, – проклятое место!
Рядом с другого креста скалился разбойник, еще живой. Хотя б скорей пришли добить.
Двое римских солдат сняли тело Иисуса с креста. Сейчас они за ним вернутся. Магдалина обняла его, точно живого, еще хранило тепло израненное тело. Она бережно закрыла светлые страдальческие глаза, стерла кровь с лица. Не верила смерти.
Глаза ее налились болью, но терпела, закусив губы: нет, ни палачи, ни равнодушные зеваки не будут ее слезы пить, ни единой слезинки не даст им. Плакать можно наедине.
Солдат стражи с грубым окриком оттолкнул ее.
– Отойди прочь, – крикнула Мария. – Что вы хотите сделать, куда нести его?
– Где ты видала, женщина, чтобы распятых преступников погребали, как порядочных иудеев? В ров, куда же еще. Там собаки и шакалы хорошо позаботятся о нем.
– Не смейте. Вы убили его, и будьте прокляты за это. А теперь, после смерти, дайте ему покой.
Другой солдат, моложе и наглей, пытался заломить ей руки. Молодая женщина вырвалась, как рысь. Жалела сильно, что нет у ней ножа.
– Уйдите прочь, твари, проклятые стервятники, уйдите. Я сама похороню его, как подобает.
– Существует приказ кесаря!
– Мне дела нет до вашего кесаря. Посмейте еще раз прикоснуться к Иисусу, и я голыми руками убью вас двоих, а потом и вашего кесаря. Пошли прочь.
– Ладно, шаныка[14]14
шаныка – на одном из арамейских диалектов: блудница (ругательное)
[Закрыть], забирай его, – сплюнул сквозь зубы воин. – Власть свое дело сделала.
Когда Иоанн внес тело в низкую пещерку и рослые два римлянина из первосвященниковых людей подтащили каменную глыбу, чтобы закрыть вход, Магдалина рванулась. Не могла оставить его одного там в темноте, в холоде.
– Я останусь в могиле.
– Не юродствуй, – Иоанн оттащил ее, как упрямого ребенка, и вход в скальную пещеру закрыли, привалив огромным камнем. Слезы, горячие, как расплавленный воск, текли по лицу простоволосой женщины, падали на платье, на камень, на безучастную ржаво-красную землю.
– Родной, любовь сильнее смерти. Я отниму тебя у смерти. Ведь знаем тайну, пред которой бессильны все законы мира. Я тебя смерти не отдам.
* * *
Мария Магдалина очнулась, свет резанул по глазам. Она уснула ненадолго, обессиленная, на своем горьком посту.
Синел рассвет. Тяжелый камень был расколот, холодом обдало ее из пустой пещеры.
– Что ты ищешь живого среди мертвых.
В те далекие дни ангелы еще являлись людям. А может быть, не все они убиты и сейчас.
Мария обернулась. Иисус шел навстречу ей, она натолкнулась на светлый, почти безучастный его взгляд, исполненный неземного покоя. Он шел еще неверно, как слепой старик, холодный рассвет целовал запекшиеся раны. Он был живой, родной, почти такой, как прежде, только в посветлевших волосах Мария разглядела проседь.
– Здравствуй, – сказала женщина тихо, и в этот миг рванулось в небо огненное солнце, пропала ледяная тьма.
7
Мало-помалу глаза привыкли к темноте. Эта темнота укромной пещеры была живой, зрячей, но ни чуточки не злой. Она оберегала, защищала, лизалась в руки, как будто верная собака черной масти.
Симон по прозванью Кананит, восьмой ученик Христа, взял камень с острым краем и терпеливо стал высекать на неподатливой стене Новоафонской пещеры крест с расходящимися от него сияющими лучами солнца.
Иудеи прогнали его с позором. До сих пор при воспоминании об учиненной ими пустой собачьей сваре губы его кривила презрительная усмешка. Симон сказал им правду. «В вашем храме Бог не явился мне. Слишком много торга, суеты, своекорыстия, толкаетесь локтями за клочок места у алтаря, как будто не церковь, а базар. Где очень людно, там трудно появиться ангелу».
Он прошел пеший тысячи верст, сбился со счету, сколько раз восходило и заходило над ним вечное солнце.
На много дней оказался Симон один в зыбучих песках, видя только тень свою, дрожащую в желтом мареве, и свой неясный след, тотчас подернутый песком. Нечаянно он потревожил большую гибкую змею, пустынницу, не терпевшую в своих владениях чужих. Она бесшумно скользнула к Симону, он успел увидеть треугольную холодную голову с трепещущим раздвоенным языком, блестящие, как оникс, змеиные глаза. Изящная тварь почти безбольно коснулась щиколотки человека и ртутным ручейком утекла в пески.
С час еще апостол шел, как будто невредимый, потом нога опухла, и стало тяжело ступать. Кананит лег наземь, устало смежил раскаленные веки. Даже на молитву не оставалось сил.
– Вставай, – услышал строгий и бесконечно добрый голос, который не спутал бы ни с чьим другим на свете. – Перед тобой целебная травинка, приложи к ране. Еще не пришло твое время.
Симон сорвал неказистый стебелек с тонким узором листочков, проблескивающих на знойном солнце, хрупкую травку, Божьим велением проросшую в слепых песках. (Через несколько веков славянские знахари назовут эту былинку змеевицей, змеёвкой, ибо она заживляет укус змеи, убивает яд в крови).
К вечеру не осталось у него и рубца от ранки.
Когда же Симон достиг Новоафонских гор, постиг мечту и цель своих исканий. Заложить новое основание веры и преданности, приют, где можно было бы остаться и служить Богу.
– Так, Господи, я исполняю Твой завет. У Тебя не один путь, мирской подвиг не каждому по сердцу и по силам. Я заложу пристанище молитвы, веры и любви. И пойдут по свету монастыри, как негасимые свечи – дивные прибежища, силою молитвы освящающие самую землю, на которой возведены; в монастырях же смогут находить защиту и надежную опору гонимые, потерянные, покаянные, и те, у кого скорбь. Пусть моя часть в служении и не больше прочих – я хочу только, чтобы создалось подобие Небесного Царствия и на земле, в ваших городах.
Забытый меж апостолов, Фома, – тот самый, которому понадобилось ткнуть пальцем в незажившие раны, – разрушил много идолов языческих, но не нашел душе своей покоя.
Нынче он молился, преклонив колени, на чужой земле.
– Господи, прости всех, не имеющих сострадания, бегущих жалости. Прости убивших душу свою. Много таких меж людьми, и может быть еще больше. Пуще, чем палачей, прости бездушных: для них закрыто небо. Прости и пощади тех, в ком сердце – комок олова. И помилуй меня от участи таких.
Запела чуткая стрела, отпущенная тугою тетивой языческого лука. Стрела вонзилась в спину молящегося, пробила кость, коснулась сердца, оборвала жилки. Во время молитвы, с Божьим словом на устах, отучившихся неверствовать, умер Фома. Стрела осиновая не спрашивала, правду или ложь он говорит.
Эпилог
«Мы несем искры от великого огня всем, иззябшим и ослепшим в темноте. Огонь трудно нести, он жжет руки. И многие, привыкшие к своей тьме, воспротивятся. Вы можете прогнать нас, бить камнями, даже предать смерти. Но свет Божий всё равно озарит землю. Этих искр не затопчете.»
Так говорил Андрей Первозванный. Слова его не стерла Вечность: теплая искра, зароненная в живое сердце людское – бессмертна.
Многие принялись искажать Библию ради своей славы или наживы. Я никогда не стала бы этого делать; а то, что постаралась сквозь пелену времен разглядеть двенадцать обликов, характеров и судеб, не трафарет, а живого человека, жившего в те дни, – надеюсь, в этом нет греха.
Все апостолы приняли мученическую гибель, кроме одного лишь Иоанна Богослова. Для Бога нет мертвых.
Симон Петр стал первым епископом в Риме. Его правление и его гибель – особая великая и трудная история, о которой, впрочем, сейчас можно судить лишь по обрывкам легенд, перепутанным, как цветная тесьма.
Варфоломей проповедовал и гибель принял в древнем городе Альбане, носящем ныне имя Баку. Вечно неспокоен город трех религий, город войны и гения, неспокоен под рыжим небом Каспий, бьющийся в скалы, как загнанный конь. Он много помнит, Каспий… Наверное, помнит смуглого апостола, приходившего к нему, когда не знал, как докричаться до людей.
Знаю еще, что через двадцать веков возникла маленькая церковь на альбанской окраине, храм апостола Варфоломея; и вдохнул в нее душу, создавая на фресках росписи небесные лики, русский художник с безумным, жестоким талантом и очень трудной судьбой.
В. О.
Однажды мы проснемся от удивительного света, до краев, до горизонта захлестнувшего кишащий суетой бедный наш город. Подойдем к окну – утро резанет по глазам ошеломительной чистой белизной. Мы узнаем, что ночью пришел снег. И тогда, может быть, снова захочется жить…
1
Голос бился и звал, ему, давно надорванному и все-таки нечеловечески сильному, тесно было сумрачное прокуренное помещение. Голос чаровал, завораживал горькой нежностью – и тут же хлестал нагайкой. Странный и страшный талант был сильнее человека, наделенного им. Голос сжигал своего хозяина.
В зале прошло уже первое ошеломление и началось обычное отношение зрителей к поэту – потребительское: ублажай, развлекай. Человек, сидевший с гитарой на сцене в блеклом злорадном луче прожектора, был весь как напряженный нерв – высокий и тонкий, с резкими, странными движениями.
До него донесся возглас из зала:
– Спойте песню про смерть.
Наверное, только девочка заметила, как судорожно дернулся нерв у него на лице. Она сидела как чужая на скорбном празднике его вечера и нервно кусала губы.
Неловко, трудно вспоминая нужные аккорды, Ярослав тронул струны; его растерянной, совсем детской улыбкой потешался зал.
Сорвался на полуслове:
– Не могу…
Собравшиеся принялись подбадривать, упрашивать. Дорвались, шакалы – подумал Ярослав не со злостью, а лишь с нечеловеческой усталостью. А кто знает, выжил бы он без них? Пусть шакалы. Они ценят и любят его творчество. Хоть кому-то он остался нужен. Да какое им дело до того, что чувствует сам поэт. Полюбившуюся песню из глотки вырвут. Его болью и страстью, как водкой, зальют собственные страдания.
Вера почувствовала, кожей ощутила его замешательство и боль. Обернулась в зал, как в темную алчную яму:
– Не смейте его мучить. Поставьте дома кассету и крутите сколько угодно и что угодно. Ценители.
И – шепотом, мольбой, Ярославу:
– Пожалуйста, не надо смерти…
Артистическое кабаре помещалось на последнем этаже высотного дома, под самой крышей. Уходили по черной лестнице. Бесконечные темные пролеты, этажи, глухие ободранные двери чьих-то спящих квартир – все казалось каким-то нищим, гадким. Убийственные ступеньки – узкие, крошащиеся, они только и ждали неловкого шага; ступеньки-насмешники, ступеньки-иуды. Как в жутком сне, казалось, что выхода не будет никогда, винтовая длилась, скалилась все новыми этажами. Только когда стало душно и захотелось кричать, лестница сжалилась и открыла перед ними дверь.
Над Москвой стояла поздняя осенняя ночь. Над двором чуть покачивался старый фонарь, с неба срывалась какая-то муть, не то дождь, не то мокрый снег.
– Ты… лучше езжай, – сказал Ярослав. Вере больно бросилась в глаза его усталость.
Поймали такси, старую советскую таратайку.
– Сначала на вокзал, – велел Ярослав.
Приехали скоро. Город, как злобный шут, кривлялся огнями фонарей и реклам.
– Хочешь, я побуду с тобой до поезда?
– Спасибо… – Вера отчаянно держала, согревала его ладони. – Езжай домой, ты устал.
Оба тяготились прощаниями. Вера помнила, что он не любит вокзалы. Даже в малом боялась причинить ему страдание.
– С Богом, – сказал он ей, как говорил только самым родным людям, и осторожно перекрестил вслед.
– Я вернусь. Обещаю.
Вера вышла из машины, улица плюнула ей в лицо холодом и негромким бранчливым шумом ночного вокзала.
Она знала: человек, с которым судьба позволила ей быть рядом, ни на кого на свете не похож. Но – если вдруг он оттолкнет – всю жизнь она будет мучительно искать похожих на него. И знать, что не найдет никогда.
Бессознательно его жестом откинула волосы, падавшие на лицо.
Отчего, когда в нашем мире, с нами рядом появляется гений, мы не можем ему помочь, попросту не знаем, что делать. Он чужак. Он не играет по нашим правилам и не принимает наших ставок. Его начинают ненавидеть. На изломе жизни он учится ненавидеть в ответ.
А ведь ему, как всем, хотелось покоя и тепла. Не в стихах, а в любви излить бессмертную душу.
2
Родной мой, поздняя любовь всегда трудная. Она врывается в твою жизнь незваная, без вины виноватая. Давай всю тяжесть и боль я возьму себе – пусть тебе будет светло. Выстрадаю, не жалуясь, все, что положено выстрадать женщине.
…Вера ждала письма, звонка, вести. И это упорное скрытое ожидание незаметно подтачивало в ней жизнь. Никому ничего не говорила, никла с каждым днем, становилась совсем тихой: тихо ступала, тихо разговаривала, тихо угасала.
Хотелось в деревню, в добрый заброшенный дом, который помнил ее маленькой. К старым милым яблоням хотелось, к лесному шиповнику. А больше хотелось уехать, чтобы спрятаться, как будто умереть для всех, кто ее знал.
Потемневшая от дождей калитка глухо охнула, впуская ее. Дом стоял далеко от проселочной дороги и от соседских изб. С одной стороны ко двору подступал лес, дикая бузина склонилась отяжелевшими гроздьями прямо на забор, а там за прогалиной стояли вечные сосны.
Во дворе господствовала трава в пояс. Вера открыла двери, вошла – пахнуло холодной, затхлой нежилью. Девушка распахнула окна, в занавесках заплескался ветер. Дом ожил.
А когда стемнело, одиночество подступило комом к горлу. Без любимого ей всюду было больно и неприютно. Отчаянно хотелось – просто быть рядом, прижаться и оградить его от любой беды. Крепко-крепко прижаться и вдвоем слушать ночь.
Слишком поздно она появилась. Ярослав много пережил и утратил – и давно уже не хотел около себя никого, одиночеством своим надежно отгородился от жизни.
Не надо ничего. Он знал, что Вера уже наверняка вымечтала себе их жизнь, – и знал, что вынужден будет подломить ее иллюзию, как карточный домик. Уже сейчас, заранее, Ярослав испытывал боль от предстоящего расставания, а еще больнее и стыдно было оттого, что придется ее обидеть, ведь иначе не уйдет ни за что.
Город как-то поблек, обнищал на исходе осени. Как будто старел вместе с людьми. На углу базарной толкучки, мучительной и нелепой, похожей на разворошенный муравейник, Ярослав остановился. Среди дребедени житейской – подсвечников, бокалов заграничного сервиза, нескольких старых книжек, разложенных на линялом покрывале – увидел лик Иисуса. У Ярослава не было особого трепета перед иконами. А сейчас подумалось ему, что таким Христос был при жизни. Удивительное ощущение – будто не перед иконой, а перед живым Им стоишь, и Он смотрит тебе в глаза проницательно, строго и сочувственно.
– Как тебя, видать, жизнь прижала, раз икону продаешь, – сказал старому торговцу.
Тот усмехнулся:
– Жизнь такая штука. Бери, раз понравилось, я десятку уступлю. Я вообще ни в иконы, ни в Бога не верю. Каждый сам себе хозяин.
Ярослав ничего не ответил. Закурил, отворачиваясь от резкого ветра, укрывая ладонями слабый, упрямый огонек. Хотелось уйти, исчезнуть из этого мира, где все замешено либо на вражде, либо на корысти, а он рвет глотку, крича им всем про какую-то истину…
Незваной она пришла. Долго медлила около двери. А Ярослав будто бы и не удивился ее появлению.
– Привет, – обнял ее робко, едва касаясь. И спохватился: – Слушай, не надо. Не приезжай больше.
Вера не находила что сказать, не могла поднять глаз, полных темной боли.
– Уходи, я сказал. – Как хлестнул наотмашь. Девочка знала, что ему так же больно, как и ей.
Его квартира казалась нежилой. Мертвый дом, страшный. Это жилище, затаившись недобрым соглядатаем, караулило их.
Вера бросилась к Ярославу, но тут же и замерла. В его глазах, смолоду голубых, выцветших, как бывает небо поздней осенью, была только усталость. Нечеловеческая, свинцовая усталость, равнозначная отказу от жизни.
– Уходи.
Вера плохо помнила, как добралась домой. Мечтала лечь где-нибудь в углу, как больная собака, и тихо умереть.
Выйдя к колодцу, Вера напряглась, встревожилась и не сразу поняла, отчего. Земля была теплая, даже сквозь подошвы обуви. И дрожала изнутри, как дрожит беззащитное испуганное животное. Тут же запах дыма обжег горло.
Девушка распахнула вторую калитку и выбежала к лесу. Корабельные сосны в беззвучной мольбе тянулись к небу, где бродили мутные рваные тучи. Из глубины леса шло потрескивание и жар. Вера чуяла, как стонет великан лес и в нем каждая травинка своим голосом плачет.
Метнулась к колодцу, обернулась и застыла от бессилия – много ли ведром потушишь.
Вера увидела огонь, он вырвался из чащи взъяренным рыжим столпом, раскатился искрами. Деревья молча кричали.
Ее хлестнуло безумное желание – побежать, броситься под те сосны. Изойти пламенем. Представила, как яркие огненные языки охватят тонкие руки, точно ветви, как взметнутся над головой. И в кипящем котле сумасшедшей боли забудется другая боль, душевная. А потом наступит покой.
Во дворе спорыш жалостно приникал к ее ногам, точно просил остановиться. Вера сообразила: достаточно теперь порыва ветра – и всё вспыхнет, как факел: и хрупкий деревянный домик, и она сама.
– Ну и гори всё! – крикнула в беснующийся огонь. – Гори, раз тебе не нужно.
Вокруг клубился и извивался дым.
Небо прорвалось дождем, шумным, безудержным, запыхавшимся: он бежал, сбиваясь, этот запоздалый дождь, и все-таки успел спасти дом и девочку.
Надо было заново привыкать жить. И Вера привыкала. Днем разносила чужие письма на деревенской почте, а ночами, уже по-зимнему долгими, погибала в омуте безысходного одиночества.
У нее появилась игра. Приглядела один дом на дальней улице – домик как домик, кирпичный, с большими окнами и высоким крыльцом. Письма туда не ходили. По вечерам окна светились теплым зовущим светом, иногда мелькал голубоватый отблеск телевизора. В чужие окна Вера смотрела с бесприютной щемящей тоской – сколько себя помнила. А про этот дом зачем-то представила, что там жил бы Ярослав. Да, пусть бы он жил не с нею, но так от нее близко. Она украдкой ходила бы и смотрела на его окна, не гаснущие почти до рассвета. А к нему наверняка бы пришли красивые светлые стихи, а он и не знал – откуда.
Так и тянуло ее к этому дому, хоть и понимала, конечно, что это не вправду.
Решилась выйти в обожженный лес. Уцелели крайние деревья и пребольшой муравейник у тропы. А дальше лежала черная земля, ощерившаяся кое-где сухим ежиком сгоревшей травы. Жуткие скелеты деревьев, поваленные черные стволы. Вера побежала туда, где рос шиповник, молясь, чтобы огонь обошел его. На краю поляны обелиском беды застыл обугленный куст.
К вечеру девушка вернулась на поляну и принялась подкапывать несчастный шиповник, инстинктивно надеясь, что сумеет выходить. Твердая земля не поддавалась, глаза слезились от поднявшейся копоти. А дикий искалеченный шиповник цеплялся корнями за пепелище, почерневшими колючками отчаянно рвал Верины руки.
Уносила шиповник в свой двор, не замечая, что вся исцарапана, исхлестана им. Только бы выжил, проснулся по весне.
3
По календарю месяц прошел с их расставания.
Вера услышала на околице знакомую песню, только голос был чужой и немножко фальшивый, не грубой фальшью, а как-то по детски путающий ноты. «Я схожу с ума» – решила она, но не испугалась, покорно приняла эту возможность. Иногда сумасшедшим легче – они живут в счастливом мире, который сами себе придумали.
Мчится экспресс, а конечная – смерть.
Малые станции – годы.
Я спрыгну с подножки в последний момент,
я спрыгну – к тебе, на свободу.
Я спрыгну с подножки, колени разбив
о шпалы, о мокрый щебень.
Спасибо, что жив. Спасибо, что жив —
скажу задождившему небу.
Мчится экспресс через станции лет.
У жизни я безбилетник.
Я спрыгну с подножки в последний момент,
перед тоннелем последним.
Я спрыгну с подножки, о горе забыв,
там, где ты ждешь и встречаешь.
Спасибо, что жив. Спасибо, что жив —
скажу я тебе, родная.
Вера обернулась, не чувствуя, что по лицу бегут теплые слезы, но увидела только какого-то пришлого старика. Тот смотрел на нее прямо и пристально.
– Откуда вы знаете эту песню?
– Я много знаю, – странно усмехнулся старец. – Вы молодые, у вас еще есть время и пожить, и узнать. И исправить, где оступились. А мое время почти всё уже прожито, вот и знаю, – в голосе старика не было грусти, и безо всякого перехода он добавил: – Помоги мне, деточка.
– Что? А… – Вера достала из сумочки деньги. – Извините уж, тут немного…
– Спасибо, дочка. Дай Бог, чтобы всё у тебя исправилось и сбылось. Езжай.
– Куда? – ошеломленно переспросила Вера. Старик укоризненно покачал головой.
– Тебе самой лучше знать, где тебя ждут.
…Москва, точно шлюха, еще больше понаглела и подурнела с той поры, как Вера видела ее в прошлый раз. Раскрашенная, стареющая, усталая шлюха. А ведь когда-то и она была боярыней – горькая, странная мысль.
Приехав в сумерки, девушка обошла дом и нашла окна Ярослава. В его комнате горела свеча зыбким тревожным огоньком. Таким неприкаянным смотрелось это окно среди чужих, ярких и уютных. Она вернулась к двери подъезда и поднялась по ступенькам.
– Ругаться будешь, что я приехала…
– Буду, – Ярослав взял ее ладони, притянул к себе. – Зайди.
Тихонько закрыл за нею двери. Света в прихожей не было.
– Ну, расскажи, как ты жила всё это время… Без меня.
О чем рассказывать? О том, как она не могла ходить в сумерках, а потом уже и белым днем – мучительно обознавалась, видела его чуть не в каждом прохожем? О том, как мечтала сгореть в лесном пожаре? Обо всех ночах, слившихся для нее в одну, ледяную, черную, как прорва, пустую?..
– Что рассказывать… Я без тебя не жила.
Ярослав не отпускал ее рук. им было светло и просто, будто прожили вместе много лет.
– А вы… – сбилась все-таки, отвыкла, – а ты как жил?
– Так же, – обнял ее и привлек к себе новым, смелым движением. В комнате затаился сумрак, свеча на окне почти догорела, оплывая еще живым теплым воском на старинное блюдце.
Греха не было. Грех гнездится там, где нет любви.
Ярослав заметил слезы на ее ресницах и то, как судорожно сглотнула комок в горле, скорей отвернулась, чтобы он не видел.
– Девочка моя… Я сделал тебе больно? Нам не надо было…
– Надо, – она прильнула к нему – счастливая, ошеломленная этим выстраданным счастьем женщина. В ее взгляде, в очерке губ была какая-то новая решимость. – Я люблю тебя, всю жизнь люблю. Просто мне уже сейчас страшно, что когда-то мне придется учиться жить без тебя. Нет! Я не смогу. Пусть из нас двоих я умру первая.
Ярослав попытался ее перебить, ему сейчас вовсе не хотелось говорить о смерти. Вера не слушала.
– Бог слышит и видит нас. Пожалуйста, Господи, сделай так. пусть я первая.
– Так нечестно: ты намного младше, – Ярослав попытался обернуть в шутку.
– Я слабее, родной. Мы теперь как одно целое. Только я без тебя не смогу. А ты сильный, ты сможешь.
Они не заметили, как свеча погасла, оставив изгоревший черный фитилек. В незашторенное окно с улицы глядел бесстыжий фонарь, по стенам бежали белесые тени.
– Умрем в один день, как в добрых сказках, – предложил Ярослав. Любимая покачала головой и засмеялась ребячливо:
– А давай вообще не станем умирать? Будем жить вечно, как ангелы. Как шиповник.
– Почему как шиповник? – Ярослав тихонько сцеловал замершую слезинку с ее скулы.
– не знаю… Мне кажется, что шиповник бессмертный. Даже через сто лет, если его век закончится – будут новые побеги, новые цветы…
Мрак за окном медленно светлел, и обоим стало тревожно оттого, что рассвет нарушит зыбкий мир, который создала эта ночь. День на всё смотрит по-другому – трезвее, беспощаднее.
– Давай уедем, – негромко заговорила Вера. – Тебе трудно в этом доме и в этом городе.
– Не надо. Я привык. Наверное… Знаешь, прости меня – не надо вообще ничего.
Вера приподнялась, в глазах ее метнулся страх.
– Гонишь меня? – спросила она с вызовом, неожиданно для себя самой.
– Нет. Не гоню. Когда я был молодым, Вера, у меня была мечта – построить свой дом далеко от всех… Ну, почти в лесу. Чтобы свой мир. Только я и мои самые близкие.
– Я живу почти в таком доме. Как будто он именно тебя ждал. Дома ведь живые, как люди. И иногда ждут своего хозяина.
– А иногда убивают, – сказал Ярослав резко.
– О чем ты?
– Ни о чем. Тебе не нужно это.
Вера поняла, что долго еще будет вот так натыкаться на каменную стену его скрытности. Его прошлое, до нее, очень большое, до многого он ее не допустит. Да ей и не надо. Если надо, то только чтобы унять его боль, разделить ношу – возможно, непосильную. Жизнь учила его разному, но доверять людям – никогда.
– Понимаешь, здесь я привык, здесь мой мир. Даже знакомые – они не очень близкие друзья, в мои годы уже важно то, что они свои, привычные. И город так же. Скотский, тяжелый – но привычный, свой.
– Поэтому тебе так трудно… Ладно. Жизнь сама решит, как нам быть.
Комната уже просматривалась ясно, сумерки были прозрачные, стеклянно-синие. Такой час в сутках – час самой отчаянной бессознательной тоски. Ночь осталась влажными каплями на холодном окне, дрожью черного, как грач, дерева. Миг до восхода солнца. Миг до новой судьбы.
4
Одиночество чувствуешь особенно остро, когда начинает рано темнеть и подступают долгие зимние ночи. Будто стареешь с каждым сгорающим днем.
Темнота настала раньше, чем ей положено. Занесенный снегом поселок с несмелыми огоньками в ладных деревянных домах выглядел по-старинному трогательно. Узкие неровные улицы были пусты, спросить пути не у кого, кроме разве у желтой выщербленной луны, насмешливо бросающей тени на искристый снег.
Была у Ярослава привычка: он почти никогда не запоминал адреса, какие пишут на конвертах – ни название улицы, ни номер дома. Помнил как идти, примечал развилки, деревья, соседские крыши, и находил нужное место всегда по памяти. Даже дома, в которых прежде не был, непостижимым образом отыскивал наугад.