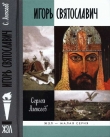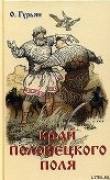Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Случается, что человек, подойдя к дереву, или озеру, или реке, необъяснимо, как бывает в детстве, почувствует: родственное, свое. Богдана, впервые увидев Терек, мятежный, рвущий вену русла в гневе и надежде – полюбила его. Разулась и легко побежала по камешкам, ступила в прибрежную пену, звонко вскрикнула от холода.
– Можешь отвернуться ненадолго? – смущенно попросила. – Я хочу искупаться.
– Вода ледяная, – честно предупредил Владимир. – И глубоко.
Богдана сбросила одежду, быстро вошла в воду по пояс, холод тысячью маленьких иголок впился в тело; течение было мощным, и девушка не рискнула идти глубже. Она умылась и прополоснула длинную косу, вышла на берег, встряхнулась по-кошачьи и стала с неприязнью натягивать одежду, крупно дрожа от холода.
– Всё, можно смотреть… Какая чудесная река. Сильная. Как ее зовут? – спросила, точно о живом создании.
– Терек.
Богдана ощутила – Владимир стал ей родным, до боли, до замирающей материнской дрожи где-то около сердца. Хотелось согреть его, унять непримиримую боль, какую чуяла в нем. Быть ему преданной, глубокой, искренней преданностью, как умеют только дети и собаки.
Может быть, они шли сейчас другой дорогой, а возможно, незнакомые города ночью совсем иные, чем днем – вчера будто бы не было добродушного, уединенного деревянного дома и безмятежной клумбы алых цветов.
Худой мальчонка лет десяти сидел прямо на земле, закрыв лицо ладошками, и беспрестанно всхлипывал. Подойдя ближе, Владимир заметил, что окна дома выбиты вместе с голубенькими рамами, дверь приоткрыта.
– Ну, ты что? Что случилось? – необычайно ласково спросил Владимир, садясь рядом с ребенком. Тот вздрогнул, как пугливый зверек, поднял на незнакомца заплаканные голубые глаза.
– Я не могу домой. Там мама лежит. Мертвая.
Произнести эти слова вслух для мальчика означало – еще отчетливей ощутить ужас случившегося, и он зарыдал – негромко и тяжело.
– Бедняжка ты, – искренне, беспомощно пожалел Владимир.
– А папа твой где? – неловко вмешалась Богдана.
– А папы нет. Мы с мамой вдвоем жили.
– Как тебя зовут?
– Андрей, – всхлипнул ребенок, в глазах его отразилось что-то вроде интереса.
– Знаешь что, Андрей, пойдем со мной, – Владимир ласково взял мальчика за руку, но тот отстранился, явно робея.
– Зачем?
– Будешь пока у меня жить. Ты же совсем один.
– А вдруг ты меня убить хочешь?
– Я что, такой страшный с виду?
– Н-нет… – робко улыбнулся мальчуган, неохотно подымаясь.
– Тогда пошли.
Не решившись оглянуться на дом, Андрей безропотно пошел с чужими людьми. То была доверчивость ребенка и доверчивость попавшего в беду.
– Не бойся. Никто тебя больше не обидит, – пообещала Богдана. Андрей молчал. Учился сживаться со своим сиротством.
В комнатах царил разгром, немногие вещи были выброшены на пол. Жалостно, лицом вниз, лежала сорванная со стены икона. Подняв ее, Владимир увидел, что лики Богородицы и Младенца изрезаны ножом. Глаза Девы, светлые, живые, были буквально выколоты, растерзаны лицо и риза.
– У нас тоже иконы резали, – глухо проговорил Андрей. – И плевали на них, и…
– Не думай сейчас об этом, – Богдана обняла ребенка, пригладила пшеничные вихры.
– А почему вы меня взяли? – спросил он. – Я же вам совсем чужой.
– Нет, Андрей. Когда война, люди не бывают чужими. Пойдем на кухню, пора завтракать.
«Мы теперь вроде как семья» – явственно прозвучало в интонации последних слов Богданы.
Проще было бы позвонить в госпиталь, но телеграфные провода, тонкие нервы связи, были в городе оборваны. Неблизкий путь занял добрый час.
Как и следовало ожидать, в палату Владимира не пустили. Он не настаивал, вдруг почувствовав нерешительность: всё зная, боялся воочию увидеть.
Хирург был немногословен.
– На всё воля Аллаха. Но я буду спорить, насколько смогу.
– А то, что… – и на привычном русском подобрать слова было бы непросто, не то что на полузабытом нахском языке, – он не поплатится за всех русских? Я понимаю, как трудно…
Во взгляде собеседника блеснуло осуждение.
– Он – раненый. Больше ничего не имеет значения. Врачи не воюют, не знал разве?
Хирург был невысок, коренаст, его лицо пересекал длинный тонкий шрам, начинающийся около левого виска и теряющийся в косматой, дикарской бороде. Немолодой, угрюмый, он походил на злого духа из горских преданий.
– Чингиз?
Рослый, мощного сложения парень с походкой стремительной и резкой настороженно огляделся вокруг и, не приметив чужих, счел безопасным признать приятеля.
Чингиз был старшим сыном Зухры. Когда-то в детстве Владимир отнял у него раненого птенца, которого тот собирался добить. Они тогда, помнится, подрались. А птенец всё равно не выжил.
– Отца убили, – приносить такие известия всегда тяжело. Но он должен был сказать.
– Когда? – как истинный горец, Чингиз не позволял себе проявлять эмоции. Даже скорбь обернулась бы слабостью.
– Несколько недель.
– Как мама? – только чуть дрогнули брови на смуглом, грубом лице; Чингиз поспешно отвернулся.
– Держится, – насколько возможно, утешил Владимир. – Она сильная женщина.
– Мы – сильная нация, – с внезапной злобой произнес Чингиз. – И никому не дадим помыкать нами на нашей земле.
– Жаль, что вы не понимаете, какую цену платите за эту мнимую свободу.
– Нет цены, которую бы мы не согласились платить, мы, наши женщины и дети.
– Не говори за всех, хорошо? Вообще оставил бы свой отряд и вернулся к матери. Ей правда тяжело.
– Не учи меня жить. Ты с кем в этой войне?
– Как и раньше – только сам за себя. Я ни с кем и ни на чьей стороне не воюю. Выживаю один.
– Ты чужой всем, – Чингиз презрительно искривил темные губы. – Цу стеган тайпа а, тухкум а дац.[12]12
«Без роду, без племени». Нохчи неодобрительно относятся к чужеродным и отщепенцам.
[Закрыть]
– У меня вчера были «гости». Надругались над Богородицей.
– Я знаю, – не сдержался Чингиз. – Но это не я, знает Аллах. Я бы не делал ничего так близко к своему дому.
Склонившись над большим листом белого картона, Андрей рисовал остро отточенным карандашом. Худенькая, исцарапанная детская рука то застывала напряженно, то находила особый ритм и безотрывными штрихами воспроизводила горный пейзаж.
– Как ты красиво рисуешь, – похвалила Богдана.
– Правда? – с трогательной надеждой переспросил мальчик. – Меня мама учила, – Андрей выронил карандаш, по его личику покатились крупные, теплые слезы.
– Андрюша, – бессильная жалость охватила Богдану, даже в груди горячо заныло, неизвестное раньше чувство щемящей волной отдалось в сердце, побудило к неловкой, родственной ласке. – Мама гордилась бы тобой. Знаешь, где она сейчас? Боженька забрал ее на небо, она стала ангелом.
– Откуда ты знаешь? – стыдливо утирая слезы, спросил Андрей.
– Все хорошие люди становятся ангелами, – Богдана нежно прижала к себе тихо всхлипывающего ребенка, поцеловала в светлую макушку, догадалась намеренно чихнуть, будто ее защекотали его волосы, и мальчик улыбнулся сквозь слезы.
– Думаешь, она видит нас?
– Конечно, – убежденно сказала Богдана. – И радуется, что ты у нее такой хороший и мужественный.
– И что мне есть где жить, – подытожил Андрей. – Знаешь, ты на нее немножко похожа. Только у нее волосы были светлые, вот почти как у меня.
Богдана подумала, что он, наверное, искал бы невозвратные родные черты теперь в любой женщине.
Владимир вошел совсем тихо – скрытность научила его этой осторожности. Наклонился над почти оконченным рисунком Андрея.
Очертания гор были резки до черноты, заострены, за них уходило серое небо со щербатым черепком луны. Над ущельем клонилось сломанное дерево, а на склоне горы, хищно напрягшись, стоял тощий волк с чахоточной злобой в прищуренных глазах.
– Талантливо, – Владимир ничуть не кривил душой. – Если хочешь, я найду для тебя краски.
– Спасибо. Я карандашом люблю рисовать.
– Я люблю волка. Это смелый, благородный зверь, особенно волк-одиночка.
– Нет, волки страшные, – возразил Андрей.
– Они справедливые. Богдана… Саша в госпитале. Он разбился на машине.
Сдавленный крик взметнулся в комнате и эхом замер у окон.
XI
– Давай я проведу тебя, ты же совсем не знаешь город. И языка не знаешь.
– Не надо… я должна сама, – пробормотала девушка. Выходя, она пошатнулась и схватилась за дверной косяк.
Владимир поддержал ее, и от его прикосновения непрошеная дрожь пробежала по телу.
– Не волнуйся за меня, – в голове шумело, Богдана едва слышала собственные слова.
Владимир кое-как пояснил ей дорогу, предупредил, что идти придется далеко; спрашивать у местных не хотелось, встречные недоброжелательно косились на иноверку, да и вряд ли понимали по-русски.
Наконец, усталая, она остановилась перед угрюмым двухэтажным зданием; надеясь, что не ошиблась, поднялась к крыльцу по ветхим, крошащимся ступеням, открыла тяжелую дверь. У входа дежурила стареющая женщина с тусклыми, рыбьими глазами; лицо ее было открыто, а волосы высоко заколоты. Она что-то проговорила резко и отрывисто, гортанно.
– Простите, я не понимаю по-вашему, – взгляд Богданы метался по пустому холлу, откуда шли два коридора и темная лестница. Ноздри обжег удушливый запах, и если бы девушку спросили, чем именно здесь пахнет, она бы не колеблясь сказала – смертью.
– Что русский здесь нужно?
– Мой друг… Разбился на машине сегодня ночью. Он где-то здесь. Я не знаю, были ли у него документы… Он тоже русский…
– Почем мне знать. Иди ищи. А, стой, – по-грубому сильными, мужскими ладонями дежурная быстро ощупала пришедшую, махнула рукой – дескать, иди.
– А где хирургическое отделение?
– По коридору туда, – указала женщина. – Третья дверь.
Коридор был темный и кривой из-за нестандартной планировки здания. Нервно постучав в нужную дверь, Богдана замерла, кусая тонкие пальцы. Когда ей открыли, девушка отпрянула – мрачный взгляд, шрам и борода хирурга если и не испугали ее, то произвели тягостное впечатление.
– Я догадываюсь, к кому ты, – почти без акцента сказал мужчина. – К нему сейчас нельзя.
– Очень плохо? – холодея, спросила Богдана.
– Черепно-мозговая травма и повреждение позвоночника, – для кого-то драма, для врача это были заученные, истертые слова.
– Он без сознания?
– Полчаса назад приходил в себя. А может, просто бредил, пойди разбери.
– Пожалуйста, – Богдана готова была хватать врача за руки, плакать, упасть на колени. – Я его жена, – порывисто солгала она. «Лучше бы сказала – сестра», – пронеслась запоздалая мысль.
– Зрелище не самое приятное, – стал отступать хирург. – и вообще, не положено посещений.
– Я недолго… Тихонько…
В просторной палате, узкой и длинной, было десятка полтора коек. Врач указал к углу, и Богдана медленно пошла, стараясь не смотреть на раненых, обожженных, стонущих и мечущихся под окровавленными грязными повязками.
Немым криком врезалась в душу жестокая бледность родного лица под туго охватившим голову широким бинтом. Богдане вдруг показалось, что она виновата, стыд хлестнул ее, словно измена состоялась наяву. Чувства, которые пытаешься в себе заглушить, всегда прорываются и оказываются сильнее тех, которым дана была свобода.
Она опустилась на колени, обеими руками взяла его безвольную ладонь и стала бессвязно шептать нежные слова, захлебываясь внезапным плачем.
– Богдана…
Саша говорил, что любит ее; обещал выжить и подняться, говорил, превозмогая боль, что хочет ребенка, их ребенка…
– Смотри, карандаш надо держать вот так, наискось, и наносить тень ровными штрихами. Не жми так карандаш, надо совсем легонько. Видишь, у тебя получается, – Владимир вдохновенно обучал Андрея технике рисования, как его самого много лет назад учил отец.
Мальчик, забыв карандаш, стал вглядываться в лицо своего взрослого друга.
– Скажи честно, ты русский?
Владимир заметил в его взгляде испуг, предшествующий ненависти, и выдержал молчание так долго, как только было можно.
– Да, русский по крови, – спокойно сказал он. – А если бы я вдруг был чеченцем, ты бы только из-за этого предал нашу дружбу и возненавидел меня?
Андрей растерянно молчал.
– Признаться, в душе я здешний. Я люблю эти края, эти восходы, так красиво солнце больше нигде не восходит. Люблю горы, Терек. Пожалуй, и народ здешний люблю – крепкий, сильный народ, настоящий. И ты любишь, потому что это твоя Родина. И если, когда вырастешь, ты уедешь отсюда, то, поверь мне, будешь очень скучать.
– Нет. Я всё здесь ненавижу. Они дикари и скоты. Вчера к нам вломились двое, – тонкий детский голос измученно дрогнул. – Они били маму прикладом автомата, душили. А еще… Понимаешь, сделали самое плохое, что может мужик сделать женщине. Только не говори об этом Богдане.
– Это страшно, Андрей. Но не надо думать, что все нохчи такие. Когда-нибудь ты поймешь.
– Я уже всё понял. Когда вырасту большой, я убью всех чеченцев. Отомщу за маму.
– Зачем же всех? – рассудительно заметил Владимир. – Тогда ты убьешь и много хороших людей, по ним тоже станут плакать их родные.
– Тогда я найду и убью тех двоих.
– Ну, пока ты вырастешь, они состарятся и сами умрут.
– Значит, убью их детей.
– А разве их дети виноваты? И вообще – если убивать, ничего не исправишь. Маму не вернешь. И тебе легче совсем не будет, ты тогда станешь как они.
Андрей задумался. В комнату наползали сумерки.
– Тогда, наверное, я стану поэтом. И постараюсь найти такие слова, чтобы люди больше не хотели друг друга убивать.
Богдана вернулась в последние минуты перед темнотой. Владимир заметил неявную перемену в ней, почувствовал около нее какую-то прозрачную тяжесть – и не оттого, что она возвратилась из больницы и, возможно, принесла частицу тяжкой ауры оттуда, и не оттого, что глаза ее были заплаканы и злы. Тень недолгого будущего переменила ее.
«Только молчать» – решил Владимир. – «И вести себя с нею обычно».
И весь вечер он глядел на нее, мрачно задумчивую, запоминая, зная, что не удержит. Помнится, его всегда тяготили затяжные прощания – когда нельзя переступить черту расставания, не разомкнуть рук, а вокруг людская дорожная суета, отчуждение толпы, а потом – поезд скроет ночь, а ему – обратно домой – с вокзала – одному, и глухая тоска, какую женщине хотя бы дозволено выплакать, а ему приходится молча копить…
А перед лицом чужой смерти вовсе в дураках себя чувствуешь: ни постичь, ни исправить, ни последовать…
XII
Улицы были незнакомы, за поворотом, где должен был быть госпиталь, предстала разрушенная мечеть, дальше открывался пологий пустырь. Богдана поняла, что заблудилась. Она обернулась, пытаясь припомнить, какой дорогой шла. Жестокая тишина окружала ее.
За хаосом руин мелькнула гибкая тень. Богдана отшатнулась, мгновенный страх сдавил ей горло. На нее наводили четкий прицел.
Девушка успела немного разглядеть того, кто притаился за полуобвалившейся стеной мусульманского храма; лицо человека скрывала черная, мягкая маска, что-то в высокой, пантерьи изящной фигуре, в плавных и четких движениях выдало, что это женщина. Женщина-снайпер.
Богдана не смогла ничего осознать, дикая боль, причину которой нельзя было понять, зажглась в виске. Ощутив холод земли и почувствовав, как по лицу струится горячая кровь, поняла – конец.
Умирать трудно. Не потому, что хочешь жить. Инстинктивный страх.
Земля пахла осенней, увядающей травой, пахла росой и жизнью. Зрение померкло. Богдана повернулась, раскинув руки, будто хотела обнять землю, прохрипела и затихла.
Вдоль низкого больничного потолка ползла тонкая, причудливая трещина – пока не имея возможности двигаться, приходилось созерцать исключительно ее. А сама палата походила на кошмарный сон. Вывозили, накрыв серой простыней, на неуклюжих каталках тех, кому недостало сил уцепиться за краешек жизни, но освободившиеся койки пустовали недолго.
Тянулись долгие пустые дни, неотличимые один от другого. Позади остались две операции. До слёз хотелось уйти отсюда, пусть не домой – куда-нибудь. Физическую боль учился, сцепив зубы, терпеть – медсестра вежливо объяснила, что обезболивающего на всех не хватает, перепадает только тем, кто в агонии.
Богдана больше не приходила. Саша играл в надежду, пытаясь убедить себя, что она уехала домой.
Каждый вечер за узким тусклым окном горели великолепные закаты, которые Саша полюбил – у него сейчас только и было, что клок неба в пыльном окне. То зарево заливало полнеба, то алые крылья мерцали над лиловым сумраком, – каждый вечер иная, захватывающая и жуткая симфония красок.
Странным образом именно закаты приводили к мысли – мир не безнадежно болен.
Сашу невыносимо тяготила беспомощность. Накануне зимы – скупой, бесснежной здешней зимы – он решил попробовать подняться и пойти; давно уже получалось сидеть на постели, и это обнадеживало.
Заново привыкал к собственному телу, странно безвольному, ослабевшему. Придерживаясь за блеклую стену, осторожно встал, выпрямился и не решался шагнуть, будто забыл, как это делается. И впрямь можно было успеть позабыть. Застарелая боль глухо отозвалась.
Тесный проход между койками показался бесконечно длинным. Но он одолел этот путь.
XIII
Обрывки мучительных зрелищ клубились и сливались в растревоженном сознании. Милосердие жестокости и жестокость милосердия – это писать.
Владимир отыскал холст, но сам боялся того, что там должно было возникнуть. Еще не пришло, наверное, время, картина зрела и таилась, чтобы прорваться гневно и беспощадно.
Андрей больше не говорил о матери, как в первые дни. Тяжело переживая утрату, иногда люди стараются вовсе вытеснить умерших из памяти, своего рода защитная реакция. Мальчик не спрашивал о Богдане, всё понимая, но тайком ожидал ее до сих пор, – он ведь не видел ее мертвой.
…Ночь позвала его – тяжелым чувством долга, сомнительного долга художника, дерзнувшего писать то, от чего сам дьявол отвернулся бы. В порыве Владимир бросился к холсту, дикий туман застил зрение; он ясно видел перед собой одну из подлых битв, и дальнее зарево пожара, и бегущую прочь женщину с мертвым ребенком. Кипа карандашных набросков была отброшена прочь и разметалась вроде перьев убитого лебедя – произведение теперь виделось целостно и совсем иначе.
Приказал руке не дрожать, глазам не обманываться жалостью. Прежде стал писать небо, это было не легче своры на земле. Кривой, мечущийся отблеск огня вонзался в глухую, словно обожженную черноту, сквозь угар лишь чуть просвечивала сумрачная синь – работа с оттенками при неверном свете двух полусгоревших грубых свечей была кропотлива и непроста. Время застыло, покорно минуя рисующего, ночь длилась и длилась.
Усталость выжгла душу, предельное напряжение, на котором держалось творчество, мгновенно ушло, оставив пустоту бессилия. Только небо было на холсте, тяжелое, как каменная скала, и глубокое, поистине отразившее, вобравшее в себя вражду, страх и сиротство. Владимир отвел взгляд от своей начатой работы, он стремился уйти, скрыться сейчас от этой картины, нервно ходил по темной комнате, бережливо загасив последнюю свечу, и понимал, что нужно, невыносимо нужно выйти прочь, он задыхался в доме; холст, зияющий, как рана, молча прогонял своего создателя.
Андрей плакал во сне, и Владимир подошел успокоить его, за короткое время осиротевшего дважды. Этот мальчик, случайно вторгнувшийся в его жизнь, странным образом повторял его судьбу: Кавказ жестоко не принял Андрея, и вряд ли примет Россия.
Затем он молча ушел. Близился рассвет, жарко дышала неведомыми звуками пасть умирающей ночи. Идя наугад, Владимир понял, что больше не войдет в дом, сам дом, чьи окна глядели вслед прощально и чуть виновато, подсказал ему это, а может, подсказала темнота.
Жизнь истлевала последними часами, истекала, как мутный воск свечи, и не хотелось возвратить ее, удержать. Только с мыслью о неоконченной картине предстояло примириться. А может, так суждено было – небо скажет всё вернее четкой реальности. Как музыка реквиема.
Он шел, не зная пути, не желая повернуть обратно и тем самым спастись, по крайней мере, на несколько дней. Страх не посмел коснуться души. Поблизости от сонного дома Зухры мужчина остановился, чувствуя в глубине двора коварное движение. Небывалый покой овладел им.
Владимир знал, что сейчас произойдет. Человек, некогда назвавшийся его приятелем, вскинет черный блестящий автомат, тщательно прицелится – мастерство в стрельбе у него отточено привычкой – он не даст осечки или промаха, но не сможет убить.
Гибель от чужой руки унизительна. Она дается обычно тем, кто в жизни был слаб. А смерть, причиненная предателем, постыдна вдвойне.
Наступила тишина, и – завтрашним плакальщикам это останется неизвестно – сердце, неожиданно покорное, изболевшееся, дрогнуло и остановилось за какой-то осколок мгновения до того, как его коснулся острый глупый кусочек свинца.
Дальше – безмолвие.
2004