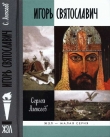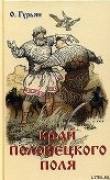Текст книги "Творчество Лесной Мавки"
Автор книги: Мария Покровская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Белый день величаво входил в престольный город. Две женщины пустили своих коней осторожной рысью по берегу, вдоль стремнины Днепра. Под гречанкой был крепкий, резвый конь – рыжий, ей в масть; Горислава выбрала молодую кобылку, каштановую с золотой гривой – такая масть зовется игреневой.
Скакали молча. Кони всхрапывали, чуя горьковатый ветер с реки.
Горислава плохо знала нрав гречанки. Лиха хлебнула на своем бабьем веку Гала, в какой-то час озлобилась. Вместо любви была у нее собственническая мстительная страсть. Женщина поклялась себе, что престол киевский унаследует Святополк; на что бы ни довелось ей пойти ради того.
Лошади их шли рядом, морда к морде; внезапно Гала резко дернула поводья игреневой, а своего коня пришпорила и помчалась не оборачиваясь. Пугливая кобылка Гориславы рванулась, вскинулась на дыбы. Горислава успела увидеть над собою ослепительно синий выгнутый купол неба, услышала перепуганное ржанье и ощутила противную, злорадную боль. Она носила тогда второго ребенка.
Ярослав родился на месяц раньше срока, родился слабым и хромым, рос нервным, почти злым. Мать всегда жалела его и оберегала больше, чем остальных детей; а всех родилось у Гориславы шестеро – сыновья Изяслав, Ярослав, Мстислав и Всеволод, и дочери Предслава и Прамислава.
…В комнате Гориславы распахнули все окна – ей всё чудилось, что пахнет болезнью, кровью, а хотелось жить. Солнечный луч весело прыгал по ее постели. Новорожденнный кричал не переставая почти сутки, и вот наконец притих, уснул. Ему, очевидно, было больно с самого рожденья, покалеченной ножке больно, а может, больно и душе младенческой, еще бессознательной, едва оторвавшейся от Божьих садов и брошенной на землю.
– Игреневую на бойню нынче же, – взъярился князь. – Гречанку с сыном отправить с глаз моих подальше, на чертовы выселки.
Владимир был от природы рассудителен и незлобив, но иногда вспыльчивая ярость застила ему разум. Близкие друзья знали об этом, враги же слагали сказания о якобы лютой жестокости его.
Вошел к Гориславе. Как мальчишка, принес ей обломленную ветку душистой сирени.
– Легче тебе?
– Я живучая, родной. Завтра поднимусь.
Владимир стеснялся своей нежности к ней: в лихие времена нежность могла быть истолкована как слабость; довелось великому князю жить точно под зорким прицелом, довольно шавок только и ждали, чтобы он оступился, ослабел.
– Владимир, я не хочу, чтобы из-за меня страдали другие. Не карай ни женщину, ни лошадь. Я сама виновата в своей падении.
– Знаешь, чем страшна безнаказанность? Растлевает очень. Однажды попусти, такого натворят – вовек не исправишь.
– Прошу тебя. Не добавляй мне страданий.
– Ладно. Сделаю как просишь, хоть мне и не по нраву так. Да, вот еще. Тебя с детьми защитить нужно, в Киеве погибнете. Завтра на заре повезут тебя на родину, в Полоцк, там живи покуда.
– Вот значит как. За верность мою и любовь разлукой пожаловал, изгнанием, – на темных ресницах Гориславы влажно блеснули слезы. – Бог с тобой. Уеду.
В любви Гориславы никогда не было собственничества, стремления любой ценой удержать супруга около себя – то был бы искаженный, злой облик любви. Любить – желать добра и сострадать, не более того. Но горько, как горько стать ненужной.
– Так нужно, Горислава. Здесь слишком много клыков наточено на нас.
– Помнишь старицу Марфу? Она знала судьбу мою. В Киеве твоем, сказала, я буду умирать не раз, но выживу, не умру. И дети наши будут счастливы и знатны. А умру я молодая на своей родовой земле.
– Что еще сказала?
– Много сказала. Всего не выдам.
III
Язычество на Руси убивал великий князь…
Всякую стихию наделил Господь живым и крепким духом, но Сам, пока не настало время, не приближался к людям, потому положили издавна чтить не самого Бога, а сущности, созданные Им, верней, Бога чтить через Им сотворенные сущности, как через ангелов-посредников с древними именами. Настало время прозрения, посредники-стихии отслужили свою службу, чтобы теперь Лик Божий мог явиться людям.
Князь Владимир понимал это. Однако разъяснять каждому – довелось бы потерять много времени и сил, и по нетерпеливому своему нраву он поступил проще, напрямик, одним резким жестом отдавая свой народ новой и истинной вере; знал он также и необъяснимое, что Господь Сам имеет силу просветить темные сердца, вот и отдал воле Всевышнего довершать дело, им начатое.
Когда дружинники рушили идолов, собрался народ, и простоволосые бабы выли и голосили, точно по родимым покойникам.
«Если кто не придет на реку креститься, будь то богатый или бедный, боярин или раб – враг князю будет».
На пологом, привольном берегу реки Почайны теснилась толпа, живая нервная и бессмысленная стихия, пестрой волной колыхавшаяся от кромки воды и до самого всхолмья. Суровые, обветренные лица. Боярские багрянцы мешались с ветхими веригами нищеты, пред этой водою все стояли равны: богатый и убогий, старец и юный. Где-то вспыхивала в давке мелочная, базарная брань, где-то располосовал тишину детский крик. Владимир читал эту толпу, словно беспощадную книгу своего народа. Читал по глазам, по взглядам людским: в одних видел надежду на лучшую новь, в других заплаканную боль или звериное угрюмое озлобленье, а в иных, молодых еще лицах – безысходное, страшное равнодушие, тупое остекленелое безразличие.
Что ж, понимал ведь, что силой, нахрапом истинную веру не воцаришь. Заставила клокочущая в раздорах Русь, пошел на принужденную меру – согнал и окрестил всех скопом. А остальное довершат сам Господь и время.
С неба срывался колкий, мелкий снег, хотя по календарям давно весна настала. Бравые мечники загоняли в студеную воду упорствующую, ревущую толпу, митрополит всех осенял святым крестом – пока им непонятным.
– Крещается великая Русь православная…
Такая вдруг тишина в душе. Не разберешь, усталость или благодать.
Часу не прошло – опустел берег, расходились по дворам промокшие, продрогшие люди. Всё так же глухо бормотала Почайна и рвалось клочьями снега низкое мглистое небо.
Одиноко стояла над стальной рекой женщина, что-то болезненно близкое, знакомое померещилось Владимиру в стане ее, в поникших узких плечах под темной, грубо тканой длинною накидкой; старческий платок у ней был надвинут на самые глаза.
– Кого ждешь? – Владимир окликнул ее бездумно, со скуки.
Откликнулась, как на сокровеный зов, издавна ведомый лишь двоим:
– Всегда тебя жду. И всегда буду.
– Горислава? Неужто ты?..
– Пришла креститься с твоим народом. Твой Бог справедлив. И между нами не хочу препятствий.
– Ты совсем одна? Как ты одолела дальний путь? – в голосе Владимира звучала искренняя забота и тревога, ненадолго позабыл он о своем обете держаться с нею равнодушно.
– Никому не сказалась. Оделась, гляди, как странница-простолюдинка. И пошла, Бог привел. От людей много добра видела. Жалостливы русичи.
– Не страшно тебе было?
– Мне бывает жить страшно, Владимир.
Молодую женщину в отяжелелом мокром платье била дрожь озноба. Чужих никого поблизости не осталось, и Горислава сбросила платок, распустила влажную косу.
– Тяжко Бог дается Руси. Молвят люди, ты огнем крестил.
– А иначе никак. Вовсе сжечь бы этот город, – сказал князь с внезапной ненавистью и горечью. – Сжечь со всей накопившейся грязью, злобой. Мне силушки пока еще хватает заново возвести.
«Говорил, что разрушит храм и в три дня возведет».
Над берегом кричали птицы. Тревожно заканчивался великий, на века памятный день. Взошла багровая луна и отразилась в черной зыби вод, как факел. Город молчал, стояли двое над вечною рекой, как будто венчанные перед небом.
Время подарило Владимиру и Гориславе почти неделю беззаветной, никем не потревоженной любви и покоя. Они вдвоем укрылись в одном из бесчисленных поместий в окрестностях Киева.
Пришла к нему незваная, босая за тыщи верст…
От этих звездных, заревых ночей понесла Горислава; зимой родит долгожданную дочку.
– Уезжай теперь, – решил Владимир.
Горислава не спорила с повелением любимого, не выпрашивала для себя другой судьбы. Ей захотелось лишь проститься с Киевом. Этот город не всегда был добр к полоцкой княгине, но стал ей привычным и тревожно близким, почти как вторая Родина.
Купола нового храма горели чистым, нефальшивым золотом, издалека приметные, сияли, как солнце, так, что больно глазам.
Могучий, ясный колокольный звон пролился на ошеломленный город, далеко разносились ликующие сполохи музыки, огненными птицами рвались звоны в горнюю высь. Вот тревожно, часто застучал набат, как бьется живое взволнованное человеческое сердце, а после вновь зазвучал плавно и светло; то плакал чуткий колокол, то несказанно радовался и надеялся. Музыка лилась на площадь с прозрачных вечереющих небес, как пламя, как расплавленное золото.
Горислава замерла, слушая.
– Что это? – спросила она, едва слыша собственный оробевший голос.
– Это славят Бога, – ответил Владимир, поклонился белокаменной церкви и неспешно осенил себя, а затем и супругу знамением креста.
– Подойдем ближе.
Семиглавый храм дышал небесной музыкой. Подняв голову, Горислава разглядела в узком стрельчатом окошечке колокольной башни звонаря. Это был худой юноша в льняной ветхой рубахе, с лицом нервным, искаженным, точно от затаенной боли. Руки его неистово и вдохновенно бились, сжимая грубые веревочные канаты, что приводили в движенье колокола; на шее отчаянно вздувались вены. Восторг и мучение сквозили в движениях его.
– Человек, сотворяющий такое, бессмертен, – сказал князь Владимир.
От дома, где Рогнеда-Горислава родилась, остались растащенные временем и ветром руины, жуткие рубцы разоренной земли, помалу зарастающие сорной травой.
Князь пожаловал ей усадьбу в безымянной деревеньке верстах в десяти от Полоцка, над Лебедь-рекой[10]10
название реки в произношении обтрепалось и превратилось позднее в Лыбедь
[Закрыть]. Там узнала Горислава чувство дома, кровно необходимое женщине, матери. Дом был построен ладным и надежным, подворье поросло чертополохом. Горислава любила этот цветок, упрямый, колючий, как ее судьба, и отчаянно рвущийся к солнцу. Стебли высоки, в ее рост – как будто стражники в узорных медных шлемах оберегали двор и ее маленький мир.
Горислава прогнала всю челядь, одну лишь стражу у ворот оставила ради покоя и безопасности детей. Ей радостней было самой управляться и в кухне, и в саду.
Младшая доченька, Предслава, топала по садовым тропинкам с восторгом человечка, не столь давно начавшего ходить. Серьезная светлоголовая девочка с недетским проницательным взглядом, лицом она сильно походила на великую русскую княгиню Ольгу, свою прабабку. Прамислава, которой минуло четыре, удивляла мать прирожденной женственностью, рано выказав страсть к шелкам и приучаясь вплетать цветы в косы. Горислава знала, что женская судьба несет в себе страдание, горькое зерно боли, от которого прорастает светлый плод жизни. Мужчинам проще, легче. Жалела дочерей и несказанно радовалась им.
За четверых сыновей тревожилась иначе, чем за девочек. Сегодня это дети, бьющиеся на деревянных мечах и для смеха седлающие по очереди огромную добродушную собаку, дети, мало знающие мир, и пока что в материнской власти их уберечь; а скоро станут отроки, соперники за проклятый княжеский престол.
Сильней всего боялась за Ярослава – увечье часто озлобляет людей. Мальчик рос скрытным, а силе духа и нрава его могли бы позавидовать старые воины.
Всех шестерых детей своих Горислава окрестила в православную веру. И из красного угла дома, строенного по-старому, по-язычески, глядели кроткие иконные лики Христа и Богородицы. Смуглая, ясноглазая женщина с младенцем на руках благословляла и берегла чужих детей, Заступница милосердная и вечная Небесная Мать всех живущих. Гориславу именно материнство научило искренней молитве.
Владимир приезжал нечасто, но ему всегда было спокойно и мирно в этой дальней усадьбе. Уезжал всегда до зари, не простившись. Когда впервые увидел он младшенькую, Предславу, девочка – было ей от роду года два – бесстрашно забралась к незнакомцу-отцу на колени и сказала внятно:
– Подари мне город.
– Настоящая княгиня растет! Моя кровь! – засмеялся Владимир. – Боже правый, как на бабку мою, великую княгиню Ольгу, похожа. Город тебе подарю, маленькая: это место отныне будет называться Предславино. Хоть невелик город, зато родной твой, а родина дороже казны.
Седьмым ребенком родилась девочка. Горислава ждала ее с любовью, и имя нарекла – Лада. Едва увидев малышку – слабенькую, ей даже дыхание давалось с трудом – мать неумолимо поняла, что болезное хилое сердечко не будет служить ее девочке. Горислава бережно прижимала к себе беспомощное тельце, боялась задремать, сомкнуть глаза. Грудь ее всегда была щедра на молоко, а нынче выжимались скупые, жидкие капли, как слезы.
Мать сама окрестила Ладу перед потемневшими от скорби иконами, в большом медном тазу, при заплаканных свечах. Сама и за крестную, а крестным отцом назначить пришлось брата новорожденной, Изяслава, которому минуло десять.
К заре следующего дня Господь забрал безгрешную душу.
Гориславе легче было бы плакать, но слезы скипелись намертво. Хоронила Ладушку в красивой ложбине меж двух ручьев, от запаха разрытой глинистой земли мучительная боль захлестывала горло.
– Отец приехал, – крикнул Изяслав, вбегая в дом.
Горислава поняла вдруг, что боится к нему выйти. Она теперь даже дневного света боялась, как недобитый зверь, хоронилась за опущенными шторами ото всех.
– Один или с боярами?
Недоставало только пира и гульбы сейчас.
– Один. Без друзей даже. И смурной какой-то.
Весть у него была и впрямь жестокая.
– Не знаю, что поделать, Горислава, – Владимиру хотелось расстаться достойно, избавить себя и ее от неприятных, унизительных сцен. – Надо мне иметь теперь одну жену. А ты женою мне не будешь. Ты хорошая, дай Бог тебе счастья…
Как в давние времена, коснулся рукой ее волос. Когда-то любил расчесывать девушке косы, особенно в темноте, когда под гребнем вспыхивают голубые искорки. Смеялся нежно: у тебя в косе светлячки живут…
– Не трожь, – вскрикнула Горислава и спешно набросила платок, алый с золотом, венчальный.
– Ты что?
– Ничего. Некрасивая я стала. Видишь, старая до времени. Половина косы выпала. Я вовсе боялась выйти к тебе, любимый, – и прибавила с желчной горечью: – Вот и прав, что бросаешь.
– Не свою волю творю.
А когда уезжал, обернулся на пороге, странно и горестно помедлил и благословил Гориславу.
– Оставайся с Богом. Любил тебя и люблю.
Опальная княгиня стала мишенью для многих злых праздных языков. Услужливая крысья рука дописала в летопись подлую легенду о ее попытке убить князя Владимира – надо ли говорить, что злобная эта придумка не имела ничего общего с правдой.
Кого и мыслила убить – себя саму. Смерть не представлялась Гориславе никаким зримым или осязаемым образом, а лишь как вечный сон, желанный покой и забвение. Из языческих сказаний о посмертной жизни ей ни одно не казалось близким к правде, в православные же традиции поминовения едва начала вникать.
Наверное, и не любовь осталась у нее – в угаре, в аду их дней любовь не выжила бы, – а всего верней, инстинкт волчицы, оберегающей свой род и свое логово.
… Солнце, как раненая птица, дрожало низко над краем неба, окрасив кровью облака. Старый бор душистым крепким кольцом окружил княжну, сырой прелой листвой грустно пахла роща. Колкие иголочки сосен, устилающие поляну, ласкались к босым ногам. Ладонь Гориславыы жгли несколько кровинок ландыша. В чащобе сумрачной взлелеяла земля белые цветы, и цветы умерли, опали, дав место зрелым и страшным ягодам. Горислава понимала толк в травах, отчасти по затейливым книгам волхвов училась еще юной, отчастри природный сокровенный дар привел ее к знанию; она различала дух и голос каждого стебелька, читала их, как древние буквы в мудрой ниге природы. Есть для жизни травы, спасающие от хвори, много их, про всякую болесть припасены. А иные – для смерти.
Глядела в бездонное небо, как глядят в гибельный колодец, завороженно и бесслезно, перед тем, как сорваться вниз. Горислава подносила горсть ландышевой гибели к губам и медлила.
– Почему не приказал меня убить, коли не нужна?! – с отчаянием бросила она в сумрак.
Молитвы старой Марфы вспомнились, как наяву, и то, как заглянула тогда за край – со временем память об этом милосердно сгладилась, поблекла.
В горестном крике ночной птицы Гориславе почудился детский плач. И впервые за много дней смогли потечь слезы, тяжелые, как расплавленное олово.
Смертоносные ягоды кровавыми слезинками упали в землю.
IV
Упала Горислава на колени перед печальным ликом назорянской Девы.
– Мать Богородица, возьми меня насовсем к себе, прибери душу мою.
Случается, что люди приходят к Господу, когда не остается больше опоры и утешенья на земле. В такой час если не к Богу придешь, то бездна затянет; кому отчаяние открывает свет крепкой, небоязненной веры.
А по весне, накануне Благовещения, приснился ей с рассветом юный ангел. Велел:
– Сотвори обитель Бога на земле, обитель надежную для всех гонимых и сирых. В церковь придешь и уйдешь. Обитель нужна, монастырь. Как в Греции, как в земле Иудиной – Иерусалиме. Неужто Русь слабей и хуже тех держав? Монастыри нужны оберегать святую Русь державную, великомученицу Русь.
Проснулась, а у ложа ветвь цветущего шиповника. Откуда, неведомо. И солнце смеется в чистое окно.
Среди всех земель, присоединенных к великому русскому княжеству, Горислава нашла добрый городок Заславль, куда нетруден путь от Полоцка по Лебедь-реке.
Золота никогда не любила Горислава, казался ей драгоценный металл злым и фальшивым. Понимала серебро, чистое и скромное, носила тоненький серебряный крестик. А золотые женские забавки, что как змеи обвивали ей горло и запястья, без сожаленья отдала на купола новой церкви в Заславле; слыхала, что несколько благочестивых боярынь поступили так же.
Как строящийся ковчег на белом берегу, стояла в солнечных лучах деревянная церковь, еще таинственно и ремесленно рождалась, окруженная лесенками, источающая терпкий березовый дух, белотелая; купол лежал еще на земле, как опрокинутая чаша, увенчанный крепким медным крестом.
Когда Горислава подошла, храмостроители – несколько мужиков в темных от пота рубахах – обедали, разложив нехитрую снедь прямо на траве подле церкви.
– Садись с нами, хозяюшка, – ласково сказал старшой и подал ей ломоть ржаного хлеба, посыпанный крупной солью.
– Благодарю.
Ей пододвинули щербатую чашу с перестоявшей, душистой домашней брагой.
– Чем богаты, тем и рады.
– Вот ведь и красота, – раздумчиво сказал светло-русый мастеровой, по виду – варяжского племени. – Бревнышко к бревнышку… Как в небо мостик… Мало сил у человека, а вот трудись, что муравей – гляди, какое чудо строится… Еще резьбу пустить, узор, виноградинки выточить, да пару голубей над окошками…
– А не больно по-язычески такое мастерство смотреться станет? – перебил старшой. – Всё ж новая вера.
– В самый раз. Мастерство Бог любит.
– Работы вам прибавится, – сказала Горислава со странным весельем. – Надо построить несколько домов прямо на подворьи церковном. Как будто Божьи дома. Пусть вдовы, или изгнанницы, или просто девы, любящие Бога сильнее, чем мир, приходят сюда навечно. А зовется – женский монастырь.
– Чудное дело… – протянул мастеровой-варяг.
– Не будет этого, – прозвучал спокойный голос.
Горислава обернулась. Позади нее стоял священник, росту невысокого, суровый, и бросилось ей в глаза, что сукно его рясы худое, в прорехах кое-где и залатано по черному золотой нитью, грубыми, заметными стежками.
На всей земле христианской святились уже несколько монастырей, все до единого мужские – в Греции, Иерусалиме, в Болгарии даже и в бессчетных малых княжествах.
– Не хочешь ли ты дать право женщинам служить Богу? – спросил священник. – Не было так и не бывать вовек.
– Все вы рождены от женщин, нечем кичиться мужскому роду, – ответила Горислава.
– Моя бы воля, я б вас, баб, и вовсе из церкви прочь за косы выволок. От вас весь грех берет начало. И Библия говорит, Ветхий завет, что женщина – сосуд греха и искушения.
Вечный спор, бессмысленный, как и все вечные споры.
Горислава улыбнулась подчеркнуто ласково, как по обыкновению она победно улыбалась тем, кто пытался ее так или иначе унизить:
– Не забывайте, что и Богородица была женщиной.
Касательно женского монастыря Гориславе пришлось в тот же день снарядить гонца с письмом к митрополиту Михаилу. Смешно и горько, с каким подчас остервенением люди делят Божьи блага на земле, точно разбойники.
Ответа дождалась через неделю, почти к самой Пасхе. Много раздумав, митрополит благословил. Отвоевала Горислава для женщин право зваться Божьими дочерьми, светлое, самое смиренное право, не жаждущее ни власти, ни богатства.
К осени, в канун Успения Богородицы, Горислава приняла иноческий постриг. По обычаю, приняла новое имя – Анастасия. Второй раз отрекалась от себя, меняя имя и судьбу.
Умирала Богоматерь, земная терпеливица Мария, и возносилась в вечные небеса. В Успение умирала и княгиня полоцкая, умирала для мира и для всех предавших и покинувших ее. Воскресла с новым именем, невестой Божьей. Смиренницей жить здесь станет. В узкое оконце кельи ей стучалась жаркая рябина, угольями забытого костра горели сквозь дни хмурого ненастья грозди горьких ягод, безжалостно напоминая осень в Пуще…
Одно утро привело к заславскому монастырю путника на рыжем, как пламя, коне. Князь Владимир всегда любил огневую масть – и лошадей, и псов, и наложниц. Он спешился у ворот и спросил проходившую мимо молодую черницу:
– Покличь Гориславу.
– Не знаю такую. Который год здесь служу Господу, а такой не знаю.
– Основательница этого монастыря. Жива она?
– Инокиня Настасья?
– Должно быть, так ее теперь зовут. Покличь.
– Сейчас.
Вышла к нему, неузнанная в черных одеждах, родная. Владимир обнял любимую порывисто и неуверенно – так обнимают слепые.
– Ты постарел немного, – сочувственно заметила Горислава. Время нелегкой ношей ложилось на плечи им обоим. Владимир заметил, как спокойно она встречает его – ни удивления, ни упреков. Как будто ждала именно сегодня. И вдруг понял: каждый день ждала.
– Родная моя. Такая ложь во всем. В державе, в людях. Поставил им церкви… Да только у кого в сердце Господа не было, у того и в церкви не будет. Думают от Бога откупиться свечами пудовыми. У многих деньга заместо совести.
– Ты много сотворил. Тебя потомки помнить будут.
– А зачем это, – невесело усмехнулся князь. – Что нам от их памяти.
С высокой звонницы донесся благовест. Над просторным двором монастырским кружили сизые, как ладан, голуби.
Владимир сжимал ее ладони судорожно и горячо, всё время, пока боль свою ей исповедал, – и вдруг бережно поднес к губам. А в первый раз поцеловал ей, юной, руку когда-то бесконечно давно на окровавленных руинах Полоцка.
– Ты настоящая. Может, единственное настоящее, что у меня было.
Горислава откликнулась, повторяя их давнюю заветную, простую, как родниковая живительная вода, клятву:
– Знай, что я всегда тебя жду. И всегда буду ждать.