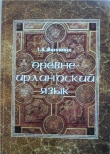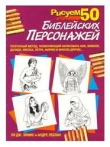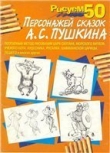Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
Глава девятнадцатая
ЧУЖОЙ ПРАЗДНИК
I
Если бы кто-либо решился назвать Гришу Гузкина эмигрантом, если бы сыскался такой невоспитанный человек, то он немедленно бы получил отпор. Случались, случались порой такие казусы: подходил к художнику прыткий журналист с бестактным своим вопросом – но тут же получал он исчерпывающий ответ и ретировался, краснея. Попыхивая короткой трубкой, да поглаживая французскую бородку, Гриша Гузкин в таких случаях отвечал, что в сегодняшнем глобальном мире, когда все – ну, просто решительно все – связано меж собой, понятие «эмигрант» теряет всякий смысл. Ротшильд живет в Англии, бизнес имеет в Америке, гостиницами владеет во Франции, а алмазными копями в Южной Африке – и он, что, по-вашему, эмигрант? Откуда и куда он эмигрировал, уточните, пожалуйста. Или, допустим, взять популярного музыканта: спел песенку там, спел здесь, пожил месяц тут, пожил там – это как понимать: эмиграция? Иной термин здесь уместен, а именно – гражданин мира. Гриша прибавлял также, что нынче и границы уже открыты, нет пресловутого железного занавеса, отсекшего русских мыслящих людей от духовного источника, от Запада; нынче любой студент едет на каникулы на Майорку и ныряет в средиземноморскую волну; так о какой же эмиграции может речь идти, pardon moi? Или такой фактор рассмотреть: ну, уехал, допустим, отдельный интеллектуал на пару лет на Запад – а потом взял да и вернулся. Он, что – реэмигрант или попросту путешественник? Скорее уж путешественник. Вот ведь в девятнадцатом веке ездили отечественные мыслители и мастера духовного на Запад и обратно, катались взад-вперед и это было нормально, не так ли? Тургенев, например. Или Петр Яковлевич Чаадаев. Чем не образец для подражания, скажите? И в качестве самого решительного аргумента Гриша предъявлял собеседнику толстый том сочинений своего великого друга, Бориса Кузина – тот самый нашумевший «Прорыв в цивилизацию». Ведь черным же по белому написано, что Россия есть часть Европы. Доказательства нужны? Тьма доказательств – автор все собрал и подытожил: и развивались мы, русские, по европейскому образцу, и культуры наши схожи, а если случались с нами беды – так пожалеть нас надо, а не отлучать от истории Европы. Да, татарское иго нам изрядно подгадило, отбросило прочь в развитии (Б. Кузин трактует это как «цивилизационный срыв»), большевики-паскуды уничтожили екатерининские плоды просвещения (еще один «цивилизационный срыв»), но нельзя же выключать из семьи европейских народов нацию на этом лишь основании. Если член семейства, допустим, подцепил дурную болезнь, что же – не считать его более родственником? Гриша Гузкин, пускаясь в такие дискуссии, обычно начинал говорить на кузинский манер, совершенно перенимая интонацию московского ученого. «Давайте зададимся вопросом, – говорил Гузкин обалдевшему журналисту, – а что, собственно, происходило со средневековой Испанией под властью мавров? А? Не цивилизационный ли это срыв, n'est pas?» И Гриша откидывался на стуле и с удовольствием обозревал смятенного журналиста, не находящего внятных аргументов. «Скажем, Ортега-и-Гассет, – гнул свое Гузкин, цитируя своего друга Кузина абзацами, а порой и страницами, – называл приход фашизма на Западе „вертикальным вторжением варварства“. Я же предпочитаю именовать такие исторические неудачи – цивилизационными срывами. Вы следите за моей мыслью?» У интервьюера глаза на лоб лезли от эрудиции Гриши Гузкина. Если и собирался какой-нибудь зоил из многотиражки фамильярно поименовать Гришу эмигрантом – так ведь не ожидал же он получить столь квалифицированный отпор. И весь облик художника: его вальяжно скроенные штаны, вручную сшитые ботинки, шелковый шейный платок, прочие предметы западного туалета – дорогие и изысканные, его глубокомысленное лицо в аккуратно подстриженной бородке – все в целом изобличало личность европейского покроя, человека, стоящего вровень с цивилизацией.
Впрочем, объективности ради надо добавить и следующее. Доказывая при случае (и доказывая убедительно) историческую принадлежность России к Европе, Гриша тем не менее строго порицал современное состояние России, да и прежней ее истории нимало не одобрял. И что там было одобрить, если вдуматься? Заслужила ли эта история одобрение человека просвещенного? Его отношение к бывшей Родине (а, впрочем, отчего же бывшей – не эмигрант же он, в самом деле) было противоречивым. В самом деле, если Россия – естественная часть Европы, то, пожалуй, и бранить ее следует наряду с прочими европейскими государствами, а если выделять ее для некоей особенной брани, то, значит, она – не вполне Европа? Сам Гузкин в беседах своих с единомышленниками (давними жителями Парижа – Ефимом Шухманом, Эженом Махно, Кристианом Власовым и Жилем Бердяеффым) характеризовал свое отношение к России как амбивалентное. Сидя за аперитивом в баре дорогого отеля «Лютеция», друзья порой пускались в эти дискуссии, которые Шухман важно именовал «историософскими» и «культурологическими». С одной стороны да, говаривал обыкновенно Гузкин, Россия, несомненно, часть Европы – ну что тут скажешь? Часть – она и есть часть, одним словом – Европа, мы же с вами русские европейцы, n'est pas? Однако часть эта какая-то не вполне такая, как надо бы, убогая какая-то часть, неполноценная. Несостоявшаяся история, как любил вставлять в таких случаях Ефим Шухман, колумнист из «Русской мысли», а Кристиан Власов, агент по продажам из торгового дома Dior, тот только руками разводил: странно еще, что эта страна уцелела после кровопусканий, учиненных кремлевскими людоедами. Эжен же Махно, мужчина яркого интеллекта, но без определенных занятий, стучал лишь кулаком по столу: какую страну погубили, сволочи! А было ли там нечто особенное? – задавал каверзный вопрос Ефим Шухман, и в язвительном анализе своем безжалостно указывал дурные свойства России, присущие ей от века. Что же до Жиля Бердяеффа, торговца красным деревом, внука известного философа, то он участия в дискуссиях не принимал: говорил, что дед его в свое время выговорился за всю семью – зачем ему, Жилю, слова тратить на очевидные вещи? Да, уехал его дед из страны, потерявшей Бога и духовность. И точка.
Гриша ценил эти разговоры: после них крепла уверенность в том, что не зря он уехал из России. Был момент, когда он заколебался. Былые его товарищи, те, с кем делил он горький хлеб подпольной жизни, слали вести о своих шальных заработках: Пинкисевич рассказывал о купце Левкоеве, скупавшем его полотна; парижская выставка Дутова вся была раскуплена дельцами из России; говорили о банкире Балабосе и о его коллекции. Дела у самого Гузкина стояли: барон фон Майзель, с тех пор как Гриша стал жить с его дочерью, картин не покупал. Да что ж это такое, спрашивал себя Гриша в досаде, не поспешил ли я?
– А цены? – ревниво спрашивал Гриша у своих российских коллег.
– Охренеть, какие цены, – горделиво отвечал Пинкисевич.
И настроение у Гриши портилось. К тому же приехавший к нему в гости Борис Кузин рассказал о семикомнатной квартире на Патриарших прудах, что досталась Диме Кротову, безвестному журналисту из «Европейского вестника».
– Неужели семикомнатная?
– Да, представь себе, и окнами на пруд.
Неприятно, согласитесь, слышать такое. Да еще дошли слухи, что новомодный художник Сыч обзавелся дачей в Переделкино. Совсем скверно стало на душе у Гриши. Лишь когда обрушился на Россию экономический кризис, когда рассыпались в прах иные состояния, а банки прекратили выплаты, когда российские друзья прислали отчаянные письма, лишь тогда Гриша вздохнул с облегчением: не ошибся. Да еще и опровергли слух о Сыче; нет там и в помине переделкинской дачи, просто в гости его позвали пару раз, и дело с концом. И вообще, кажется, все там расстроилось с его, Сычовым, сомнительным творчеством. Одним словом, напрасно волновался Гузкин, обошлось. Чего еще можно было ждать от этой страны? – радостно спросил он Ефима Шухмана, и тот, покачав головой, подтвердил: решительно нечего ждать, гиблое место. Постепенно, однако, дела в России выправились, какие-то банки обанкротились, но иные и выстояли; с купцом Левкоевым ничего особенного не произошло, по-прежнему он удивлял Россию и Запад размахом и роскошью. Похоже, особой беды со страной на этот раз не стряслось, и снова Гришу стали посещать сомнения. И сколь же полезны были ему беседы с парижскими приятелями, сколь дороги были ему шухманская трезвость и власовский скепсис.
Навещая Гришу и Барбару, Ефим докладывал им последние российские новости, считанные с редакционной телетайпной ленты, и вместе с Гришей сокрушался уродливости бытия, безнадежности процесса перемен.
– Как, еще и этот завод встал? Обанкротился?
– Разворовали, полагаю. Они ведь как теперь делают в этой стране? Искусственное банкротство – потом приватизация – продажа по частям – перевод денег в офшорные компании. И следов не найдешь!
– Чудовищно, просто нет слов.
– Как, опять пожар на зернохранилище?
– Да, снова пожар.
– Просто немыслимо. А как же люди? Голодные, как же?
– Такая уж страна!
– Что ты будешь делать! Одно к одному!
– А кредиты Мирового валютного фонда?
– Похитили! Украли!
– Да неужели?!
– Все подчистую сперли!
– А Чечня? Не утихает война, как я погляжу?
– Убивают! Режут! Насилуют!
– Варвары! Поразительно, как низко там ценят жизнь!
– Буквально ни во что: ниже, чем у нас шукеты.
– Какие шукеты?
– Это такие сладкие булочки к угреннему cafe latte. Как, вы не пробовали шукеты, Гриша? Я вам удивляюсь.
Снова и снова анализируя историю России, русские европейцы приходили к неутешительным выводам: стоит лишь на мгновение расслабиться и поверить в Россию, как она начинает вести себя еще хуже прежнего. Поневоле задашься вопросом: а стоит ли вообще поворачивать голову в ту сторону?
Негодование русских парижан можно было понять. Рассуждая здраво, они готовы были (вместе с Мировым валютным фондом) выдать России некий ограниченный кредит доверия и даже поименовать ее частью Европы, но ведь и Россия со своей стороны должна была бы нечто ответное сделать. Мы, рассуждали Гриша с Ефимом, готовы поспособствовать, пожалуйста; но и Россия должна показать, что вера в нее не напрасна. Так врач осуществляет лечение больного, в надежде на то, что и тот приложит добрую волю к процессу выздоровления. Скажем, дают больному лекарство, а он хотя бы обязуется его регулярно принимать, лежать в постели, прислушиваться к советам и стараться поправиться. Но напротив того – все происходящее в России явственно указывало Грише Гузкину и Ефиму Шухману на безнадежность пациента. Не хочет подлец поправляться – хоть антибиотики ему коли, хоть горчичники ставь. Мало того, и благодарности за целительные советы не испытывает, каналья, лежит, как бревно, – и все! И помирать не помирает, и не поправляется – такой вот урод. Опять все вкривь пошло, чуть было наметились демократические реформы – и испарились! Ну, казалось бы, вот ведь дали возможность народу исправить ошибки – так поди ж ты! Сызнова на те же самые грабли наступают! Ну что с этим народом будешь делать? И Ефим Шухман скорбно качал головой.
– Предлагают командировку в Москву, – делился Шухман, – ехать или нет? Может случиться буквально что угодно. Это пороховая бочка.
– Порох давно отсырел, – морщился Гузкин, – теперь это бочка фекалий. Взорваться не может, но здорово воняет.
– Предлагают провести конференцию, сделать программу на телевидении. Заманивают. Я, со своей стороны, понимаю их. Где им взять людей, не отравленных идеологией? Однако что прикажете решать мне? Говорят, там любопытно. А что может быть там любопытного?
– Решительно ничего. К сожалению, обстоятельства таковы, что иллюзий у меня не осталось. Ни в коем случае нельзя ехать, Ефим, – говорил Гузкин, – еще Мандельштам написал: нет обратного пути от бытия к небытию.
– Как это верно, – вздыхал Шухман, – вернуться в ад невозможно: и помыслить трудно, что опять идешь по кривым мостовым, слышишь хамскую речь.
– Однако, – говорил Гриша, сострадая покинутой родине, – вы могли бы многому их научить там, Ефим.
– Бесспорно. Всегда остается надежда на то, что сумеешь убедить примером. Но боюсь, надежда призрачна. Я им сказал так: извольте, я соглашусь прочесть две-три лекции. Однако гонорары мои весьма высоки. Учтите, я ценю свое время.
Ни Шухман, ни Гузкин, ни (тем более) Эжен Махно или Кристиан Власов никак не рассматривали своего возвращения в Россию.
– Мне, знаете ли, хватает России, воплощенной в garson Алешка из ресторана «Навигатор», – говорил обыкновенно Ефим Шухман, – большего ужаса и не требуется. Посмотришь на эту красную морду, вспомнишь толпу на московских улицах, – и ностальгия проходит.
– У меня и не было ностальгии. Что я там забыл чтобы жалеть? Мавзолей с мумией? Ха! А что касается этого Алешки, – и Гузкин морщился, совсем как барон фон Майзель, описывающий недостаточно натуральные продукты, – Lieber Gott! Позор, что это быдло воплощает нацию. Вот что осталось от России – такие алешки!
– Ты рассказывал, – говорила в таких случаях Барбара, – что в России еще сохранились интеллигентные люди. Твой друг Кузин, например.
– Ah, so. Борис – уникальный для этой страны человек. Трагедия русского общества в том, что подобная личность не нужна – Россией заправляют эти самые алешки. Сверху донизу – одни алешки!
Делая заказ русскому официанту в ресторане, Гузкин никогда не признавался в том, что понимает его варварский диалект, и представлялся парижанином. Худшего унижения нет, чем признать родство с этим жалким человечком, прилетевшим к цивилизации, точно муха на компот. Неприятно смотреть, как юлит и пресмыкается эмигрант, желая понравиться клиенту, как заглядывает в рот богатым парижанам, как провожает их до двери, выклянчивая на чай. Алешка старательно складывал иностранные слова, испрашивая у Гузкина лишний франк, и Гриша брезгливо совал ему монету. Ну, вот не может холоп, органически не может научиться гордой повадке французского garson, который протягивает руку за чаевыми с достоинством и властно. О, это проклятое советское холуйство, это рабская искательность, как раздражает она в былых соотечественниках. Не иметь бы с ними ничего общего. Посмотришь на этих неопрятных наташ и маш, метущих полы в парижских бистро – и с души воротит. Вот они, униженные, зависимые, бесправные, не научившиеся, как себя вести в приличном обществе. Эх, корявый русский человек, кому ты нужен на иных ролях, кроме как официантом и дворником? Тут хоть на санскрите заговоришь, лишь бы не опознали в тебе славянское прошлое. Ефим и Гриша, коли случалась с ними такая оказия и в brasserie, где они пили кофе, обнаруживался русский официант (а сейчас в Париже полно и сербов, и украинцев, и русских – много всякой славянской сволочи понабирали на работу), немедленно отсаживались за другой столик, чтобы не дай бог не зацепил их своим панибратством соотечественник. Есть в русских такая черта: заслышит эдакий ярыжка русскую речь, тут же подойдет, и давай на весь зал орать: а вы что, тоже русские? Братцы! Родненькие! Да мы земляки! И хочется сказать ему: ну какой я тебе земляк? Ах ты, хамская рожа!
II
Понятно, что подобное чувство вызывали у Гузкина не все подряд русские, но те беженцы, которые образовывали свои затхлые кружки, те плебеи, что селились в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, в Берлине – в Кройцберге, а в Париже – в 19-м аррондисмане. В таких русских коммунах говорили по-русски и не освоили язык цивилизованных людей, по-прежнему подавали борщ и не выучились готовить луковый суп, дедовским способом варили пельмени и чистили селедку – и знать не знали о фрикасе из нормандского барашка; видеть таких несовершенных людей было противно. Как-то не особенно сочетались они – русские беженцы с их примитивной (и часто некрасивой) биографией – и цивилизация, окружавшая их. Даже обидно делалось за старые камни Парижа, изгаженные толпой побирушек, за серую розу Парижа, окруженную роем навозных мух. Вот вздымается над Сеной гордый профиль Нотр-Дама, вот пронзает он шпилем своим молочное парижское небо, а стоит подле собора Алешка и в носу ковыряет. А если сто таких алешек приедет и разом примется ковырять в носу? Или тысяча? Страшная вырисовывается картина. Им, алешкам этим, даже трудно представить себе, что в этом же городе, в 16-м, допустим, аррондисмане или в предместье Сен-Жермен живут совсем иные, чем они, люди – цивилизованные, приличные; могут ли они хотя бы расчислить дистанцию меж собой и, скажем, Аланом де Портебалем, коллекционером, бароном, просветителем? Понимают ли они, наплюхивая в щербатый стакан водку, разницу между Шато Брион восемьдесят девятого и девяносто пятого годов? Догадываются ли хотя бы о пропасти – нет не финансовой, но культурной пропасти, – разделяющей их поганый быт и жизнь людей, погруженных в вековую культуру? Посещая особняк на рю де Греннель, Гузкин поражался вкусу, с которым обставлено жилье барона. Даже Барбара, даром, что сама дочь барона и видывала всякое, даже она шептала Грише на ухо: «Все-таки французский вкус это французский вкус, это, mein Schatz, нечто особенное». И действительно, было чему поучиться. Если бы кто хотел постигнуть великое искусство интерьера, ему бы следовало отправиться на улицу Греннель, подняться по истертым гранитным ступеням, помнящим ногу баронских предков, войти в огромные резные двери. Пройдя холл с вазами цветов и светильниками в виде арапчат, посетитель видел высокие комнаты, увешанные темной живописью, низкие столы с черными мраморными столешницами, по которым были небрежно расставлены морские раковины, старинные музыкальные инструменты, притаившиеся в темных углах залов, мраморный камин с гербом де Портебалей, брошенный на канапе плед, забытые ноты. Словно вошел гость не совсем вовремя и застал типическую домашнюю картину: хозяин лежит под пледом, читает партитуры, греет ноги у векового камина, проглядывает книги с философическими этюдами. Книги, сокровища средиземноморской мысли, – главным в доме, конечно же, были книги! В гигантских шкафах дремали манускрипты в кожаных переплетах, а на столах были раскиданы книги по искусству и философии, переложенные закладками. И столько было ненарочитого изящества в обстановке, столько простоты и значительности, что казалось: именно так было в этом особняке всегда – и великий предок барона, Жоффруа де Портебаль, тот самый, что отличился в альбигойском крестовом походе под командованием де Монфора, так же небрежно укрывался пледом у камина и рассеянно перелистывал фолианты. Ах, ну, понятное дело, не этот конкретно альбом – это, кажется, альбом Ле Жикизду, не этот конкретно том – это ведь, если не ошибаюсь, том сочинений Дерриды, и к тому же неразрезанный, не успели еще его прочитать, – но в целом атмосфера, безусловно, не поменялась. Общая гармония пространства была столь чудесно организована, что прислуге оставалось лишь поддерживать порядок: стирать пыль с раковин, поправлять покосившиеся картины, время от времени переворачивать страницы в столь естественно раскрытых книгах, что лежали на столах, чистить плед и сызнова выкладывать его небрежно скомканные складки.
Предка своего, Жоффруа де Портебаль, и его славную крестоносную историю описал Грише хозяин дома, и пораженный Гриша пересказал эту повесть своим парижским приятелям. Беседа, последовавшая за этим рассказом, затронула проблемы наследия, легитимности власти, кастовости правящих классов.
– Естественно, что в такой семье, – сказал Жиль Бердяефф, – каждый будет яркой личностью. Финансист, философ или коммерсант – безразлично: ребенок станет лидером.
– В цивилизованном обществе, – добавил Ефим Шухман, – правящий класс должен формироваться из семей, чья история – есть история страны. Если хотите знать мое личное мнение, я счастлив, что живу в стране, которой управляют потомки крестоносцев. Собственно говоря, судьба рода Портебалей совпадает с судьбой Франции – неудивительно, что барон чувствует ответственность за Францию. Такой человек, полагаю, не украдет кредит Мирового валютного фонда. А? Как, по-вашему? – присутствующие подумали и подтвердили, что Алан де Портебаль нипочем бы не спер кредит МВФ; впрочем, поскольку сам Портебаль на совещании не присутствовал, его мнение узнать не пришлось. – Я даже думаю, что де Портебаль из своих средств охотно приплатит, лишь бы Франция жила достойно. А Советская власть нагнала в историю дворовой челяди – а челяди все равно, что со страной будет. Кто такой Брежнев? Дяденька с густыми бровями – вот и вся информация. Кто такой Путин? Аноним. Пытаются придумать ему биографию – три книжки написали, а биографии не получили. И у страны с таким лидером биографии не будет.
– Я придаю большое значение роду, – сказал Власов. – Разве я не говорил вам? Наш род восходит к Гедиминовичам.
– Дворяне, – заметил Бердяефф между прочим, – в эмиграции получили особое написание фамилий. На конце пишется двойное «ф», n'est pas?
– Выходит, ты – дворянин, а я – нет? – спросил Власов, и в голосе его звякнул металл, – какой из тебя дворянин? Дворянин должен сражаться!
Жиль Бердяефф на всякий случай отодвинулся от Кристиана Власова и сказал осторожно:
– Дворянин с кем попало драться не станет.
– Мой дед с комиссарами дрался! – сказал Власов, – а твой в советское посольство на поклон ходил!
– По-моему, – сказал Эжен Махно, – породистый или беспородный один черт. Как залезет наверх – превратится в скотину: иначе быть не может.
– Предпочитаю, чтобы обществом командовали рыцари, – заявил Гузкин, – нежели гэбэшники.
– Есть разница? – спросил Эжен Махно.
– Минуточку, – сказал Ефим Шухман, – одну минуточку! – Как боялись этой реплики оппоненты Шухмана в телевизионных дискуссиях! Если Ефим Шухман морщил лоб и говорил «минуточку!», то оппонент понимал, что грядет буря – Шухман, точно коршун, нападет на любую ущербную концепцию, – минуточку! Значит, институт рыцарства (то, чем славна европейская цивилизация) можно приравнять к институту на Лубянке? Неужели рыцарей можно сравнить с беспородными тюремщиками?
– Рыцари, – сказал Эжен Махно, – и есть офицеры госбезопасности.
– Осторожно, – сказал Ефим Шухман, – это путь культурных спекуляций!
– Нет, в самом деле, я читал, что дворянами в России делали опричников. Опричнина – это госбезопасность, правда? А разве в Европе было по-другому? Монфор – он офицер госбезопасности, вот и все. Я, признаться, думал, что гэбэшники правят миром давно.
– Давно?
– С самого начала – разве не так?
III
Вне зависимости от того, прав был Махно или Шухман, но находиться в особняке Портебалей, где каждый угол дышал вековой культурой, было приятно. Гриша с Барбарой проводили долгие часы на улице Греннель. Посетители высоких комнат обыкновенно усаживались у камина на низкие неудобные стульчики и в ожидании угощения предавались философическим беседам.
Тысячу раз сказал Гриша спасибо Борису Кузину за его уроки, а также Оскару и Барбаре за те необходимые наставления, что удачно подготовили его к европейской жизни. Теперь он легко мог поддерживать беседу практически на любую тему, и его находили остроумным собеседником. Он научился молчать, когда не знал, что сказать, и молчать с таким видом, что все полагали его главным специалистом по дискутируемому вопросу. Он научился переводить разговор туда, где ему будет нетрудно рассказать о своих знаниях. Прочитав новую книгу, которую рекомендовали в телепередаче, он всегда умел заговорить об этой книге и, в зависимости от того, как к ней относились в том обществе, где он находился, обнаружить в книге достоинства или недостатки. Это не было лицемерием – но просто обыкновенным искусством общения: не считается ведь лицемерием говорить «здравствуйте» тому человеку, о здоровье которого ты не особенно печешься? Он научился хвалить сигары у мужчин и сумочки у женщин. Он понял, что всегда надо оглядеть и похвалить комнату, где тебя принимают, потому что интерьер – лицо хозяина. Он понял, что надо узнать, где проводят лето хозяева, и похвалить эти места. Он понял, что интерес к его родине, России, уже несколько угас, и бестактно постоянно возвращаться к русскому прошлому. Он научился выбирать темы для беседы, а это было непросто. В конце концов, он понял, что надо говорить о политике, но говорить избирательно: всем интересен Ближний Восток, но неинтересна Африка; сейчас в моде Китай, но уже не надо говорить о России; Нью-Йорк всегда обсуждают с восторгом, но рассказывать в Париже о Берлине – глуповато; разговор об Италии уместен всегда, об Англии – в редких случаях. Даже супруга барона де Портебаля, строгая Клавдия, и та удостаивала его беседой. Клавдия, урожденная графиня Тулузская, знатностью не уступала Портебалю, напротив – превосходила. Алан, мужчина представительный, отступал на задний план в присутствии жены. Редкий гость удостаивался ее беседы, и симпатии она распределяла так же строго, как места за столом. Гришу она выделила и усадила рядом с собой.
– Ваши предки знали друг друга? – спросил ее Гриша.
– Чьи предки?
– Ваши прадеды – и прадеды Алана, тулузские графы и де Портебали. Могли они быть знакомы девять веков назад?
– Какая чушь, – Клавдия сдвинула брови.
– Но ведь такое возможно?
– Выдумки нувориша, – сказала графиня Грише. – Девять веков Портебалям? Не смешите меня. Это купленное баронство, и выслуживались они интригами; такие гербы зарабатывают не шпагой. Это дворяне с резиновым позвоночником, всегда готовые поклониться сильному.
– И не было никакого Жоффруа де Портебаля?
– Никогда не существовало.
– Как это – не существовало?
– Не было такого в природе. Крестоносцы были, и Монфор был, а Жоффруа в природе не было. Алан любит разыгрывать своих гостей. Этот дом купил мой первый муж, швейцарский банкир. Вам бы он не понравился, Гриша. Скучный человек, но, по крайней мере, он не врал. Я имею в виду, – поправилась графиня, – не врал никому, кроме своих клиентов.
– Как жестоко вы говорите.
– Отчего же. Я с симпатией относилась к Ролану. И к Алану отношусь хорошо. Но шутка с Монфорами – глупая шутка. В моем доме о Монфорах не говорят.
– Неужели, – всплеснул руками Гриша, – почему так строго?
– Потому что Симон де Монфор сжег Тулузу, фьеф моей семьи.
– Что, простите, сжег?
– Фьеф нашей фамилии.
– Ах вот оно что. Ah, so. Понимаю, – сказал Гузкин, который абсолютно ничего не понимал, – вот, значит, как дело обстоит.
– С чем бы это сравнить. Вы, конечно же, ненавидите Сталина?
– Да, – сказал Гриша, решив раз и навсегда разместить свою ненависть в эмоциях, направленных на давно умершего человека. Было очевидно, что порой даже в воспитанном обществе требуется выказать убеждения и страсть и Сталин подходил как нельзя лучше для таких случаев, – Сталина я страстно ненавижу.
– Значит, вы понимаете, что существуют вещи, неприятие которых есть дело чести.
– Как, простите, – переспросил Гузкин, – pardonnez-moi? Чести?
– Да, чести.
– Ah, so.
Единственный вывод, который напрашивался, был следующий: уж коли в приличном цивилизованном обществе даже столь древние распри имеют значение, то не пристало ли и уроженцу славянских территорий положить некий барьер между собой – и тем туземным населением, которое по месту рождения ему родня – но недостойно его общества? Если, допустим, графы Тулузские не считают для себя возможным общество Монфоров, людей также родовитых, то уж тем паче ему, Грише, не пристало якшаться с каким-нибудь Алешкой. Надо просто избегать этих русских мест, решил про себя Гриша, не дать себе испачкаться. Тем более что есть такие дома, как этот. Кто бы его ни приобрел – швейцарский банкир или крестоносец, а дом выдающийся.
Барбара, как заметил Гриша, испытывала неудобство от присутствия графини.
– Ты ревнуешь меня?
– Неужели я способна ревновать тебя к накрашенной кукле? У нее все искусственное. Волосы – накладные! Ты посмотри, посмотри: она никогда не меняет прическу – у нее парик! Спроси – вот интереса ради, спроси, будь добр, – сколько ей лет! – говорила молодая Барбара фон Майзель, и говорила, пожалуй, излишне запальчиво.
– Ну как же я спрошу, – отвечал смущенный Гриша, хотя его и разбирало любопытство.
И тогда Барбара, с той чудесной бесцеремонностью, которую дают титул и молодость, поинтересовалась у графини Тулузской, есть ли у той дети и не могло ли так оказаться, что она, Барбара, будучи совсем ребенком, играла с дочерью графини на пляжах отеля Эксельсиор, что на Лидо в Венеции.
– Вряд ли, – хладнокровно отвечала Клавдия, – мы никогда не останавливались в Эксельсиоре. Довольно вульгарное место, не находите? У нашей семьи всегда было палаццо на Гран Канале.
Клавдия Тулузская внимательно поглядела на Барбару, слегка сдвинув брови.
– Я должна была догадаться по вашей венецианской броши, – графиня покосилась на брошь с негритенком, пришпиленную к плечу Барбары, – что вы любите Венецию. Милая вещица, приятно, что недорогая. Венецианцы порой переоценивают свою старину. Вас заинтересует мой будуар.
Графиня провела гостей анфиладой комнат; они оказались в будуаре. Средневековые гобелены, старинные вазы, серебряная посуда, – Барбара покосилась на своего негритенка, ставшего жалким дикарем в этой комнате. Графиня раскрыла шкатулки, достала любимые украшения. Барбара вежливо ахала, но Гриша видел, что ей не по себе. Он пообещал себе разбогатеть и купить Барбаре драгоценности не хуже, чем у графини. Но тут же внутренний голос подсказал Грише, что он не прав. А почему, собственно, покупать дорогие подарки должен ты, Гриша? – удивленно спросил внутренний голос. – У твоей Барбары отец – барон. Вот он пусть дочери драгоценности и дарит, у него денег несчитано. И потом, у тебя еще и жена есть – ей-то кто украшения купит? Нечестно получается. Значит, дворянкам и богачкам – еще и украшения надо дарить, и алмазы, а бедной москвичке – ничего? Сидит твоя Клара в Москве, и никто ей ничего не дарит. Верно, ответил Гриша внутреннему голосу, да и гонорары мне, кстати сказать, нелегко даются.
– Вот эти перчатки, – графиня показала перчатки из тонкой лайки, в тыльную сторону которых, на том месте, где у Спасителя были стигматы, были вшиты крупные рубины, – сделаны в незапамятные времена. Какая странная вещь.
– Исключительная.
– Я собираюсь отослать их подруге в Россию. Знаете княгиню Багратион?
– Ах, эту пожилую даму, что замужем за русским партаппаратчиком? Она ваша подруга? – обрадовалась Барбара и выразительно поглядела на Гришу.
– Вы, вероятно, хотели спросить, сколько лет мне? – сказала графиня, глядя Барбаре в глаза.
– Ну что вы, графиня.