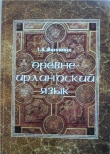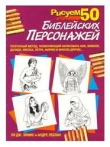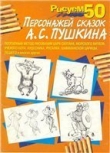Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
Не слишком внятную мысль Чаадаева удачным образом сформулировал Тофик Левкоев, покупая картины у Пинкисевича:
– Мне что нравится в твоем искусстве, что его людям не стыдно показать. Нарисовано не пойми что, а со вкусом. Заходят гости, поговорят, выпьют, картины посмотрят – и нормально.
10
Основной парадокс живописи маслом состоит в том, что материал, из которого создается картина, и сама картина как предмет – имеют разные природы. Краска есть жидкая субстанция, и, рисуя, художник использует ее текучесть, но готовый продукт, то, что получается из жидкой краски, должен своей твердостью соответствовать камню.
Высыхая, краска твердеет, каменеет, поверхность картины застывает, как застывает лава вулкана. Мнения знатоков по поводу срока, который требуется краске для того, чтобы высохнуть совершенно, рознятся. Наиболее радикальные полагают, что процесс отвердения слоев краски занимает около двухсот лет, но и самые либеральные называют сроки не менее нескольких десятков лет. Слои краски высыхают неравномерно, связь между слоями краски может быть легко нарушена, различные связующие замедляют или убыстряют этот процесс, более того, разные пигменты обладают разными свойствами, и сроки, которые требуются для превращения их в однородную каменную массу, различны. В сущности, этот процесс напоминает геологический и сходен с образованием минералов. Высыхая, пигменты словно бы вплавляются друг в друга, слой краски проникает в другой слой, цвет – в другой цвет. Так кристаллы одной породы проникают в другую, так образуется минерал – неоднородный, но неразделимый. Когда процесс кристаллизации состоялся и краска окаменела, часто бывает трудно сказать, какого именно она цвета. Да, краска изначально была красной, но, высыхая, впитала в себя нижние слои лилового и синего, вобрала в себя лаки и масла, она прожила самостоятельную жизнь. Можем ли мы сказать, какого цвета камень? Вернее всего определить его цвет как каменный. Точно так же трудно назвать цвет краски Леонардо, определить, из какой краски изготовлены каменные мазки Ван Гога. Картины Жоржа Руо напоминают рельефные географические карты, и там, где мазки громоздятся один на другой, картографы обозначили бы гору. В идеале поверхность картины должна напоминать поверхность горы, трогая ее, искушенный человек может даже угадать породу камня. Рассказывают, что слепой Дега трогал картины и, проводя пальцами по поверхности, иногда восклицал: это прекрасно, да?
Картина обязана стать каменной по той простой причине, что происходит от каменного собора. Некогда она и создавалась для собора, но даже сделавшись автономной, сохранила стать каменной вершины. Рожденная в твердой культуре для твердого утверждения, призванная запечатлеть вечный образ, картина обязана стать каменной. Разумеется, масляная живопись имеет дело с перспективой и пространством, то есть с воздухом. Но и небеса над нами мы называем «твердь». И если относить живопись к духовным свершениям, то следует помнить, что духовное обозначается термином «горнее» – и имеется в виду не то, что оно сверху, но то, что оно твердо.
Художник повторяет движения строителя. Сезанн выкладывал мазки, как отесанные камни, из которых строил картину. Художник действует, как каменщик, скрепляя мазки связующим, заделывая мастихином, как каменщик мастерком, щели между мазками. Кисти имеют разную форму именно для того, чтобы по-разному стесывать мазок. Строй работы каменщика весьма наглядно виден в картинах Курбе, который выкладывал поверхность картины как стену. Гоген любил повторять, что стук его сабо по гранитному берегу Бретани напоминает ему тот звук, который он хочет достичь в своей живописи, – глухое каменное эхо. Внимательно глядя на картины Ван Гога, изображающие натюрморты с картофелем, можно понять одну из главных метафор художника – картофель изображается им как булыжник, гора картофеля как стена, ограждающая бытие. Лица он писал как картофелины – соответственно уподобляя их камню.
Краска, из которой живописец создает камень, имеет жидкую природу, но, впрочем, то же самое можно сказать и о человеке, пока его характер не сформирован.
Глава десятая
КАМЕНЬ
I
– Если бы я умел рисовать.
– А вы правда не умеете рисовать?
– Правда, – сказал Струев, – не умею.
– Совсем-совсем не умеете? Или вы не умеете так, как Леонардо да Винчи, – мальчик очень хотел спасти своего кумира. – А хуже вы рисовать не хотите, да? Вы не согласны на меньшее, правда?
– Пойми, пожалуйста, – сказал Струев терпеливо, – нет никакого общего рисования, которое одному дается лучше, а другому хуже. Леонардо рисовал, как Леонардо. А Ван Гог – как Ван Гог. А я просто не умею рисовать. Совсем. Но это не главное в искусстве.
– А что же главное?
– Победа, – сказал Струев.
– Над чем победа? – спросил мальчик, искушенный в метафизических дебатах. – Или над кем?
– Какая разница? Над тем, что опасно. А как, какой ценой – все равно. Это как в драке, – пояснил Струев, предполагая, что все мальчишки дерутся, – неважно, как ударить, важно победить.
– Разве не надо ничего уметь, для того чтобы победить?
– Есть такое выражение: бодливой корове Бог рогов не дает. А знаешь, почему Бог не дает ей рогов?
– Нет, – сказал мальчик, – а почему? Чтобы не бодалась?
– Просто потому, что Бог знает: она сумеет забодать и без рогов. Бодливой корове рога ни к чему.
– Я не понимаю.
– Я ездил с ростовским цирком, когда был молодой, – там в труппе был слепой жонглер и однорукий акробат.
– Совсем слепой?
– Не совсем; что-то он видел, конечно. Носил сильные очки, но даже в очках видел плохо. На сцене он очки снимал: нельзя, чтобы артист вызывал жалость. И кидал предметы он на ощупь: чувствовал, когда пора их ловить и ловил.
– Наверное, так можно натренироваться, – сказал мальчик, подумав.
– А ты попробуй. Конечно, можно. Он кидал сразу восемь предметов – на один больше, чем принято было в мире. В Германии знаменитый жонглер кидал одновременно семь колец, про него сняли фильм, он приезжал выступать в Москву, и билетов было не достать. Но мало кто знал про слепого жонглера из Ростовского цирка.
– А что он кидал, кольца?
– Он кидал горящие факелы и говорил, что чувствует жар за полсекунды до того, как ловит.
– Расскажите про акробата.
– Его поднимали на шесте, и он делал наверху стойку «крокодил». Это трудная стойка: упираешься одной рукой и держишь тело горизонтально, параллельно полу. Он выполнял эту стойку, упираясь левой рукой в шест. Партнер удерживал этот шест, тоже работка не из легких, но тому, наверху, было потяжелее. Правой руки у него не было – потерял на фронте. На манеже он носил протез, и потом, когда артист в сценическом костюме, то под блестками ничего не разглядишь. Знаешь, как ему хлопали? За сценой он протез снимал, и на улицу выхолил маленький человек с пустым рукавом – никто не знал, что это тот самый силач из цирка.
– А что с ними стало потом?
– Жонглера сбила машина, он не увидел красный свет. Акробата зарезали в драке, он влез в плохую драку.
– Но ведь он такой сильный был. Даже с одной рукой.
– Одной левой? Он и сам так подумал. Его держали за левую руку, когда били ножом. А правой руки у него не было.
– Вы это видели? Вы там были?
– Нет, меня там не было, – сказал Струев, – к тому же мне было четырнадцать лет. Почти, как тебе сейчас. Я бы мало что сумел. Там был его партнер по сцене да еще трое ростовских ребят с ножами.
– А что же его партнер? Почему не помог? Что с ним случилось? – спросил мальчик, волнуясь.
– Получил десять лет. Столько давали за убийство без отягчающих.
– Он что, их убил? Убил, да? Что, всех троих?
– Ну у него-то обе руки были на месте. И пользоваться руками он тоже умел. Вообще-то он не был бодливой коровой, – оскалился Струев, – но это как раз тот случай, когда рога у коровы имелись.
– Как же он справился с тремя сразу? – сказал мальчик. – Это очень трудно.
– Не труднее, думаю, чем вслепую кидать восемь факелов или с одной рукой работать трюк под куполом.
– Или делать картины, не умея рисовать, – сказал мальчик, помолчав.
– Верно, – ответил Струев.
Мальчик молчал, идя рядом со Струевым. Через некоторое время он спросил:
– Значит, вы думаете, что умение рисовать и умение драться – вещи схожие?
– Я не умею драться, – ответил ему Струев, – и рисовать я тоже не умею. Я тебе уже говорил. И ничего тебе про умения не скажу. Но искусство и драка – это вещи похожие. Умение дает им форму, но делаются они не с помощью умения.
– А чем?
– Чем-то таким внутри.
– Душой?
– Нет, не душой, но чем-то таким, что рядом с душой. У тебя где душа?
– Вот тут, – и мальчик показал на место на груди рядом с яремной ямкой, – вот тут болит, когда плохо или стыдно.
– Правильно. И то место где-то рядом, но это не душа.
– И как с этим местом быть? Я же не знаю, есть оно у меня или нет.
– Оно у всех есть, просто его никто не тренирует.
– Научите.
– Я тебя научу, – сказал Струев, – смотри, надо втянуть в себя воздух, вот так, – и он с силой втянул в себя воздух, оскалив кривые желтые зубы, – и внутри тебя соберется победная сила. Ты почувствуешь. Как раз там, вот в этом месте.
– Рядом с душой?
– Рядом с душой. И тогда ты сможешь все, что захочешь.
– Вы несерьезно со мной говорите.
– Еще как серьезно. Попробуй.
Мальчик открыл рот и втянул в себя холодный воздух, но ничего не произошло.
– Ты еще раз попробуй, только смотри не простудись.
– Сейчас. А то голова закружилась. Я отдохну, и опять.
И опять мальчик втянул в себя воздух, и снова ничего не почувствовал, кроме головокружения.
– Понимаешь, надо втягивать воздух так, как будто это твой последний вдох, а потом не будет. Как будто тебе нечем дышать и остался последний глоток воздуха. И еще так, как будто тебе надо собрать последние силы. Ну представь, что ты дерешься или бежишь, и устал, и сил больше нет. А бежать надо. Представил?
– Представил.
– Ну теперь вдохни.
И мальчик втянул воздух, и у него заломило грудь.
– Я, кажется, чувствую. А вы правда думаете, что это помогает?
– Точно.
– Место рядом с душой?
– Да.
– А сама душа?
– Понятия не имею.
Что-то я заболтался с ним, подумал Струев.
Он давно ни с кем не говорил. Говорить не имело смысла: про друзей-художников он давно все знал, подробностями не интересовался; дела делались без особых рассуждений, надо было просто понять, что выгодно в эту минуту, и не ошибиться; с женщинами разговаривать было не о чем. Всякая связь кончалась одинаково: едва доходило до того, что пора произносить слова, он прекращал отношения. Связь с Алиной была типичной для него – необременительная, приятная обоим, без обязательств. Она приглашала раз в месяц, иногда он соглашался. История с Инночкой неприятным образом отличалась. В первую же ночь она сказала, что любит его. Пьяная или просто вздорная, подумал Струев. Или это оттого, что православная, они все нервные. Никак не могут с душой разобраться, бедные. А может, просто мужика давно не было. Он проводил ее поутру до метро, постаравшись не сказать лишнего. Посмотрел, как она спускается по лестнице, и пожалел ее. Плохо одетая, немолодая, что у нее за жизнь. Вечером у него было назначено свидание с холеной Алиной. Он не пошел вовсе не потому, что свиданию препятствовали чувства к Инночке. Однако ездить на Бронную в отсутствие Лугового и лежать в кровати партаппаратчика прискучило. Надо было бы позвонить, извиниться, сказать про дела или вовсе порвать, но ничего этого Струев делать не стал. Он никогда не оправдывался. Что есть, то и есть, разве что-либо изменится оттого, что это объяснишь? И потом, зачем порывать с Алиной? Прискучило нынче, захочется потом. Сегодня, например, можно съездить.
– А вы были диссидентом, да?
– Нет.
– А вы их знали?
– Знал, конечно.
– Они чем занимались?
– Ничем не занимались.
– Совсем ничем?
– Витя Маркин выходил раз в год на Пушкинскую площадь, стоял. Больше, кажется, ничего не делал.
– Это был специальный день протеста, да?
– Ну да.
– За это сажали в тюрьму?
– Не валяй дурака. Приходил милиционер, иногда два, давали под зад коленом. Кому надо было сажать нас в тюрьму? И так у Брежнева с Андроповым забот было по горло, еще не хватало им нас в тюрьму сажать. Зачем?
– Чтоб народ в узде держать.
– А народ что, куда-то рвался?
Это не совсем правда, подумал он. Но сказалось так, и ладно. Если честно вспомнить, что мы делали, такая чепуха получится. Какие-то книжки прятали, в подъездах скрывались, напивались до одури. Если у кого-то случался обыск, к этому счастливчику гости ходили круглый год, так нынче к лауреатам конкурсов не хаживают. А уж если кто-нибудь и впрямь что-нибудь однажды делал, воспоминаний хватало на всю жизнь. Золотое было время.
– Но если бы народ никуда не рвался, – сказал мальчик, – то не произошло бы того, что произошло.
– А что произошло?
Между женщинами принципиальной разницы нет, так он привык думать. Отличаются они особенностями анатомического строения, это и составляет предмет интереса для мужчины. Да и подробности анатомии, правду сказать, не слишком разнятся. Все главное у них одинаково. Каждый раз, знакомясь с новой женщиной, он говорил себе, что уже все знает, ничего нового не будет, а будет только новая морока, и для чего это нужно? Каждый раз он забывал свой опыт, но ненадолго: ситуации повторялись, реплики женщин были одинаковыми, уже слышанными, обещания и просьбы точно такими же, как и в прошлой истории. И наутро, выходя от женщины, радуясь, что отделался, он говорил себе: а чего ты хотел? Не знал разве, как оно бывает? Что, интересно было? Узнал что-нибудь особенное?
– Коммунизм свергли. Вот что произошло.
Почему он должен чувствовать себя ответственным за Инночку? У нее вечно болит голова – так пусть аспирин пьет, а ему про это не рассказывает. К тому же по утрам она пересказывает ему сны – один сентиментальнее другого, – и как прикажете на это реагировать? Сказать: успокойся, милая, помолчи, мне твои фантазии неинтересны? Ох, горе, горе. То, что она бедна, то, что она одинока и немолода, – это совсем не его вина. Таких баб по России миллионы, и ничего, живут. Прикажете обо всех скорбеть? Надо ее выделить из прочих на том основании, что он с ней переспал? Переспал, и что теперь? Разве он ей этим вред причинил? Наоборот скорее. Переживать, одета ли она, обута ли? Что за чушь. Пусть ее родственники думают, есть у нее теплое пальто или нет, а мне-то что за дело. И однако он понимал, что никто про это не подумает. Надо бы дать ей денег, решил Струев. Благотворительности он не любил, нищим на перекрестках не подавал, никогда не говорил комплиментов и не дарил цветов женщинам. Лучший подарок женщине – это то, что я ее позвал к себе, обычно говорил он, а другие подарки делать необязательно. Собственно говоря, желание дать денег Инночке он и не рассматривал как желание подарить. Он вдруг почувствовал потребность откупиться деньгами от чего-то, что стало ему мешать. В жизни приходится тратить деньги на непонятные вещи, чтобы они тебя не беспокоили: даем же мы деньги дантисту, чтобы не болели зубы. Куда бы это заплатить, чтобы внутренний покой тоже не был нарушен? Как бы это устроить, чтобы и женщину не обидеть, и откупиться от ее судьбы? Не скажешь ведь наутро: вот, дорогая, возьми деньги. Неловко. Пригласив Инночку на свидание, он сунул ей в сумочку пачку денег. Ох, зря я это делаю, что-нибудь она вытворит. Оскорбится и устроит скандал, не иначе. Тоска, тоска. Нельзя себе позволять их жалеть. И денег-то я положил недостаточно, корил себя Струев, на шубу не хватит, за ночь вроде много. Тут уж надо было решительно дать сразу много – или вовсе нечего не давать. Подумает еще, что я ее на содержание взял. Что, теперь при всякой встрече ей в рукав пихать червонцы? На следующий день Инночка приехала к нему с сумкой продуктов. Не сказав ни слова про деньги, она поставила на пол сумку, достала из нее банки и пакеты, поцеловала Струева и ушла. Струев съел невкусные котлеты, выложил на стол апельсины и почувствовал, что его обманули. Куда как проще с Алиной: приедешь с бутылкой коньяка, она достанет икру, закусишь и идешь в спальню – ни тебе взаимных расчетов, ни этих слезами политых котлет.
– Как, что произошло? – задыхался словами мальчик. – Вы меня не слышите? Страна переменилась.
– Разве?
– Разве не свергли наследие этих идиотов Ленина и Сталина? Когда я был маленький, – сказал мальчик, – нас в школе заставляли учить эту чушь. А теперь нет.
– Лучше стало?
– Так они же были убийцы и дураки.
– Тебе кто это сказал?
– Я так сам думаю. И написано везде. Теперь даже в газетах пишут.
– Ты газеты читаешь?
– Иногда читаю колонки Бориса Кузина. И Дмитрий Кротов хорошо пишет. А вот еще есть автор – Петр Труффальдино. Он Ленина разгромил в последней статье. И Шайзенштейн, по-моему, умный журналист.
– Знаешь, – неожиданно для себя сказал Струев, – ты такую гадость больше не читай и никому не пересказывай.
– А вы что, за Ленина? Да? Вы за этих, красно-коричневых? Повернуть историю вспять?
– Я не читал Ленина. Про историю вовсе не понимаю. И потом, я всю жизнь делал что-то такое против власти, смешно на старости лет ее славить. Но знаешь, бегать в дворовой кодле – унизительно. Стыдно очень.
– Я не понимаю.
– Я тебе объясню. Это опять про драку. Ты дрался когда-нибудь?
– Да.
– Это опасно, правда?
– Опасно.
– Но ты понимаешь, что так, как дерешься ты, – не очень опасно, верно? Ну, стукнут по носу, встанешь, пойдешь домой. Бывает опаснее, согласен? Есть другая драка, взрослая, там бьют сильнее.
– Понимаю.
– Но ведь и у взрослых бывают просто зуботычины, а бывает всерьез, до крови.
– Да.
– А как ты думаешь, ты бы понял разницу во взрослой драке – страшная она по-настоящему или так, характер показать?
– Наверное, понял бы.
– А в настоящей драке, в страшной драке, ты бы понял, кто дерется лучше, кто хуже, кто сильнее?
– Откуда я знаю.
– Ты и не можешь знать. Ничего стыдного нет в том, чтобы не знать того, чего знать не можешь в принципе.
– Правда.
– И ты понимаешь, что есть настоящие драчуны, боксеры. А есть мастера бокса, чемпионы. На их драку приходят смотреть, но мало что понимают. Так вот, в спортивной раздевалке во время хорошего боя мастеров сидят второразрядники. Они сами не дерутся, и даже не смотрят, они обсуждают драку. Они никогда не станут мастерами, будущего у них нет. Им уже по двадцать лет, ничего из них не вышло, держат их для количества, а через год вышвырнут из бокса к чертовой бабушке. Их даже в зал не зовут смотреть бой. Они проходят в раздевалку и сидят в теплой потной раздевалке, делают вид, что они тоже боксеры. Понимаешь?
– Да, понимаю.
– Так вот, лучших знатоков бокса, чем эти второразрядники, в природе нет. Они сидят в своей вонючей раздевалке и ругают мастеров. Это стыдно.
– Вы считаете, что разоблачать Ленина тоже стыдно?
– Стыдно быть Труффальдино. Или ты хочешь?
– Не хочу.
– И правильно.
– Но ведь нет уже всех этих страшных лозунгов.
– Другие есть.
– Правда, другие есть. – Мальчик посмотрел на огромную рекламу корпорации Михаила Дупеля: летящий вокруг земного шара голубь, держащий в клюве золотую кредитную карточку, и надпись «Такой удобный мир»; реклама эта, выполненная известным оформителем Валентином Курицыным, попадалась теперь на всяком углу, любой забор заклеивали этим ярким плакатом. – Но ведь это разные лозунги. Власть денег отвратительна, – сказал мальчик, – но она лучше власти диктаторов.
– Чем же? – спросил Струев.
– Мне кажется, – сказал мальчик, которому родители давали деньги, чтобы он поел в школе, – что деньгам все равно, кому принадлежать, а власти – не все равно.
– Думаешь?
II
Примерно то же самое говорил ему румянощекий Боря Кузин, покойно сидя в розовом кожаном кресле ресторана «Ностальжи». Кузин любил повторять, что власть денег, сколь уродлива она ни была бы, демократична, что деньги есть продукт, не связанный с идеологией и тоталитаризмом, и что демократия не случайно выбрала власть денег как наиболее лояльную форму регулирования социума. Борис Кириллович рассуждал о свободе, которую дают деньги, поглощая салаты, уминая пироги, запивая скушанное крупными глотками. Аппетит Кузина всегда умилял его друзей: он мог съесть едва ли меньше, чем отец Павлинов, но, в отличие от переборчивого батюшки, лопал все подряд. Единственным условием являлось наличие приглашающей стороны – но если не было оснований тревожиться о счете, то Кузин творил буквально чудеса. Казалось забавным, что рассуждающий о высоком просветитель способен столько съесть. С таким же азартом он накидывается и на интеллектуальную пищу, считали поклонники Кузина. Покончив с блюдами, стоящими около него, автор «Прорыва в цивилизацию» бросал придирчивый взгляд в глубь стола: что-то там кушают другие? И лишь расправившись с последней коркой, подлизав соус, считал дело сделанным. Покончив с трапезой, Кузин обыкновенно сплетал крепкие толстые пальцы и, благосклонно глядя на сотрапезников, ожидал, пока они оплатят счет. Струев не задумываясь платил в ресторанах за всех и всегда, но каждый раз, глядя на благостное лицо Бориса Кузина, на то, как Кузин терпеливо ждет, пока другие расплатятся, ярился. Что ж ты, жадина, ни разу даже не потянулся за кошельком. Хоть бы вид сделал, что заплатить хочешь. Кузин не проявлял нетерпения, не просил заплатить за себя. Он просто привык, что платят другие, и терпеливо ждал. Впрочем, Струев хорошо понимал, что Кузин не жадный, просто бережливый. В минуты дружеской откровенности, когда обильный обед бывал съеден, а счет оплачен, Кузин жаловался на стесненные обстоятельства. Ирина, жена, резонно говорит, что надо покупать дачу, рассказывал он о своих проблемах. Пусть недорогую, да, за роскошью мы не гонимся. Зачем нам роскошь? Но в принципе – простую, скромную дачу купить пора. Дочке надо быть на воздухе летом, и это только нормально, разве нет? И, рассказывая о своих нормальных человеческих запросах и о том, что его заработка с трудом хватает, чтобы их удовлетворить, так что и помышлять о ресторанных излишествах ему не приходится, Кузин вытирал крепкие пальцы и промокал салфеткой губы. Тебе повезло, говорил он Струеву, ты попал в обойму, дружище. Покупки, заказы, верно? И глаза его светились тем особым свободолюбивым светом, каким загораются они у прогрессивно мыслящих людей в разговоре про деньги. Любопытно, как считают деньги в семье Инночки. Да и какие там деньги? Любопытно, была ли она когда-нибудь в ресторане. В настоящем, чтобы шесть официантов за спиной и по три вилки слева, по три ножа справа. И не удивлюсь, если не была, дожив до седых волос. Надо бы сходить с ней куда-нибудь, показать, как бывает. Или это вульгарно? Не вульгарнее, впрочем, чем спать с ней на продавленом диване, где лежало столько женщин.
– Деньги и власть – одно и то же, – сказал Струев, думая о диване и женщинах.
– А свобода, – спросил мальчик, – как по-вашему, свобода – это власть? – мальчик привык спорить на метафизические темы, ему не хватало сложности в разговоре. – Интеллектуалу главное – чувствовать себя свободным. Для этого надо бороться за власть – или нет?
– Что? – рассеяно сказал Струев.
– Я имею в виду, что интеллигентному человеку сейчас можно не прятаться.
– Его уже никто не ищет.
III
Год назад его, среди прочих новомодных деятелей культуры, пригласили на прием в новоиспеченный парламент, и только что избранный спикер Герман Басманов, мужчина впечатляющей наружности, слегка лишь подпорченной вульгарными золотыми коронками, обратился к людям искусства с предложением придумать актуальный проект – символ российской культуры нового времени. Да, говорил Герман Федорович бархатным своим баритоном, пришла пора подумать о национальном символе! Но что же сегодня будет символизировать нашу с вами страну? Не жупел государственности хотим мы водрузить на площадях – отнюдь нет! Подумать следует не о тоталитарном символе – но об интеллектуально-гражданственном. Что-нибудь возвышенное, в духе наших перемен. Уж вы, голубчики-интеллигенты, не подведите, придумайте что-нибудь этакое, прогрессивное! Ведь время-то какое боевое, а? Вы сегодня передовой отряд общества! Так ораторствовал Басманов, а Аркадий Владленович Ситный, министр культуры, строго косил на своих подопечных – не подвели бы, и одновременно растягивал сочные губы в улыбке понимания, обращенной к Басманову. Мало что могло больше воодушевить и вместе с тем развеселить – некогда опальных художников, нежели предложение создать общественный символ. Ах, вот оно что! Теперь, значит, нашего мнения спрашивают, ехидно заметил Первачев. А куда им, сукам, деваться без интеллигенции, сказал грубый Пинкисевич, своего-то мозгу нет. Требуется создать нечто аутентичное современному дискурсу, сказал Дутов, размышляя про некоторые кляксы на своем последнем холсте. Полагаю, сказал Первачев, пришла пора поставить памятник интеллигенции. Точно, возбудился Пинкисевич, на месте Дзержинского – Сахарова забубеним! Вот как повернулось, оказывается, ликовал Дима Кротов, ну если так, – прижали, стало быть, наши хваленые спецслужбы! Если так, давайте тогда академика Андрея Дмитриевича из мрамора изваяем! Не будет ли это неким несоответствием, осторожно сказала Роза Кранц, не содержится ли в проекте мраморного истукана, посвященного интеллигенции, некоего противоречия? Перформативная контрадикция, так сказать. Зачем из камня ваять фигуры тех, кто хотел сделать жизнь легкой и свободной? Интеллигенция стремится избавить общество от истуканов, а значит памятник ей самой должен быть легким и ненавязчивым. Что-нибудь с элементом игры и фантазии. Стремовский, мастер инсталляции, немедленно предложил проект фонтана. Почему фонтана? А потому, что это возрождает петровско-екатерининскую традицию парково-фонтанной России, которая мила нынешним преобразователям, сказала находчивая Голда Стерн. Фонтаны Петергофа – разве не именно это символизирует наш поворот к ценностям Просвещения? Так говорил Стремовский, и художники подхватили шутку. Что требуется русскому народу? Просвещение. А Просвещение – это фонтаны. Значит, народу нужны фонтаны, не так ли? Говоря шире, само Просвещение является в известном смысле фонтаном, обобщил Петр Труффальдино. Мы задыхались в коммунистической России, со смехом сказал Стремовский, так пусть струи фонтана освежают российскую атмосферу! Создать следует нечто, не уступающее фонтану Треви в Риме, так сказал Яков Шайзенштейн, пусть монументальностью скульптурная группа привлекает туристов. И героем надо сделать не рабочего, не колхозницу, – но интеллигента, воскликнул Аркадий Ситный, интеллигент во втором поколении: папа его был секретарем парторганизации Театра Моссовета. Я предлагаю в качестве темы выбрать дуэль Пушкина, наиболее трагический эпизод русской культуры, сказал Стремовский под общий смех. Подать этот эпизод надобно в жизнеутверждающем ключе – в соответствии с духом времени. Самый водоем надо исполнить в виде речки – дуэль состоялась на Черной речке, не так ли? А персонажи будут стоять по колено в воде. Напустим в воду зеркальных карпов, золотых рыбок, вставил Первачев, нехай мужики с похмелья ловят. Дантес должен стрелять в Пушкина из водяного пистолета, сказала Свистоплясова, пусть водяная струя бьет поэту в живот. Представляете? Из живота Пушкина хлещет другая струя воды, символизирующая кровь. Вот это фонтан так фонтан! А вокруг, сказал Первачев, стоят друзья поэта и квасят. Чем не идея для фонтана? Открыли бутылки и льют в себя водяру. Нет, они рыдают, и слезы летят во все стороны, засмеялся пухлогубый министр культуры. Всем своим румяным видом он показывал, что времена нынче либеральные, он сам, правительственный чиновник, охотно посмеется вместе со всеми. Мужиков надо изобразить, сказал Пинкисевич, стоят они на четвереньках и блюют. Это находка, оживился министр. Представляете: изо рта у мужиков низвергаются потоки влаги; иные справляют малую нужду, иные льют в себя водку, – кругом торжество водной стихии! Это и в Кассель, на выставку инициатив не стыдно! А царь, с хохотом сказал Шайзенштейн, царь открывает шампанское, и струя, вырываясь из бутылки, хлещет в небо, обдавая брызгами всю группу. Есть и название, заметил Владислав Тушинский, внедряясь в разговор. Опытный полемист, он оставлял за собой последнюю реплику. Назовем фонтан «Мытая Россия»! Веками стояла Россия немытой – а мы отмоем! Ну, художники, ну, умеют насмешить! И все-таки, сказала стриженая девушка Юлия Мерцалова, жена Виктора Маркина, нельзя ли соединить памятник интеллигенции с проектом фонтана? Например, мраморный академик на площади, а изо рта – фонтан идей. Ах, поддела Маркина его молодая красавица жена, ах, остра на язык. У меня есть другой проект, сказал Струев. Послушайте, как я хорошо придумал. Московская интеллигенция выходит морозной зимой на площадь – точь-в-точь так же, как выходили некогда деятели культуры для коллективных перформансов. Выходят лучшие умы страны – они одеты в исподнее, идут по снегу босиком, несут пожарные шланги, подсоединяют их к цистерне с водой. По команде начальства все интеллигенты начинают поливать друг друга холодной водой, постепенно обрастают ледяной коркой, и в скором времени образуется скульптурная группа – застывшие во льду деятели культуры, живой монумент носителям разума. Деятели культуры обращаются в ледяные статуи наподобие известного генерала Карбышева, замороженного фашистами. Во избежание неясностей каждый из участников перформанса должен держать в руках транспарант «Прости меня, Родина!». Потом, когда скульптурная группа застынет, данные транспаранты будут ясно обозначать причину и цель проведенного перформанса – сообщат ему социально-нравственное звучание. Акцию «Прости меня, Родина!» следует провести на Красной площади – такая акция несомненно станет искомым культурным символом. Помимо прочего, веселая ледяная горка, образованная из замороженных интеллигентов, оживит кремлевскую новогоднюю елку. По мере того как Струев развивал свою мысль, веселье мастеров культуры утихло. В данной инсталляции, добавил Струев, примечательно то, что с наступлением оттепели тела интеллигентов можно будет освободить от снега и льда. Таким образом подчеркивается сакральная связь российской интеллигенции с российским климатом: с оттепелью и морозами. Струев был известен своим мрачным юмором, но сказанное сегодня прозвучало особенно зло. Есть все же какие-то пределы. Цинизм, это, конечно, хорошо, но злой цинизм Струева не развлекал, а оскорблял. Ты что, обалдел? – спросил Стремовский. Дмитрий Кротов растерянно спросил: а в чем же я виноват перед Родиной? Мучнистое лицо Тушинского набрякло, он поглядел на Струева и сказал так: Николай ссылал в Сибирь, Сталин – в Магадан, а вы лучше придумали. Снега-то у нас и в Москве довольно. Первачев отреагировал весело: меня заморозить у них воды не хватит. Я ж проспиртован весь. Савелий же Бештау, молчавший до сих пор, заметил: это Родина должна просить у меня прощения, а не наоборот. А прямой и грубый Пинкисевич сказал: если б это не ты был, я бы не сдержался, честно говорю, за такие слова можно и по шее дать. А ты не отказывай себе ни в чем, посоветовал ему Струев и ощерился в недоброй усмешке.