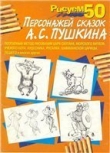Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
– Но вы хотя бы корреспондентов на фронт посылайте, давайте фото с мест боев, интервью с мирными жителями, мнения солдат.
– Кто читать будет? Возможно, вашей бабушке из Конотопа это и интересно. Только не нашему подписчику. Ему котировки акций любопытно знать, погоду на южных склонах Альп, курсы валют. Вы понимаете, на кого ориентируетесь в газете? Не понимаете? А зачем пришли в газету работать? Кушать захотели, да? А кто зарплату платит, не интересовались?
XI
Это было мнение профессионала, человека, заслуженно получившего репутацию журналиста номер один. Профессия журналиста такова, что конденсирует в себе многие тревоги и заботы общества. Не один Баринов опасался остаться без медицинской помощи. Ему-то это как раз не грозило, а вот стране в целом без помощи было не обойтись. Ежедневно вливаемые в тело страны кредиты одни только и могли гальванизировать ее. Впрочем, гальванизировало скорее намерение дать кредиты – а сами деньги не появлялись никогда: исчезали на полдороги. Рядовой обыватель, наблюдая круговорот денег в природе, хватался за голову: банкиры вывозили из страны деньги на Запад с завидным постоянством. Но западные банки с не менее завидным постоянством давали России кредиты, которые тут же расхищались, чтобы быть благополучно вывезенными прочь. И так без конца. Обывателю по наивности мнилось, что здесь нет логики. Логика, однако, была, и западные банки были заинтересованы в этом вечном двигателе более, нежели российские ворюги. Точно так же, как для российского воротилы простейшим средством отмывания денег были казино и журналы (Дупель на паях с Бариновым владел «Бизнесменом», Балабос «Европейским вестником» и «Плейбоем», а Левкоев «Вогом» и «Актуальной мыслью»), так для западного банкира – российское предпринимательство. Анонимные банковские средства, вложенные в российских бандитов, приносили стабильные личные дивиденды и в сроки, западному банку не снившиеся. Де Портебаль, допустим, перевел сорок миллионов из Парижского банка на концессии в Казахстане. Через три месяца он получил на закрытые счета в Швейцарии в два раза больше. Фон Майзель поддержал концессию сотней миллионов и уже утроил свой вклад. Так что сказать уверенно, кто в ком более нуждался, трудно. И посему возрождение отеческих приоритетов проводилось аккуратно, без славянофильской нахрапистости, чтоб не оттолкнуть дающую руку. Находились, конечно, и выродки, критикующие Запад. На такой случай имелась прогрессивная интеллигенция. Уж она, интеллигенция, тут же давала отпор тем недоумкам славянофилам, которые блага своего славянофильского разглядеть были не в силах. Независимая журналистика стояла на страже и, чуть что, затыкала бреши в сознании прогрессивными полосами.
«Не люблю я таких людей, – так, например, ответил Борис Кузин интервьюеру, Яше Шайзенштейну, на вопрос отказаться ли России от Запада? – которые сами на Запад ездят и там зарабатывают, а Запад при этом ругают. Или еще того хлеще: живут на Западе, там печатаются, а Запад критикуют. Нет, не люблю».
– Имеете в виду писателя Зиновьева? – оживился Шайзенштейн, востря карандаш.
– И его в том числе. Но не только. Есть, видите ли, тенденция (несомненно, это рудимент сталинской поры) пользоваться достижениями западной цивилизации (я хочу подчеркнуть эту мысль: именно пользоваться, но не учиться у цивилизации, не брать уроков) и одновременно ее поругивать, говорить об особом русском пути. Давайте вместе задумаемся, а не опасна ли эта позиция для русской интеллигенции?
– Достоверны ли слухи, что вы собираетесь возглавить демократическое движение? Поговаривают о создании новой партии, так ли это?
– Делать заявления для прессы преждевременно. Тем более что в парламенте демократическое движение представляет партия Владислава Тушинского. Хочу лишь подчеркнуть, что ко мне обращаются многие российские интеллигенты, желающие более внятно артикулировать свою гражданскую позицию.
Татарников держал в руках свежий номер «Двери в Европу» с интервью Бориса Кузина «Изменится ли российская ментальность?». В беседе Кузин с энтузиазмом показывал, что да, это возможно, и пора уже становиться европейцами, другого пути нет, обязательно станем. Здесь же на первой же полосе было опубликовано интервью с новым премьер-министром под названием «Без кредитов не обойтись», а также призыв голосовать за нового кандидата в российские президенты – на смену мясистому пьянице уже готовили энергического политика, офицера из Органов Безопасности. Здесь же были опубликованы и фотографии всех троих: новый кандидат в президенты с холодным скользким лицом, похожий одновременно на рыбу и на волка, улыбался тонкогубой улыбкой; новый премьер, известный ловкач по кличке «Степа-два процента», смотрел на читателя с презрением; Борис же Кузин улыбался с фотографии интеллигeнтно и со значением, держа на руках белоснежного кота Пуфа.
– Вот это да, – сказал Татарников и выпил стаканчик водки, – и кот тоже попал в цивилизацию. Бедняга, теперь с ним обойдутся круто.
– Тебе лишь бы зубы скалить, – заметила жена Зоя Тарасовна, – а отчего бы тебе самому в газету интервью-то не дать. Ты бы всех уму-разуму научил. Что-то нас не зовут, а, Сергей Ильич? Как-то наше мнение оказывается невостребованным, а? Котов и тех чаще приглашают.
– Оно и к лучшему. Опасаюсь я цивилизации. Я дома отсижусь или вон к Рихтерам зайду, чайку похлебаю. Котов, конечно, жалко. Не поздоровится, я думаю, котам.
– Как же, чайку ты похлебаешь у Рихтеров, – заметила Зоя Тарасовна, знаем мы ваш чаек, герр профессор.
Татарников и не подозревал, что цивилизация уже прошлась по коту своими острыми лезвиями – неделю назад Пуфа кастрировали и обстригли ему когти, чтоб не обдирал обоев. Теперь Пуф, сидя на руках хозяина, глядел на мир с жалкой улыбкой на сытой морде. Так смотрят в фотоаппарат усмиренные сербы и наставленные на путь демократии хорваты – губы их кривит растерянная ухмылка, а глаза безвольно уставлены в пространство. Жертва цивилизации, он вполне теперь соответствовал моющимся германским обоям – экологически был безвреден и внешне привлекателен, а то что кошек не будет знать, так ведь надо же чем-то жертвовать во имя прогресса.
– Ирина резонно говорит, – заметил Кузин, рассказывая в редакции об операции, проделанной над котом, – «уж лучше я поволнуюсь один день, чем несколько лет латать обои». Так бился, шельма, когда ему когти обстригали. Ирина изнервничалась вся. Кастрировали, конечно, под наркозом – он бы не дался. Если уж он за когти так переживал. Хотя кастрация – это, в сущности, для его же блага: будет дома сидеть, а не носиться по улицам; вот у соседей кот Степка бегал за кошками и добегался – попал под трамвай.
– Уж лучше под трамвай, – мрачно сказал Чириков.
– Ты сам за себя отвечаешь – и на здоровье. А за Пуфа отвечаю я.
– Хорошо, что ты за меня не отвечаешь, – сказал Чириков, – а то ходить бы мне без яиц.
– Есть мера ответственности, Витя. Я не мог поступить иначе. Мы же цивилизованные люди. Если берешь животное в дом, ты обязан отвечать за его жизнь – мало ли что? Думаю, это пойдет Пуфу в конечном итоге на пользу. Поумнеет, сам спасибо скажет. Не будет за кошками бегать, зато целее будет. Правда, сейчас он какой-то вялый. Не игручий какой-то.
– Будешь неигручим, когда яйца оттяпают.
– Да что ты заладил: яйца, яйца. Будто на свете вещей важнее нет.
– Есть, Боря, как не быть. Демократия, прогресс там всякий. – Чириков подумал. – Конституция – это святое. А все-таки яиц жалко.
– Неужели надо такие вещи, как конституция, вышучивать? – горько сказал Кузин. – Неужели ничего не остается несчастной моей Родине, как вернуться к лаптям и прялкам, а на цивилизацию начхать?
– Вижу, ты за всю страну отвечать собрался.
– Что ж, – сдержанно сказал Кузин, – если страна не готова отвечать за себя сама, придется кому-то о ней позаботиться.
– И ты готов?
– Планы имеются.
– Пора эмигрировать, – подытожил Чириков, – если кому яйца дороги – сматываться пора.
Борис Кузин с досадой поглядел на Чирикова: как устал он от этого московского цинизма, легко подменяющего любую серьезную беседу.
XII
Но никто вышучивать достижения прогресса и не собирался вовсе! Какое там! Напрасно беспокоился Борис Кириллович. Может быть, нашей крепости и присуща некоторая замкнутость (на то она, если вдуматься, и крепость), но это нисколько не исключает склонности нашего гарнизона к вылазкам и набегам. А как бы иначе стояла крепость, скажите, пожалуйста? Затвориться – дело, конечно, хорошее, но в разумных пределах, не в ущерб таким архиважным вещам, как снабжение и связи. Порой приходится спускать подъемный мост, опустошать окрестные селения, тащить к себе все, что под руку попадет, за крепостной вал, а там уж разбирать: что пригодно, что нет. И разве какая либо крепость (взять хоть ту главную крепость, что отстроило человечество, – цивилизацию) живет по иным законам? Если вовсе затвориться, то рано или поздно продукты кончатся, и стены падут. Стена – стеной, хорошие стены не помешают, но все-таки крепость создана для нападения, а не для защиты. И главная башня мирового форта – донжон цивилизации, и угловой ее бастион (т. е. российская крепость) существовали по одним законам.
Воскрешая православные традиции, поднимая авторитет госчиновника, укрепляя иерархию служилых людей, мамки с няньками вовсе не оттолкнули интернациональные ценности, а также тех отечественных деятелей культуры, кто уже был обласкан признанием мира.
Скажем, Сыч получил в городском совете премию за прогресс в искусстве и радикальное мышление. Мэр города, вручая художнику медаль, где с одной стороны был выбит силуэт божьего храма, а с другой, профиль – Энди Ворхола, отечески облобызал щеки художнику и предложил стать крестным отцом его, Сыча, будущих детей. Сыч даже не знал, что и ответить на это заманчивое предложение. Породниться с мэром было бы ой как недурно! Пусть основной интерес художника был в интернациональной карьере, однако и внимание Родины ему льстило. Что ж тут скрывать, говорил он, я – русский художник, и признание Отечества значит для меня многое. Стать кумом знаменитого московского мэра – значило сделать важный шаг в карьере на Родине. Однако определенные трудности технического характера на пути к этому имелись. С женой сексуальные отношения прекратились много лет назад, и детей не предвиделось. Поскольку хорек был самцом и сношения с ним осуществлялись исключительно в задний проход, то и от него детей, разумеется, ждать было нечего. Мелькнула даже дурацкая мысль, не инкриминируют ли ему ханжи и завистники гомосексуализм, но мысль эту Сыч отмел тут же: дикость, вздор. Времена не те – сейчас всякий знает, что свобода начинается с права на гомосексуализм. Другое дело, что дети от подобных сношений не рождаются, вот это действительно проблема. Да и согласился бы мэр крестить хорьков, тоже вопрос. Впрочем, мэр города, считавший себя в некотором роде отцом всем москвичам, уже перекрестил к этому времени несчетное количество новорожденных, особо не разбирая, кого крестит – с равным энтузиазмом он макал в купель детей бизнесменов, владельцев казино, держателей бензоколонок и эстрадных певцов. Пройдет ли в такой чехарде и суете крещение хорьков, Сыч не мог понять, и уж во всяком случае, для получения потомства требовалось срочно сменить хорька-самца на хорька-самку. А если так, то, может быть, следовало и узаконить с ней отношения. Может быть, следовало бы попросить мэра стать посаженым отцом – по всей форме? Устроить православное венчание у Христа Спасителя, с образами, с целованием, с катанием на тройке, с ряжеными. И какой же это вышел бы превосходный перформанс! Вот это по-настоящему радикально, это действительно смело. И, кстати, вполне в контексте политкорректности. Не ущемляют же нынче права негров и гомосексуалистов? А права хорьков? Если, например, это по любви? И, дойдя до этого пункта, художник окончательно смешался в мыслях и вытер мокрый лоб.
Придя домой, Сыч уже другими глазами смотрел на своего сожителя. Очевидно стало, что отношения зашли в тупик, а в свете неожиданно открывшихся перспектив было ясно, что так или иначе, а надобно их прекращать. Сыч не хотел себе в этом признаваться, но в глубине души он давно понимал, что всему этому безобразию должен быть положен конец, что добром все это не завершится. Если бы он был самкой, твердил себе Сыч, все бы могло сложиться иначе. Могло-то могло, а вот не сложилось. И надобно исправлять положение. Художник, вне всяких сомнений, привязался к хорьку и был обязан зверю многим, но сколько же можно терпеть? Хорек требователен, нетерпим, жесток к домашним. Сыч примеривался и прикидывал разные планы расставания: начиная с интеллигентного отселения хорька в уютную однокомнатную квартиру на окраине и вплоть до изведения зверя, и хорек, чуя недоброе, жался к стенам, косил глазом. Как-то вечером он искусал жену Сыча, и зверя с трудом оттащили. Сыч, умаявшись от беготни, криков, врачей, попреков, хорькового воя и стенаний жены, сидел в большом вольтеровском кресле, пил коньяк и, случайно бросив взгляд в зеркало, увидел у себя седые виски. Ах, не говорите, что признание и доходы заменяют душевный комфорт – ничего они заменить не могут. И только сознание того, что ты нужен обществу, того, что сделанное тобой, – безусловно, правильно и необходимо, только это может поддержать. Собираясь вечером на открытие нового мебельного бутика, куда он был зван среди прочих почетных гостей, Сыч надел пиджак с приколотым к лацкану орденом, и орден, звякая, бился о его измученное сердце.
XIII
– Пожалуйста, полюбуйтесь, – говорил тем временем Соломон Рихтер Сергею Татарникову, пришедшему по обыкновению на вечерний чай, – почитайте вот здесь, в культурной хронике. Не перетрудитесь, здесь пишут коротко. У нас ведь теперь столько культуры стало, что только конспективно, сжато и можно описать процесс. Лучшие перья трудятся – и не успевают! Подумайте! Стараются – а не поспевают за новациями! Только кратко, пунктиром! Акценты расставить, директиву дать – и дальше бегом по вернисажам, а то опоздаешь. Не поспеть за культурным процессом! Не охватить, дорогой Сережа, всей бездны оболванивания, падежей и суффиксов не хватит!
– Перестаньте, Соломон, везде так.
– Именно, что буквально везде. В газете так и написано, что так везде. Вот художник Джулиан Шнабель, и говорят, что великий, так вот он рисует на битых тарелках. Разобьет тарелки, наклеит осколки на холст и сверху рисует. Зачем? Зачем он так делает, Сережа? Для чего? Что сказать хочет?
– Откуда же мне, дураку, знать. Не докладывался. Отмалчивается Шнабель.
– Он-то отмалчивается, а вот другие зато говорят. И как!
– Признайтесь, Соломон, что вам просто завидно.
– Мне?
– Вам, милый Соломон, именно вам и завидно.
– Еще бы ему не завидно, – встряла Татьяна Ивановна; она мыла пол в коридоре и подслушала часть беседы, – еще бы не завидно! Государством признан человек, на правительственном уровне! Орден дали! Это тебе не дома палкой стучать! Так всю жизнь палкой и простучал. И колотит, и колотит. Ты бы хоть в сторожи нанялся, ходил с колотушкой – все проку больше. Глядишь, и тебе бы дали медаль – как почетному сторожу.
Излишне говорить, что не один лишь Рихтер испытал уколы зависти при известии о государственном признании Сыча. Даже коллеги художника, то есть те, которым пристало радоваться за успехи товарища по цеху, порой были замечены в скептических, даже цинических формулировках. Так, Люся Свистоплясова в частной беседе назвала Сыча проституткой, сделавшей карьеру через постель. Как так? – ахнули собеседники, – с кем же это? – А вот как раз с этим самым хорьком. – Но ведь это же перформанс, это искусство. – С одним, допустим, ради искусства, а вот с другими ради чего? – И Люся поведала чудовищную историю о зверином гареме, который Сыч завел в подмосковном дачном поселке Переделкино, рядом с дачей покойного поэта Пастернака. Будто бы там содержится целое семейство хорьков, предназначенных удовлетворять самые разнузданные фантазии. Будто бы бегают звери по даче в кокошниках и красных сарафанчиках, в хвосты им вплетены ленты. Будто бы наезжает в Переделкино Сыч в компании муниципальных чиновников, парится с хорьками в сауне, занимается скотоложеством, вливает в пасти зверям дорогие напитки, словом, ад кромешный. Будто бы сатурналии эти известны на все Переделкино, и даже заслуженные деятели изящной словесности захаживают вечерком к Сычу развеяться, отвлечься от писательской рутины. Будто бы один известный поэт так увлекся, что выписал себе личного зверя, и не какого-нибудь, а горностая. И безобразия эти, будто бы, выдвинули Сыча в первые ряды столичной элиты. Правда это или нет, а слух такой по Москве прошелестел, и стали по салонам перешептываться: мол, неудивительно, что его к награде представили – знает, с кем в баньке париться. С другой же стороны если посмотреть, кому из успешных не завидовали, про кого не городили сорок бочек арестантов? Так уж устроен завистливый человек – не верит в честный успех.
Одним словом, по той или иной причине, но искусство Сыча получило государственный резонанс. Нелишним здесь будет добавить, что творчество гомельского мастера дефекаций подобного – т. е. государственного – признания не получило. Напротив, то ли интригами Розы Кранц и Яши Шайзенштейна, то ли объективно вследствие содержания перформанса, но гомельский мастер оказался вытеснен из культурного истеблишмента. Открывали ли выставку Энди Ворхола, устраивали ли презентацию коллекции швейцарских часов, приглашали ли на дегустацию молодого божоле, надо ли было выступать в жюри конкурса красоты – везде просматривалась одна тенденция: Сыча звали, гомельца же упорно игнорировали. Сначала он переносил это с улыбкой, стоически терпел. Но все чаще и чаще стал срываться в истерики, несколько раз тяжело напился. Налицо были все приметы классической травли. Каждый, кто пережил такое или хотя бы представляет, как это бывает, понимает о чем идет речь. Не позвали раз, не позвали два – это еще пустяки. Это можно и не заметить, в конце концов художнику и не стоит так уж часто смешиваться с толпой. Но вот когда не зовут никуда целый год, а за ним и другой, вот тогда действительно чувствуешь, как давит тебя тишина, как гнетет пустота, как сдавливает грудь отчаяние. Что ж удивляться тому, что художник порой оказывается неспособным работать – а кто бы смог в таких условиях? Руки опускаются. С мастером дефекаций случилось худшее из всего, что можно было предположить, – организм его перестал служить его творчеству. Иными словами, случился запор. Тщетно тужился он на публике выдавить из себя хоть кусочек кала, зал освистал его и во Дворце молодежи, и в Доме работников искусств. Площадки предлагали все более убогие – провинциальные дома культуры, но и там, даже предварительно накушавшись слабительного, он не мог сделать ничего. Жители окраин, т. е. озлобленные на быт домохозяйки и их пьяненькие мужья, откровенно выходили с представления, а один пенсионер уснул. Безжалостная критика назвала это творческим кризисом. Тогда, напившись пургена, в отчаянии и злобе, художник навалил кучу у дверей «Актуальной мысли». Но это уже было расценено как ординарное хулиганство, не имеющее к искусству отношения. Редакция даже пригрозила подать в городской суд и выселить мастера в двадцать четыре часа из Москвы. Короче говоря, одним – правительственные ордена, а другим – повестки в суд. Он вытерпел и это надругательство, только стал еще более замкнут, еще более хмур. Все чаще заставали его друзья за чтением литературы об изгоях или изгоями же и написанной. Зачитанный томик Рембо, биография Че Гевары, жизнеописание протопопа Аввакума – вот не полный перечень лежащего в изголовье убогого ложа. Когда события в Югославии сделались известны, гомельский мастер не остался, подобно большинству, равнодушным, но устремился на подпольный вербовочный пункт – ехать в Сербию. Само собой понятно, что художник не хотел стрелять и убивать, он собирался сражаться своим искусством, собирался с представлением объехать линию фронта, давая бесплатные концерты бойцам. Руководствуясь в благородном порыве своем примерами Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, гомельский мастер, однако, вынужден был столкнуться с черствостью, неведомой его предшественникам. Офицер, рассматривающий заявки добровольцев, выслушал художника и сказал сухо: пошел вон, засранец. У нас своего говна хватает. Художник вышел на улицу, в ушах звенело оскорбление, щеки его горели, руки тряслись. О, как проклинал он в душе свой порыв, как раскаивался в искренности чувства. Да пропади она пропадом, чертова Югославия, со всеми своими мелкими сатрапами – Милошевичем, Хаджманом, Караджичем! Да сгинут они, ничтожные оболваненные народы, лелеющие шкурный интерес!
И, словно сметенная с карты проклятием мастера, рассыпалась в прах Югославия.
XIV
Развал соседней страны, населенной православными братьями-славянами, прошел в России незамеченным. До того ли, в самом деле, было: собственных забот по горло, не уследишь за всеми соседями. И заботы без преувеличения, первоочередные, откладывать их решение невозможно! Требовалось создать такое общество, чтобы оно стало неуязвимо для рецидивов тоталитаризма. Надобно так сформировать сознание граждан страны, чтобы злокозненные адепты командно-административной системы оказались бессильны перед общественным разумом. За короткий срок усилиями просветителей были возведены бастионы, ограждающие личность и ее права. Сунутся злодеи со своими коварными планами порабощения – а не тут-то было: все газеты, все телевизионные программы, все форумы и кворумы дадут им отпор крупнокалиберной информацией!
Голда Стерн, долго остававшаяся в тени своей знаменитой подруги Розы Кранц, нашла наконец собственное, никем не засеянное поле деятельности. Гражданка Стерн сделалась правозащитницей и посвятила свои время, страсть и талант отстаиванию гражданской истины. Может быть, в иных палестинах деятельность правозащитника и является факультативной, так сказать, домашней работой, происходящей помимо профессиональной деятельности, – но в стране, что долгие годы томилась под прессом идеологии, задыхалась в отсутствие правдивой информации, деятельность правозащитника – это тяжелый каждодневный труд.
Оставив на попечение Розы Кранц современное искусство, Голда Стерн отдала свое перо вопросу гражданского общества, строительству его правовых институтов. Работы хватало.
Скажем, некоторые разночтения наблюдались в отношении жертв сталинских репрессий. Бичуя коммунистический ад и соловецкие лагеря, публицисты призывали народ ужаснуться потерям – но сталкивались с досадным неудобством: никто не знал, каковы же эти потери? Так, журнал «Актуальная мысль» остановился на числе 25 миллионов – именно столько, по свидетельству Бориса Кузина, погибло в сталинских застенках; Александр Солженицын обозначил количество жертв цифрой 43 миллиона человек; академик же Потап Баринов, отец известного журналиста, бывший посол в Мексике, а ныне прогрессивный общественный деятель, называл цифру в 60 миллионов. Понятно, что каждый из упомянутых культурных деятелей в самых гневных тонах отзывался о людоедском режиме, понятно, что каждый из правозащитников сострадал павшим, – но о цифрах договориться не получалось. У читателей могли возникнуть вопросы в связи с небольшими количественными несовпадениями: люфт в двадцать миллионов единиц вносил путаницу в обличения. Следовало в рабочем порядке договориться о конкретной цифре замученных. Понятно, что погибло много народу, – но вот сколько? Вобщем-то, можно было сойтись на некоей средней величине – ну, скажем, миллионов тридцать – тридцать пять. Звучит убедительно и трагично. Однако приблизительность в данном вопросе невозможна: исходя из того, что именно отдельная личность была провозглашена мерой истории, недурно было бы вести строгий учет (ну хотя бы с точностью до миллиона), сколько этих личностей погибло. Такая горестная арифметика несомненно помогла бы и в дальнейшем строительстве общества: у граждан в осажденной демократической крепости возникла бы уверенность, что каждый из них – не счету. Однако договориться не получалось.
Стали прибегать к уловкам. Потап Баринов в резкой обличительной заметке указал, что речь идет о цвете нации – т. е. о здоровых, молодых, талантливых людях, павших на плахе тоталитаризма. Возникал законный вопрос: а что же, нездоровых и малоодаренных не посчитали? Ведь если с убогими бабками сложить, с теми дурами, которые просто под руку расстрельной команде попались, – то ведь умопомрачительная цифра выйдет. Что же, сто миллионов погибло? А вообще-то сколько в России народа? Если сто миллионов отнять, останется сколько? Если сорок три миллиона из общего числа вычесть? Тут еще некстати выплыли и цифры потерь в Великой Отечественной войне: то ли девятнадцать миллионов погибло, то ли двадцать три – здесь цифровой разброс был скромнее. Однако если сложить двадцать миллионов и шестьдесят миллионов, да еще прибавить неучтенных бабок, то выходило, что вся Россия поголовно была истреблена, а это все-таки не совсем так. Попытались было привлечь к делу энтузиастов-доброхотов: возникли такие самодеятельные организации, что стали выискивать следы каждой судьбы, составлять реестры жертв. Однако таким путем убедительных цифр не получишь – если судьбу каждого Иван Иваныча рассматривать, это на десять лет работы хватит, а цифры нужны сегодня. Выходили в провинциальных издательствах тонкие брошюры с перечнем фамилий репрессированных, но разве можно эти куцые данные использовать в идеологической борьбе с тиранией? Доходило до ссор и прямых обвинений в пособничестве коммунистическому режиму. Некий журналист сунулся было в архивы и выкопал несуразную цифру: будто бы в лагерях ГУЛАГа с 1934 по 1947 г. умерло 936 766 заключенных, то есть почти что миллион. Если прибавить сюда расстрелы и подавления крестьянских волнений, партийные чистки и т. д. и т. п., получалась цифра в четыре миллиона человек – но удовлетвориться такой жалкой цифрой ни один уважающий себя правозащитник не мог. Казалось бы, вполне достаточно народу убили, есть о чем скорбеть. Если разобраться, то гитлеровские лагеря, нацеленные на планомерное убийство евреев, и поставившие смерть на конвеерный поток, сумели убить шесть миллионов евреев – и это очень много. Однако пафос правозащитного движения требовал превзойти гитлеровские результаты. И с тем же рвением, с каким в советские годы доярки опережали по показателям удоев своих западных коллег, российские правозащитники выдавали на гора такие цифры, что оставили западных соперников далеко позади. Если бы гестаповские палачи прочли отчеты о содеянном их конкурентами в Сибири, у них бы руки в бессилии опустились. Количество жертв должно выглядеть солидно и соответствовать пафосу просветительской работы: издательство «Наука» опубликовало сборник, в котором число убиенных в России за XX век было обозначено цифрой 250 миллионов – т. е. четверть миллиарда. Цифра выглядела ошеломляюще: фактически было истреблено население, превышающее количественно и советскую империю, и Западную Европу. Несколько мешала приблизительность – ну негоже, памятуя о значении каждой отдельной судьбы, оперировать такими огромными числами. Хорошо бы в последних цифрах числа указать пару точных цифр – 250 000 011, например. Дескать, никто у нас не забыт.
Одним словом, Голда Стерн, однажды взявшись за дело, убедилась, что дел – непочатый край. Легко сказать: подними, мол, архивы, исследуй-де факты. На это никакого времени не хватит. А тут еще региональные конфликты: вот еще и где-то на восточных границах, не то в Армении, не то в Азербайджане стреляют, еще и в Чечне кого-то режут. А еще подмосковные бандиты друг друга взрывают – этих как, учитывать или нет? Цвет они нации или так, листочки? Тут, знаете ли, учетных карточек не напасешься, если каждую смерть фиксировать. Требовался здравый принцип в подходе к вопросу о защите прав личности в гражданском обществе – и лучшие люди, совесть страны (Голда Стерн, депутат Середавкин, академик Баринов) склонили свои лбы над бумагами и картотеками. Голда Стерн в беседе с лучшей подругой своей Розой Кранц поставила вопрос, что могло бы считаться критерием личной состоятельности индивида, достаточным для того, чтобы его судьба стала мерой истории – а, следовательно, поддавалась бы учету? Роза Кранц отнеслась к вопросу серьезно и ответила так:
– В истории современного искусства – критерием является персональная экспозиция в музее Гугенхайм. А если нет такой – то произведение демонстрируется на групповой выставке и рассматривается в качестве примера в рамках тенденции.
Этот принцип и положили в основу гражданского общества.
XV
Следя за хроникой конфликтов и чередой явлений культуры, Сергей Ильич Татарников, расположившись с ворохом газет подле кресла Рихтера, зачитывал ему передовицы, светскую хронику, новости высокой моды и интервью политиков.
– Знаете, Соломон, – сказал Татарников, прочтя очередной пассаж о визите российской делегации на Каннский фестиваль и задержавшись на подробном описании туалетов и сервировки стола, – знаете ли вы, что такое фазан Буарогар с крутонами под соусом бешамель?
– Нет.
– Но вы же интеллигентный человек. Неужели не знаете? А фрикассе из молодых трюфелей с фуа-гра?
– Прекратите дурачиться.
– Я тоже не знаю. А что такое двубортный вест с пелеринкой от Булгари? Или распашные муфты от Ямамото?
– Не знаю и знать, представьте, не хочу.
– А что такое Дольче и Габбана?
– Отстаньте.
– И я не знаю. А знаете, что вся наша жизнь теперь напоминает?
– Что же?
– Легкую венерическую болезнь – вот что. У вас триппер в юности был?
– Представьте, нет.
– Возможно, что и напрасно, Соломон. Именно триппер помог бы вам понять природу происходящего.
– Ах вот как?
– Именно. Видите ли, некоторые люди склонны считать, что наше общество больно сифилисом. Они приукрашивают, Соломон. Это было бы слишком возвышенно – подхватить сифилис. Сифилис – болезнь избранных, удел гениев. Сифилитик бросает вызов толпе, сифилис отделяет художника от мещан. У нас же заболевание не опасное, просто немного стыдное, вроде гонореи или трипака. Мы себя слегка подлечиваем, но не стараемся особенно – все равно опять подцепим какую-нибудь дрянь: жизнь такая, что кругом одни проститутки. И чем человек более внедрен в цивилизованное сообщество себе подобных, тем выше вероятность при мочеиспускании испытывать легкое жжение. Но не сифилис, нет! Настоящие сифилитики – это люди, пережившие большие страсти, им ведома любовь – высоты ее и обрывы. А если у кого триппер, тот наличие высоких чувств отрицает в принципе – его опыт о таковых не рассказывает. Триппер – недуг проституток, а сейчас, похоже, все мы строим комфортабельный бордель. Сифилис достается изгоям, а триппер – это приз за коммуникации.