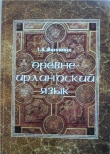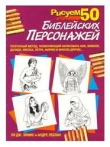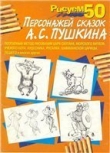Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
Главa двенадцатая
СТРАТЕГИЯ ОСАЖДЕННЫХ
I
Надо признать, что роль хрониста удается мне не слишком хорошо. Приходится отвлекаться на происшествия не такие важные исторически, как экономические реформы или военные действия, на события частного порядка, но безмерно значимые для меня. Я отчетливо понимаю, что допускаю историческую несообразность, уравнивая в значении судьбу Александра Кузнецова и учреждение демократических институций или забвение масляной живописи и резню в Югославии. Может сложиться впечатление, что именно отсутствие холста и красок сделало возможным лагерь смерти Омарска и бомбардировку Грозного. Прав ли я, разрешая себе подобное? Мне всегда казалось, что личная судьба так вплавлена в историческую картину, что делается от нее неотторжимой: поди извлеки персонажа на мосту с заднего плана картины Ван Эйка. И однако я вынужден согласиться, что слишком часто персонажи начинают диктовать хронике свою волю – или во всяком случае влияют на интонацию рассказа. Видимо, это неправильно. Ведь не ради персонажа на мосту писал свою картину Ван Эйк. Сегодня, когда я не жду ни от персонажей этой истории, ни от истории самой ровным счетом ничего, когда я могу судить беспристрастно, я должен спросить себя: что же было для меня более ценным, чему я склонен был довериться – идее или ее воплощению? И даже так: непременно ли человек является воплощением идеи? А если нет (мне встречались люди, не воплощавшие никакой идеи) – может ли он влиять на развитие этой идеи, ее существование в мире? И еще резче: если он на идею истории никак повлиять не может, имеет ли смысл его существование – с точки зрения истории? Я должен признать, что воплощение – так уж получилось – для меня важнее идеи. Генеральный проект истории и хроника одной жизни – вещи несопоставимые, знаю. Соотношение идеи истории и истории как таковой для меня иллюстрирует следующий пример. В итальянских иконах Треченто я обратил внимание на перчатки, которые носили отцы Церкви: на том месте, где у распятого была рана, к перчатке пришивали рубин. Драгоценный камень, символизирующий стигмат, на перчатке Блаженного Августина, и вечно кровоточащие раны, коих удостоился святой Франциск, соотносятся в моем представлении, как идея – и судьба. Я знаю людей, которые именно в этом месте прервали бы меня и сказали так: вообрази, что поверх руки со стигматом надета перчатка с рубином – это и есть история и хроника судьбы, сплавленные в одно. Пусть так; тем более мне не жалко идею истории – мне кажется, что любое обобщение (то есть любая перчатка с рубином, надетая на рану) – фальшиво. Признание это тем болезненнее, что я намерен продолжать излагать события в их хронологическом порядке в надежде, что исторический фон объяснит поведение действующих лиц. Иной цели – кроме как содействовать пониманию того или иного лица, моя хроника не преследует. Знаю, что подход не исторический, но что поделать?
Вероятно, сострадание – категория, истории не присущая: рубины (от рубинов на перчатке Блаженного Августина до рубиновых звезд Кремля) лишь символизируют кровь, а сострадать символам невозможно. Если дело обстоит так, то Россия – вопреки известным концепциям – земля вполне историческая: сострадание знакомо России лишь понаслышке. Русские люди именно слышали о том, что такое чувство бывает, но сами не пробовали его испытать. Подростком я читал о российском феномене Всечеловека, слышал нечто патетическое про русскую душу, способную воспринять боль другого. Очень может быть, что авторы этих высказываний сами были людьми отзывчивыми, но генерализировать их свойства я бы не стал. Во всяком случае, события последних лет этого не показывали. По давней и доброй российской традиции мои сограждане органически не могли признать, что кому-то в мире хотя бы гипотетически может быть хуже, чем им. Так уж сложилось от века, что даже самые совестливые и отзывчивые представители русской интеллигенции сроду не могли пробудить в себе хотя бы тень сочувствия к переживаниям, выпавшим на долю тех, кого Божий промысел догадал уродиться за пределами одной шестой суши. То ли все отпущенное природой сочувствие растрачивалось на многомилионный русский народ (и то сказать, сколько их, бесправных, вечных крепостных, навсегда обездоленных), то ли размеры империи не позволяли разглядеть происходящего за ее границами, но только ни один из тех, кого принято называть русскими гуманистами, не удосужился сравнить быт китайского крестьянина и российского колхозника, индийского батрака и рабочего автозавода им. Лихачева, ангольского раба и крепостного помещика Троекурова. Исходили гуманистические умы, вероятно, из того, что ангольским страданиям должны сопереживать ангольские гуманисты, а китайским неурядицам – просветители Поднебесной. Нам тут своих забот – по горло, жизни не хватит, чтобы местную грязь разгрести, резонно рассуждали русские гуманисты, что ж брать на себя еще и лишний груз? Разумно ли? И ничто не могло найти в российском народе большего отклика, чем эта преданная отечеству точка зрения. С другой стороны, ничто не вызывало в народе большего негодования, нежели так называемая интернациональная политика преступной Советской власти. В ту пору, когда безмерные амбиции Государства Российского распространились на весь мир, и рука Кремля доставала аж до Кубы, приходилось, в частности, той же Кубе и помогать, посылать туда хлеб например, – и это в то время, когда лишнего в России не было. А когда оно было? Когда у кого-нибудь лишнее бывает? Если бы провиант из осажденной крепости посылали в иные города, как бы, спрашивается, реагировал гарнизон? И тот период, когда российская крепость возомнила себя настолько мощной, что заинтересовалась судьбами иных стран, этот короткий период заинтересованности – пусть и весьма небескорыстной – судьбой другого вызвал ненависть и недоумение, и прежде всего у людей совестливых, моральных. Мыслимое ли дело, восклицали они, посылать из нищей страны то, что пригодилось бы самому многострадальному российскому народу? Есть ли мера цинизма коммунистических сатрапов? Времена интернациональных амбиций миновали, и вместе с утратой подмандатных территорий Россия окончательно утратила и возможность думать о ком-либо кроме себя самой, то есть вернулась в привычное, доступное пониманию каждого аборигена, состояние. К тому же и времена перехода от социализма к капитализму, объективно тяжелые времена перемен, не располагали к сочувствию другим. И в самом деле, кому может быть хуже, чем нам? У кого проблем больше? Страдает больше кто? Есть такие разве? То-то и оно, что нет. И когда писатель брался за перо, журналист за магнитофон, рабочий за стакан, всех посещала одна и та же утешительная мысль: нам хуже всех, посмотрите на нас, люди, подивитесь, как мы страдаем.
II
Тем временем в мире давно началась война за передел социалистического наследия; Восточная Европа, Африка, Восток были изгрызаны войнами. Войны эти, тем более беспощадные, что непременно оказывались гражданскими, тем более безысходные, что победителю доставалась все та же ненавистная ему роль раба – просто раба иной системы, не социалистической, – начались немедленно после падения Советской власти. Иные войны тлели уже давно и теперь разгорелись ярче, стоило подбросить в костер обломки империи; иные возникли там, где, казалось, достигнуто согласие; иные – те, что медлили начаться, – были начаты извне, при участии прогрессивных соседей. И впрямь, что же медлить? Можно ли равнодушно взирать на бесхозную, коснеющую в заблуждениях землю? Надобно вырезать опухоль сразу, пока есть возможность. Мир следовало перекроить не откладывая, не оставляя возможности дикарям, едва сбросившим ярмо социализма, впасть в самостийное дикарство. Да и сами дикари, то есть иные из них, облеченные властью и умудренные опытом, тянулись к победившей цивилизации. Даже в самые девственные умы проникло понимание того, что управлять себе подобными на ограниченном пространстве можно лишь с согласия тех, кто управляет обширным пространством. Наместник сменял наместника, работорговец – работорговца, и тысячи и тысячи его родственников, свойственников, сограждан должны были заплатить жизнью за эту перемену. Впрочем, перемены были к лучшему, вне всякого сомнения, к лучшему: мало кто смог бы отрицать, что наместники нового призыва представили значительно лучшие кадры, нежели деятели социалистической эпохи. Коммунистическая догматика и ханжество ушли в прошлое, их сменил здоровый прагматизм – и (исходя из того же прагматического подхода) имело прямой смысл пожертвовать тысячами жизней (ну десятками тысяч, ладно, не важно, не будем до такой степени педантами), чтобы иные поколения этих вверенных наместнику территорий жили более качественной жизнью, попробовали демократии: поучаствовали в прямых выборах, посмотрели многоканальное телевидение, купили сникерсы.
Старый мир умирал, но, как справедливо заметила в свое время леди Макбет, кто бы мог подумать, что в старике столько крови? Началась резня в Югославии. Сербы убивали хорватов, те – сербов; боснийцы – тех и других; албанские косовары – тех, кто не мусульманин, а так называемые христиане – напротив, убивали мусульман. Собственно говоря, не происходило ничего нового по отношению к опыту, накопленному миром в прочих гражданских войнах, когда говорят, будто убивают за идею, но делают это по причине соседства. Соседа всегда лучше убить на всякий случай, чтобы он не убил тебя. Ведь у обоих для кровопролития довольно резонов: восстановление дедовских границ садового участка, например. Этот древний закон соседства, обузданный на время социалистической идеологией, вновь сделался внятен и властен. Те, кто пятьдесят лет назад называли себя четниками или усташами (то есть связывали убийство соседа с определенной ролью во Второй мировой войне), нынче, на руинах социалистической империи, получили возможность убивать просто так, не обременяя себя ярлыками. Шли так называемые этнические чистки, то есть массовые расстрелы людей иной крови, чем у тех, кто их расстреливал. Впрочем, поскольку в масштабах крайне маленькой страны этнический состав населения меняется каждые пятьдесят километров, убивали все-таки прежде всего по принципу соседства – а уже задним числом приписывали расправу национальной розни. Убивали членов соседней семьи, жителей ненавистной деревни, но волею вещей они оказывались к тому же людьми иной веры. Убивали тех, кто в социалистические годы отвечал за общее имущество и вопиюще много взял себе; убивали и тех, кто забирал теперь слишком много бесхозного добра; убивали и тех, кто просто стоял на линии огня – а где еще было встать? Убийства шли ежедневно и не могли остановиться, и было непонятно: как теперь, после резни в коммунальной квартире, организовать соседство? На каких началах? Как поделить квадратные метры, заваленные трупами?
Мир немедленно расставил точки над i, обозначил приоритеты. Крайне бездарно было бы для мировой политики позволить людям убивать друг друга абы как, без всякой пользы и политической перспективы. Уж если им все одно – подыхать, то хотя бы следует сформировать для них приличную цель, принести эти бессмысленные жертвы на алтарь прогресса. Война все равно идет, так сделаем же ее осмысленной. Некогда Ленин бросил клич: превратим войну империалистическую в войну гражданскую! Нынешний лозунг звучал прямо наоборот: превратим войну гражданскую в войну империалистическую! И превратили. В самом деле, сербы и хорваты, так или иначе умерщвляемые друг другом, должны погибнуть не зря: пусть своими трупами вымостят дорогу к переустройству общества, к созданию новой карты; придать смысл их варварскому смертоубийству – долг цивилизации.
Таким образом, т. е. ответственно, смотрел мир на эту грязную войну. Люди, сидящие в офисах на Парк-Лейн, в особняках близ Булонского леса, на верхних этажах небоскребов Манхэттена, снимали, разгорячась работой, пиджаки, ослабляли узлы на галстуках, склонялись над картой. Им небезразлично было, как именно будут развиваться события. Напившись горячего кофе, начитавшись репортажей с мест событий, они составляли сводки и проекты, по которым следовало кроить карту. Некоторые из них действительно сочувствовали чужим страданиям: например, принцесса Диана и ряд личностей не столь значительных вплотную занялись решением вопроса по ликвидации противопехотных мин – уж слишком негуманным казалось им это оружие, калечащее наугад все вокруг. И впрямь, что-то есть нечестное в этой мине, она совсем не похожа на оружие рыцарского поединка: осколки летят куда попало, ранят кого придется. И что же удивляться, что люди ответственные, сняв пиджаки, принялись убеждать производителей оружия вовсе от этой губительной дряни отказаться. Правды ради следует заметить, что одновременно с этим в высшей степени человеколюбивым движением широко разворачивалась кампания по внедрению нового калибра стрелкового оружия знаменитого калибра пять пятьдесят шесть. Эта гуманная пуля не убивала наповал, но, меняя траекторию внутри тела жертвы, разрывала органы и дробила кости, то есть выполняла миссию противопехотной мины. Зачем убивать врагов, если выгоднее оставить у противника на руках полные госпитали обездвиженных калек – безногих и одноруких? Некогда эту функцию исполняла противопехотная мина, – но безнадежно устарела. Зачем, в самом деле, возиться с неудобной в обращении штуковиной, устанавливать ее с риском для жизни на дорогах и в кустах, если в каждом стволе может лежать эта самая смерть наудачу – пуля, непредсказуемая, как осколок, пуля, гуляющая сама по себе. Так, списывая в утиль устаревшее негуманное оружие, мир одновременно внедрял оружие прогрессивное. Нередко борцы с противопехотными минами встречались с рационализаторами, внедряющими калибр пять пятьдесят шесть – на коктейлях в День Благодарения, на открытии выставки Энди Ворхола, на дефиле у Ямамото. И когда новый покрой платья был уже обсужден, разговор сворачивал на главное. «ООН приняла резолюцию по противопехотным минам». – «Наконец-то. Боб (или Маргрет, или Диана), то, что сделал ты, – исключительно важно». – «Да, полагаю, что так. Надеюсь, внуки смогут гордиться своим дедом. А твои успехи?» – «Определенных результатов уже добились. Полагаю, в этом году натовский калибр заменят на пять пятьдесят шесть». – «Это невероятно, Роджер (или Элиза, или Кристина). Твоей энергии можно позавидовать. Кто производитель?» – «Вопрос открыт. Хочешь поучаствовать? Рынок огромный». – Безусловно, Роджер, безусловно. А как твое мнение о позднем Ворхоле?» – «Гений. Просто гений».
III
Впрочем, что ж поминать неких обобщенных роджеров, если вполне конкретный, живой Гриша Гузкин принял участие в финансировании производства гуманной пули. На мысль эту его натолкнул дюссельдорфский дантист Оскар, человек в высшей степени информированный.
– Мне кажется, Гриша, что вам пора стать человеком Запада, ответственно относиться к жизни.
– Я стараюсь, Оскар.
– В частности, следует с уважением относиться к заработанным деньгам: пускать их в рост, вкладывать в производство. Вы тем самым поддерживаете труд других людей, способствуете промышленному развитию общества и умножаете свой капитал.
– Что бы вы посоветовали?
– Мы с Юргеном вложили деньги в производство пули нового калибра. Вас удивляет, Гриша, что я, врач, поддерживаю рынок оружия?
– О, что вы, – сказал вежливый Гузкин, – нисколько.
– Как врач, я вам скажу, что пуля эта гуманнее предыдущих образцов – легче вдвое, убойная сила низкая. Как предприниматель, я заявляю, что будущее на рынках оружия за ней.
Делясь с подругой Барбарой фон Майзель деталями разговора, Гриша обобщил: «Решено. Я вложу свой капитал (Гузкин любил слово „капитал“) в производство калибра пять пятьдесят шесть. И знаешь ли почему? Не только ради прибыли – отнюдь нет. Просто я, как человек Запада, считаю, что добро и демократия обязаны быть сильными в современном мире. И свой долг вижу в том, чтобы помочь демократии осознать себя сильной». – «Я знала, что ты придешь к пониманию этого вопроса, – обрадовалась немочка, – да, пять пятьдесят шесть – звучит перспективно. Я давно купила акции этой компании». – «Меня всегда раздражало интеллигентское слюнтяйство, – заметил Гриша, – этакий род безответственности. Совершенно понятно, что не будь в свое время изобретена атомная бомба, сталинские орды дошли бы до Парижа. И кто остановил людоеда? Простой дантист, вложивший заработанные деньги в производство оружия сдерживания». Барбара прижалась к Гришиной щеке: «Мы идем вечером к Портебалям?» – «Разумеется. И надень этот венецианский кулон с негритенком». Гриша говорил про венецианский кулон, но сам думал при этом, как приятно будет при случае поговорить об ответственности с московскими друзьями, Пинкисевичем или Дутовым. Разговор может начаться с пустяков: мол, где ты, Пинкисевич, хранишь деньги? В чулке, небось, как чукча? Цивилизованным человеком стать не пробовал? И постепенно, слово за слово, объяснить стратегию: процентов десять надо вложить в акции таких фирм, как Нестле или Сименс (производство консервативное, надежное); процентов сорок в долгосрочный банковский вклад под высокий процент; процентов двадцать в земельные спекуляции (земля всегда дорожает); и процентов тридцать в рискованное, но оправданное прогрессом производство – например, в пули нового калибра, в штурмовые вертолеты, в нервно-паралитические газы нового поколения. В этом месте Пинкисевич наверняка поперхнется водкой и спросит: как так? А гуманизм? Тут-то и подвести его к карте мира и показать, как, в сущности, мал островок т. н. гуманизма, того и гляди его затопит океан варварства, и объяснить, что стратегия размещения частных капиталов обязана воспроизводить генеральную линию цивилизации. Думаешь, Эдик, твоя хата с краю? Думаешь, колокол звонит не по тебе? Мы все, – надо сказать ему так, – мы все, Эдик, в одном ковчеге, на одном бастионе; наша общая задача – поддержать цивилизацию. Все разумно спланировано: должный процент ресурсов обеспечивает стабильность общества, должный процент отведен под будущий рост, но необходимо тратить также усилия и деньги на то, чтобы общество двигалось вперед – надобно потратиться на разумную экспансию. Так рассуждал Гриша Гузкин, вкладывая нелегким трудом заработанные средства в оборонную промышленность.
IV
И уж если отдельный гражданин ответственно относился к таким, в сущности, мелочам, как калибр стрелкового оружия, то что говорить о внимании всего мира к перемещению границ и к миграциям рабочего населения. Война, пущенная на самотек, – не война, а недоразумение.
Россия же, по обыкновению, смотреть на чужое горе не желала. Ну убивают, да, правда. Но все равно ведь столько, сколько русских перебили на войнах, не перебьют. Где им столько народа взять? И чего тогда, спрашивается, печалиться? Ну куда вы со своими бедами лезете – не видите, нам в три раза горше. Ведь если пересчитать все жертвы перестрелок, случившихся при дележе нефтяных скважин, то цифра перекроет балканские потери. Одних бойцов Тофика Левкоева, отдавших молодые жизни в период первоначального накопления средств хозяином, полегло никак не менее тысяч пяти. Это еще до покупки виллы на Сардинии, до организации банковской сети – потом, конечно, стали убивать реже, избирательно. А прибавить отряды, обслуживающие интересы Михаила Дупеля? А припомнить сотрудников Щукина, сложивших голову во славу рыночной экономики? Только за алюминий сколько положили? За голову схватишься. И это мы еще не считаем вольных стрелков, тех, кто в прекраснодушном азарте своем образовывал дикие бандформирования, чтобы хоть чуточку да отщипнуть от бесхозной госсобственности. Перебитые и замученные друг другом, они удобрили бесплодную землю Отечества. Сколько этих неизвестных солдат Перестройки зарыто по безымянным пустырям России – они пали безвестные и неоплаканные, ушли из жизни с пулей в голове, с напильником в печени, с паяльником в заднем проходе. А их вдов разве сочтешь? А их бесхозные апартаменты, где произведен евроремонт и поставлена итальянская сантехника, где теперь лишь гуляет ветер и перекатывает по полу неоплаченные счета, таможенные декларации, билеты на рейс Москва – Лимассол? Одним словом сказать, своих бед не перечесть, и недосуг России заниматься чужими гражданскими войнами. Чего ради нам интересоваться Югославией – нефти там нет, долларов тоже нет. И головы не повернули в ту сторону.
И это как раз напрасно, поскольку Балканы имели к России самое прямое отношение – как поджелудочная железа к печени. Представим, что есть большое тело – мир, и оно, это тело, определенным образом устроено, свою роль играют руки, свою – голова, свою – почки, свою – пятки и т. д. (Сходный образ использует Шекспир в «Кориолане».) Придется согласиться с очевидным положением, что иным органам (животу, скажем, или плечевому поясу, или позвоночнику) природой предписано соединять прочие части; а иные органы (например, желудок или печень) ответственны за восприятие организмом внешней среды и т. п. И если организму (то есть миру) придет вдруг на ум избавиться от какой-то своей части – ампутировать, допустим, Югославию, – то организм должен представить себе, какую именно свою часть он вырезает – почки, сердце или аппендикс. Не то даже беда, что оттяпает не то, но надо решить, чем заполнить освободившееся место. Добро бы отрезали вовсе ненужный орган. А если нет? Вдруг отхватят что-нибудь полезное? Кто станет вместо удаленного органа исполнять его функции? Вовсе недурно было бы, например, устранить Россию, да, собственно говоря, дело к тому и идет, но что тогда вместо России станет базаром, где Восток торгуется с Западом? Что вместо России сделается этой грязной рыночной площадью, где азиаты обменивают свои обычаи на европейскую валюту, где европейцы продают демократию за азиатскую нефть, где имеет свободное хождение – наряду с мечтами о западных правах – восточная дипломатия, восточная власть и восточная лень? И что в дальнейшем будет связывать две несхожие культуры? Ведь ноги из плечей не растут. И функцию России (именно культурную, а не экономическую, не стратегическую, хотя и это важно) не возьмет на себя ни Германия, ни Казахстан.
Всякий раз, когда желание изменить анатомию мироустройства посещало державные умы, возникал этот проклятый вопрос как присоединить голову к заднице, минуя живот? Вовсе не случайно европейские конфликты всегда начинаются с Балкан – это в малом масштабе тот же российский пустырь, смешение Запада с Востоком, компот из конфессий и этносов. И если ставить эксперимент по пересадке органов – то именно там. Балканы, если можно так выразиться, выполняют ту же функцию, что и Россия, но как бы предварительно, начерно. Это первая, не основная, связующая конструкция меж Востоком и Западом; и этот орган еще можно удалить; опасно, но не смертельно. Так, скажем, удаляют желчный пузырь, предпечень, без него еще жить можно. Но было бы крайне неосмотрительно со стороны печени не заметить, что желчный пузырь уже оттяпали. Однако Россия не замечала ничего: ни гражданской войны, ни того, как эта война преобразуется.
Пока силами гражданской войны ровняли с землей Вуковар и Мостар и укладывали во рвы расстрелянных; пока силами прогрессивной общественности превращали гражданскую войну в войну империалистическую, т. е. вытравливали из воспаленных балканских голов классовый подход дабы начинить головы национальной гордостью; пока передовые умы направляли бойню в нужное русло, чтобы разорванные снарядами тела, вывороченные внутренности, безглазые головы, оттяпанные конечности сложились в осмысленную картину; одним словом, пока светлые умы были заняты достойным делом – в это самое время великий русский лентяй, как обычно, был занят гвоздем в своем сапоге. Не научилась Россия цивилизованному подходу, не научилась, как это принято в приличном мире, интересоваться чужой бедой. Тот же взволнованный интерес, который проявляет европеец, заглядывая в чужую тарелку (мол, как оно, не горчит? не пересолили?), – тот же взволнованный интерес принято проявлять и к резне в отдаленных провинциях. Дескать, как там у вас? Не геноцид ли, часом? А нефть имеется? А с дешевой рабочей силой как?
Недреманное око мировой общественности было устремлено к местам массовых захоронений, к полям сражений. Сотни и тысячи миротворцев стремились на пропитанную кровью землю, чтобы убедить людей убивать друг друга цивилизованным образом: не противопехотными минами, а калибром пять пятьдесят шесть, не ради бессмысленного передела социалистической собственности меж соседями, но ради образования новых национальных правительств с разумно управляемой экономикой. Превратить бессмысленную бойню в управляемый исторический процесс – вот цель. И нельзя сказать, что для цивилизованного человечества эта цель была новой.
Собственно говоря, этот вопрос стал – и потребовал незамедлительного ответа! – перед миром в тридцать шестом году минувшего века, в Испании. Оставить гражданскую войну, как она есть, то есть классовой, согласиться на роль наблюдателей того, как большая коммунальная квартира вырезает друг друга, – или принять участие, то есть изменить цели этой резни. Вырезать-то они друг друга все одно вырежут – но вот во имя чего? И тогда интернациональные силы были брошены на оба враждующих фронта, дабы участники событий поняли: не за передел своей грошовой собственности они дерутся, не за свои никому не любопытные права, не за вялое правительство Ларго Кабальеро или суровое воинство Франко, но принимают участие в захватывающем переделе мира. Не гражданская война – к чему частные истории там, где делается великая история? – но великая империалистическая война; да война, собственно, в таковую, т. е. в так называемую Вторую мировую, и переросла. Положение осажденного Мадрида было тем смехотворнее, что лишь наивные защитники города полагали, что защищают некие свободы – и это в то время, когда решительно всем, и тем, кто был против них, и тем, кто был за них, одним словом, всем – было внятно: декларации свободы ни при чем. Решалось, где лягут границы империй, что станет колонией, что метрополией, какое оружие совершеннее – немецкое или русское, чья разведка лучше, кто завтра выйдет победителем в большой игре, кто будет диктовать волю рынкам, а вы тут со своим убогим no passaran. Кто no passaran? Прогресс не пройдет? Еще как пройдет, ахнете. Попутно решался еще один весьма существенный вопрос: допустить ли передел мира на основе классовой (читай: гражданской) или сохранить старый имперский принцип. И если члены ПОУМа, идеалисты из батальона им. Линкольна или анархист Дурраско полагали, что именно гражданский принцип важнее и решается он методами гражданской войны, то дальновидные люди, мужи сонета, мастера дальнего планирования – что в Москве, что в Берлине, что в Лондоне – понимали, что будущее за империями, за транснациональным производством, и отсебятина гражданской войны должна быть задушена без жалости.
Оттого и сажали в лагеря вернувшихся в Россию интербригадовцев; им вменяли в вину идеологические преступления и закатывали по десять лет Сиблага, а они, близорукие, только глазами хлопали: за что же это? Мы ли за коммунизм не сражались в гражданской войне? То-то и оно, что сражались, придурки. Вот за это самое и сидите. А вас разве просили сражаться? Тут надо было тонко понимать задачу: и присутствовать, и не дать проиграть, но и в атаку не лезть. А то вдруг победили бы – тогда что? Оттого и не сделался ни один француз, англичанин, американец военачальником в гражданской войне. За что бы, интересно знать, он стал сражаться? Не знаете? Вот и они не знали. Ах, конечно же, не было крупных военачальников среди представителей перечисленных наций потому лишь, что упомянутые страны держали нейтралитет, – но потому они его и держали.
V
Превратить войну гражданскую в войну империалистическую – это не только алчное желание небольшого сообщества власть имущих. Это объективно необходимый цивилизации процесс, сравнимый с превращением кустарного производства в промышленное. Война – крайне ответственный производственный процесс. Война не в меньшей степени, чем мир, является состоянием, необходимым обществу, развитие общества без нее невозможно. Какой-то части населения, скажем женщинам и старикам, война менее удобна, но значительной части: предпринимателям, спекулянтам, политикам, полководцам, президентам – война удобнее. Какому-то сектору экономики удобнее мир, но никак не меньшему – удобнее война. Война выполняет массу практических функций – от налаживания производства и предоставления рабочих мест до социальной стабилизации и регулирования демографии. Если во время войны и гибнут люди, то на момент ее окончания приходится пик демографического роста. Война в известном смысле есть процесс омоложения: старое общество, словно змея, меняет кожу, а если в старой коже и остаются тысячи и миллионы убитых, так это просто клетки, которыми организм жертвует для омоложения. Война – метод управления. В большей степени, чем противное государство, объектом войны является собственное. Война есть самое надежное средство для укрепления закона и порядка. Большинство императоров и президентов начинали войны во избежание конфузов и осложнений в собственном отечестве. Так поступал Агамемнон, оставляя в своем собственном доме полную неразбериху с Эгисфом, Клитемнестрой и нервными детьми, чтобы прославиться в чужих странах. Помимо этого война – катализатор этических ресурсов. Конечно, пожарные проявляют храбрость на пожаре, бизнесмен выказывает волю, продавая негодный товар, домашние хозяйки демонстрируют жертвенность, прощая мужьям измены. Но это довольно низкий процент использования заложенного в человечестве героизма. Редкому менеджеру среднего звена придет в голову отдать жизнь за топ-менеджера, а отдать жизнь за командира – явление на войне обычное. Герои делаются примером для нации, нормативы поведения становятся выше. Можно ожидать, что резня мирного населения пополнит пантеон героев: скульптурные ансамбли греческих храмов невозможны без Троянской войны.
Помимо этого война показывает, что случайного – нет. Даже если повод для войны нелеп (Менелай вспомнил об ушедшей жене спустя десять лет после ее ухода, Ксерксу приснился вещий сон, или Милошевич захотел примерить сапоги Тито), ясно, что речь идет о серьезном деле: пора менять карту. И что же такую бесконечно важную вещь, как война, пустить на самотек? Передоверить важнейшее производство самодеятельным ремесленникам? Дудки!