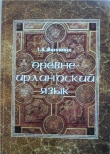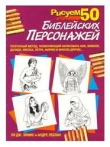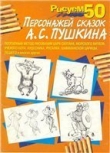Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
III
Скоро новый российский капитал почувствовал себя реальной политической силой. Банкиры запросто приезжали в Кремль, нетрезвый президент со значением тискал им руки. Банкиры влияли на назначение министров и давали взятки депутатам парламента. Банкиры покупали президенту и членам его семьи дома и яхты, а президент дарил им заводы, карьеры добычи руды, отрасли промышленности. Банкир Щукин говорил банкиру Левкоеву и банкиру Дупелю: «В конце концов, именно на нас лежит ответственность за демократическое развитие России». «Пора уже, – поддержал его банкир Михаил Дупель, мужчина румяный и с блестящими глазами, – пора капиталу понять, что власть и ее чиновники играют теперь роль простых наемных рабочих. И не надо, не надо в этом вопросе половинчатых решений! Власть хочет и честь соблюсти, и капитал приобрести? Нельзя быть наполовину беременной, ха-ха-ха! Президент должен знать, что он – наемный контрактный служащий, – и точка! И не стоит бюрократу обольщаться на свой счет. Вы пригласили профессионалов поправить вашу экономику? Извольте – придем. Мы работаем, господа, и тяжело работаем, а вы сидите на нашей зарплате? Вы кушаете наш хлеб? – что ж, пожалуйста. Но извольте тогда вести себя как менеджер на зарплате – и чтобы без фокусов!» Дупель покрутил на мизинце перстень с печаткой, такой же печаткой, как и те, что носят представители аристократических родов в Европе. Тофик Левкоев и Щукин глядели на Михаила Дупеля с уважением – он сформулировал их мысли предельно четко – а Тофик скосил глаза на перстень.
– Что это, Миша? – полюбопытствовал он.
– Наш родовой герб. Я ведь из тех Дупелей.
– А, вон оно что, – сказал Тофик, плохо представляя себе, кто же они такие, эти Дупели.
– А-а-а, – сказал Щукин, – значит, из тех самых.
– Именно.
– Да и я, – сказал Щукин, приосанясь и щелкая зубами, – родословную имею.
Впрочем, прошло еще совсем немного времени, и банкиры перестали нуждаться в присвоении себе аристократических титулов: как-то само собой сделалось понятно, что они-то как раз и есть аристократия, они-то и есть элита. Подобно тому как в семнадцатом веке, в так называемое Смутное время, Россией правил союз бояр, поименованный Семибоярщина, так и Союз предпринимателей современной России именовал себя Семибанкирщина – и этот союз считал, что он правит страной. Имена властителей сделались широко известны: Михаил Дупель, Аркадий Щукин, Тофик Левкоев, Абрам Шприц, Ефрем Балабос, Наум Шапиро, Виталий Салкин. Немудрено, что многим гражданам приходило в голову то очевидное, что все вышеперечисленные люди нерусские. «Да вы только поглядите, – говорили люди наблюдательные, – это что ж такое делается, а? Евреи, одни евреи все захапали. Шприц, Дупель и Балабос – хозяева России. Русскому ни полушки не оставили». «Все-таки вот Щукин есть», – отвечали им те, что вечно стараются сгладить этнические противоречия. «Щукин? А отчество какое у него, знаете? Вот то-то и оно». «Ну и что такого, в конце концов? Капитал – вещь интернациональная. Важно, что они граждане России, а нация ни при чем», – отвечали примиренцы. «Вспомните двадцатые годы, – говорили им патриоты, – ведь комиссары в массе своей были кто? Кто русских мужичков в лагеря гнал? Кто в ленинском политбюро сидел? Кто расстрелами командовал? Не знаете разве?» «Позвольте, – возражали патриотам сторонники фактической стороны дела, – если ваше сравнение и верно, то следует ожидать того, что рано или поздно придут русские банкиры и своих еврейских предшественников сожрут. Как это и с красными комиссарами случилось. Ну да, евреи народец инициативный, его пускают для затравки, а потом национальные кадры свое возьмут». – «Так это когда еще будет! А пока как жить?» И в самом деле как? Президент – просто наемный рабочий, министр – вор, живущий на взятках, депутат – мелкий служащий для поручений, приказы отдает капитал. Банкир Дупель опубликовал книгу «Как я стал Дупелем» – и желающие могли прочитать в ней, как, собственно, капиталист становится капиталистом в российских условиях. Дупель поднимался рывками, присваивая каждый новый участок рынка ценой неимоверных усилий, непредставимых интриг, несчитанных жертв. В книге он, разумеется, не мог описать всего, но искушенный читатель между строк мог прочесть повесть о бандитских «стрелках» (так назывались заранее оговоренные встречи для передела территорий влияния), о греве зоны (а всякий или почти всякий бизнесмен России в начале карьеры должен был поддерживать воровской мир), о вещах опасных и сделках противозаконных. Постепенно – и это было понятно из книги – капитал Дупеля стал столь огромен, а сфера влияния обладателя капитала столь велика, что он сумел не только отказаться от темного прошлого, но и возвыситься до уровня государственной власти. Ни одно решение в российской экономике не проходило без консультаций с Дупелем, и некоторые люди считали, что именно он, Дупель, и правит экономикой страны. В самом деле, горячо говорили такие энтузиасты, реальные деньги-то где? В империи Дупеля. Стало быть, и власть реальная у него же. Подумаешь, там министры сидят в правительстве – что они могут? Смех, да и только. Тщетно скептики говорили, что в России иная культурная традиция, мол, власть все равно важнее, чем капитал. Как это иная традиция? – отвечали им прогрессисты. – Какая такая иная традиция? Цивилизация-то на всех одна – поглядите лучше, как у людей устроено – там, в иных палестинах.
Деньги, рынок, продажа – кого не волновали эти слова? Вы сейчас скажете, вас не волновали, – и наверняка покривите душой. Что, неприятно получить за свой труд деньги? Разве так уж неприятно? Идешь себе по городу и знаешь, что можешь открыть любую дверь, завернуть в любой кабачок – поди как худо. Пробовали? Если вы знаете, как хрустят в руке купюры, если вы хоть раз доставали из кармана тугой бумажник и ловили завистливый взгляд соседа, если вам случалось останавливать такси и сперва садиться, а уже потом говорить адрес, не заботясь, сколько стоит проезд, – тогда вы не будете хулить русских интеллигентов, потерявших голову от своей грошовой коммерции. У людей проснулся вкус к жизни. Журналистам подняли зарплаты, в журналах эстрадные певцы рассказывали о своих новых загородных домах, да и художники не остались в стороне: банкиры стали собирать коллекции произведений искусства. Один богач, торговец удобрениями, приобрел для своей дачи холст Модильяни; другой заказал в офис антикварную мебель красного дерева, Тофик Левкоев стал скупать так называемый второй авангард. У Эдика Пинкисевича он купил сразу пять картин.
– Что ж, в конце концов, именно купцы и составили теперешние коллекции музеев, – заметил Пинкисевич в частной беседе, – и, думаю, Левкоев из этой породы.
– А некоторые говорят, что Левкоев убил банкира Щукина, – мстительно сказал Стремовский, у которого ничего не купили, – как думаешь, правда? Я читал где-то, что он его распилил на мелкие части и рассовал по консервам «Завтрак туриста». Может, врут, а может, и нет.
– Врут, – убежденно сказал Пинкисевич, – Тофик интеллигентный человек. Вот только зря он деньги дает на перформансы Сыча. Этого я не понимаю, безвкусица какая-то.
– Да, профанация.
– А потом, – сказал Пинкисевич, подумав, – «Завтрак туриста» я сам ем. Консервы как консервы.
Раздражение Стремовского, впрочем, легко было понять и извинить: в обществе свободных и равных сразу сделалось понятным, что отныне мерилом таланта является не глухая подвальная слава, не самомнение творца, не его ночные бдения в мастерской и дневные борения с начальством – нет! Отныне мерилом его достижений является успех, потому как ничто больше его творчеству не мешает, никаких коммунистических вериг носить он не обязан, а значит – если можешь, так давай зарабатывай! А коли не можешь заработать, так что-то сомнительно, чтобы у тебя и впрямь был талант. Ведь глаза всего просвещенного мира устремлены на тебя, ведь никто более не затыкает тебе рот, ведь идеология (о, проклятая стоглавая гидра, что поглотила наши усилия и стремления!), идеология-то сдохла! Так что же мешает нынче творцу влиться в современный художественный процесс? Ну ровным счетом ничего не мешает. Что мешает ему получить признание людей прогрессивно мыслящих? Опять-таки ничего не мешает. А уж влившись в процесс да получив признание, сами собой приложатся и успех и деньги. Истина эта, простая и убедительная, оказалась до известной степени еще и обидной истиной. Иной творец, не получивший признания и денег соответственно, ловил на себе недоуменные и осуждающие взгляды коллег. «Что же выходит, – говорили эти взгляды, – не слишком-то он прогрессивный и талантливый оказался. Как же это получилось, что и та галерея его не заметила, и эта? Что-то здесь не складывается. Да, это вам не бороться с начальством, тут работать надо, участвовать в мировом художественном процессе». Тщетно стал бы такой неудачник ссылаться на горестные примеры некоторых художников, что были не совсем успешны по части реализации своей продукции. «Ха-ха, – говорили ему, – Ван Гог и Модильяни! Ты еще про баснописца Эзопа вспомни! Насмешил! Когда это было? Каменный век, кризисы перепроизводства, мировая война, то, се. Теперь-то уже все иначе, в открытом обществе. На свободном рынке всякому таланту дали слово, потому что любое интересное высказывание – это потенциальный рыночный товар. Мир нынче устроен так, что талантливый человек только рот раскроет, а уже галеристы и издатели роем летят – с предложениями. Потому – рыночная система! Потому – плюрализм мышления, демократия. Все продается, было бы что за душой. Если у тебя есть убеждения, мысли, талант – стало быть, можно их продать. А не продал ничего – ну, брат, извини. Может, у тебя и нет ничего на продажу?» Так говорили люди знающие, и в их словах было трудно усомниться. Конечно, иные пылкие натуры пытались поймать их на слове и, воздевая руки к небу, восклицали: «Ах, как же так! Нет, не станем мы продавать свои убеждения, не станем!» Таким мелодраматическим репризам находился четкий ответ: «Оставьте, пожалуйста, вашу романтическую терминологию и не ловите нас на слове. Да кому нужны ваши убеждения, помилуйте? Как-нибудь без них цивилизация обойдется. Сказано же поэтом – „не продается вдохновенье, но можно рукопись продать“. Продукцию давайте для рынка – больше от вас и не нужно ничего. А если нет у вас товара, вдохновленного вашими убеждениями, такого товара, чтобы прогрессивная общественность могла пустить его в оборот – так, стало быть, и убеждения ваши ни к чему». Поспорить с этой ясной формулировкой было трудно. Тем более что всякий день страна показывала на своем примере, что еще и эти двадцать четыре часа существования отвоеваны тем, что удалось продать никому не нужный завод, заложить под проценты бездействующий грузовой терминал, сдать в аренду горно-обогатительный комбинат. Успевай только поворачиваться – и дело пойдет. А не идет у тебя дело – ну, брат, тут целиком твоя вина. И глядя на улыбающегося Пинкисевича, Стремовский горько усмехался. Впрочем, возможно, это лишь временный успех. Вряд ли Пинкисевич уловил дух времени. Ведь определенно говорят, что на Западе абстракция уже не котируется. Разберутся и наши банкиры – что современно, а что нет.
Картины Пинкисевича стали продаваться за границей. Эдик, летавший на вернисажи, вынужден был отказаться от своего знаменитого ватника и приобрести полувоенный серый френч. В нем он побывал на открытиях в Кельне и Лозанне. Скоро его позвали и в Париж.
IV
Пинкисевич, прилетевший покорять Париж, увидел равнодушный город с цветущими бульварами, одинаково серыми домами и людьми, которые ели и пили на каждом углу. Он пошел пройтись и быстро устал. На иностранных языках он не говорил, знакомых не было, куда пойти? Улицы длинные, присесть негде. Пинкисевич постоял на набережной, поглядел на желтую Сену. Вот говорят, Париж, Париж, думал Пинкисевич. А что Париж? То же самое, что Кельн или Лозанна. Он повлекся прочь от набережных, по жарким улицам, мимо чужих людей, говорящих непонятные слова. Решил уже возвращаться в гостиницу, но повстречал на бульваре Распай Гришу Гузкина. Гриша шел по бульвару ленивой походкой состоятельного человека и помахивал тростью. Художники обнялись. Так, наклевывается кое-что в Центре Помпиду, объяснил Гриша свое нахождение во Франции. Да и вообще, Эдик, Париж – это Париж. Платаны, каштаны. Весной надо приезжать в Париж. Моя дама выразила желание, и я, как джентльмен… Гузкин шевельнул плечом, показывая, что может себе позволить удовлетворить женскую прихоть. Одет он был в серебристый пиджак, лиловый шелковый фуляр мягко кутал его шею, черная борода его была подстрижена, как позже он объяснил Эдику, на французский манер. А жена, значит, приехала и, понятно, сразу в Париж захотела, догадался Пинкисевич. Гузкин шевельнул другим плечом, и Пинкисевич понял, что речь идет не о жене. «Ты город знаешь?» – спросил Гузкин. Париж надо понять, это тебе не Череповец. Куда бы тебя отвести? В бар Лютеция, не так ли? О, это специальное местечко! Мы собираемся там с друзьями каждый вечер. Что у меня за друзья? Исключительные люди, цвет эмиграции – Жиль Бердяефф, Эжен Махно, Кристиан Власов – та самая, уцелевшая, гонимая русская интеллигенция, цвет ее. Беседа с ними – это всегда испытание интеллекта, они придирчивы, спуску не дают. Однако не следует так уж бояться. Да, это люди острого ума, да, они могут высмеять беспощадно, но мы умеем быть снисходительными. Гузкин оглядел Пинкисевича, сопоставил его облик с запросами парижских друзей и сделал вывод. Или побудем вдвоем, есть что вспомнить, не так ли? Скоро художники сидели в легендарном кафе «У Липпа», что на углу Сен-Жермен и Рю-де-Ренн. Гузкин любил места исторические. Он принялся рассказывать Пинкисевичу, что в кафе этом сидели Хемингуэй и Эзра Паунд, обедал Пикассо и завтракал Дали. Пинкисевич слушал, широко открыв глаза. Конечно, надо знать, куда пойти. Так можно целый день шататься по городу и не найти нужных мест. Когда-нибудь скажут, думал он, сидели вот Пинкисевич с Гузкиным, выпивали. Просто зашли, мол, в кафе «У Липпа», раздавили бутылочку. Посмотри на стойку, заметил Гузкин, с тех времен еще осталась. Вот так же, как мы, подходил к ней Пикассо и брал абсент. Ничего не изменилось.
Кафе «У Липпа» давно превратилось в дорогой ресторан, где американским туристам давали поиграть в ушедшую эпоху, но Гриша не замечал этого.
– Видишь, как все сохранили, – говорил он. – Ты только погляди, какая красота.
– У нас бы давно все испоганили, а здесь вон как соблюдают.
– Ну нашим волю дай! – и оба смеялись, вспоминая свою мерзкую жизнь при социализме и отвратительные пельменные, где под столом разливали водку в пластмассовые стаканчики из-под желудевого кофе.
– Но в Париж русские приехать любят. Ой любят!
– Да уж, Луговой, почитай, каждый год катается!
– Только что он в Париже понимает?
– Вот именно. Что они поняли в Париже?
– Хотел бы я посмотреть, как Луговой будет есть устриц! Ха-ха-ха!
– Я думаю, он их вместе с раковиной жевать станет!
– Нет, он их столовой ложкой будет выковыривать!
– Сметаной польет!
– Воображаю, как партийцы вино французское хлебают.
– Литрами из горла!
– В подъезде!
– Ерш с водкой мешают!
– Наверное, с мясом – белое, а с рыбой – красное!
– Нет, с мясом – водяру, а с рыбой – портвейн!
– Гарсон, – бодро сказал Гриша, – бордо! – он не говорил по-французски, но два этих слова произнес в нос и грассируя.
Официант принес винную карту; у Липпа карта вин толстая, и Гриша принялся читать вслух, показывая Пинкисевичу, что разбирается в винах и понимает, в каком году был хороший урожай, а в каком не очень. Он помнил некоторые интонации и жесты барона фон Майзеля. Так, например, Гриша сощурился и резко пролистал несколько страниц, обронив: «Ну, гасконские вина пусть пьют гасконцы, а от эльзасских вин вообще люди тупеют». Пинкисевич смотрел на Гузкина так, как выпускник художественного училища смотрит на министра культуры. «Луара, – сказал Гузкин, – хм, Луара, значит», – и, как барон, в сомнении поднял бровь. У него получалось нисколько не хуже, но названия вин давались с трудом, и, что хуже, нужные цифры – то есть какой год считать правильным, а какой нет – вылетели из головы начисто. Он указал в карте на вино, название которого было непроизносимо.
– Какого года? – спросил Гриша по-немецки. – Welches Jahr? – И сказал то же самое по-французски, – de quelle annee? – подобно большинству эмигрантов он прекрасно освоил ресторанный язык.
– Восемьдесят девятого. Есть восемьдесят седьмого и семьдесят четвертого, – у Липпа говорили на всех языках, и официант повторил это и по-немецки тоже.
– Danke. Мерси.
Гриша поправил фуляр и снова стал читать меню, стараясь понять логику цифр и сделать верный выбор. Он взглянул также на цены – и ахнул. Может быть, все-таки не бордо, подумал он, наценки тут дикие. Эдик все равно пьет одну водку.
V
В то же самое время буквально через дорогу в кафе «Дю Маг» барон фон Майзель предложил Луговому выбрать вино.
– Я пью Шато Брион, – сказал Луговой, не глядя в карту, – экспериментировать возраст не позволяет.
– Прекрасно, а год?
– Не будем шиковать, барон. Обыкновенный деловой ужин. Восемьдесят восьмой вас устроит?
– Интеллигентный выбор. Достойно и просто. Вы знаете, между прочим, в этом кафе Сартр имел обыкновение встречаться с Симоной де Бовуар.
– Я сам здесь сиживал с Жан Полем, – сказал Луговой, – и пили мы то же самое.
– Но не восемьдесят восьмой год, полагаю.
– Конечно, нет. Тогда мы пили шестьдесят четвертый.
– Разумеется. Вы хорошо его знали?
– Нет, не особенно. Пришлось пересечься пару раз. Смешная, вздорная история. Вы, конечно, ничего не знаете про его поздний роман?
– Никогда не слышал. Да, вижу, – это официанту, показавшему бутылку, – откройте и перелейте в графин.
– Русская переводчица, дама с затеями, лет сорока. Мила, глупа, назойлива. Жан Поль просил, чтобы я сделал ей паспорт.
– Вы будете пробовать или я?
– Что ж, давайте попробую. Неплохо. Совсем неплохо. Но должно быть лучше. Попробуйте, барон.
– Вы правы, что-то не так.
– Возможно, дело в том, что вино не надышалось.
– Трудно сказать наверняка.
– Откройте-ка еще одну. Мы сравним.
– Правильно. Это взвешенное решение. С вами приятно иметь дело.
– Рад встрече, барон.
VI
Гриша Гузкин сказал:
– Здесь есть анжуйское розовое. Помнишь, его еще мушкетеры пили.
– Вот это да, ты знаешь, куда привести! – восхитился Пинкисевич. – Возьмем бутылку? А лучше сразу две. Мы чем не мушкетеры?
Принесли розовое анжуйское в ледяной бутылке. Художники, спросившие до того по свиной отбивной, стали есть свинину и запивать ее вином. Пока ели, Гриша старался припомнить, правильно ли они поступают и едят ли свинину с анжуйским люди воспитанные, – но вспомнить не мог.
– Как здесь с закупками? – перешел к деловой беседе Пинкисевич, подобрав хлебом соус.
– Ну что тебе сказать? Есть серьезные коллекции.
– У тебя почем покупают?
– Обыкновенные европейские цены, – сказал Гузкин скромно, подержал в руке бокал, посмотрел вино на свет, – в пределах ста тысяч. Недавно барон фон Майзель взял пару вещей для своей коллекции. Так, продаю время от времени.
– Ты уж, небось, миллионером стал.
– Понимаешь, Эдик, здесь не принято говорить о доходах.
– А все-таки?
– На жизнь хватает. Думаю, домик на Лазурном берегу прикупить. Так, осень проводить у воды.
– Заказов много? Здесь вообще какая система? Заказы, как от колхозов через Минкульт? Мол, нам портрет Ленина в зал заседаний? Только тут через галереи и Ленин не нужен? Так, что ли? – Пинкисевич, как всегда, хотел все упростить.
– Здесь все по-другому, Эдик. Сложная система отношений. Надо будет секретаря завести. Невозможно вот так все время самому летать на переговоры; чистая трата времени. – Гриша снова посмотрел вино на свет, покачал бокал, чтобы слегка взболтать вино и разбудить его ароматы; Пинкисевич следил за ним. Гузкин погрузил нос в бокал и понюхал анжуйское. Вино не пахло.
VII
Луговой сказал:
– Я жду старого приятеля, вам будет любопытно с ним познакомиться.
– Не сомневаюсь. Финансист? Или писатель? От вас можно ждать чего угодно.
– Президент компании «Гвельф». Он гораздо любопытнее Жан Поля. Тверже, последовательнее. Тоже решил заняться Казахстаном. Но не бойтесь, земля большая, и ее хватит на всех.
– Меня беспокоят законы Казахстана. Какая там теперь власть?
– Конституцию свободного Казахстана писал французский министр Дюма. Она переписана с конституции Пятой республики, не волнуйтесь.
– А, вот как. Любопытно.
– Вы считаете, у второй бутылки вкус удовлетворительный?
– Да. Пожалуй, да.
– Мне пришло в голову, что они могли храниться в разных помещениях. Та, что мы пьем сейчас, лежала в правильной температуре. Они переохладили первую.
– Я уже думал об этом. Градусов на пять-шесть.
– Вот и Алан. Мы пьем бордо, ты присоединишься?
– Нет, только минеральную. С годами я стал ханжой: не понимаю, как люди могут употреблять алкоголь. Принесите «Эвиан», будьте любезны.
– Мы перейдем на французский. Вы не против, барон?
– Люблю язык Бодлера.
VIII
– Молодежь осатанела, – сказал Пинкисевич Гузкину, давясь кислым анжуйским. Есть такой пролаза Сыч, так он вообще хрен знает что делает. Я его позвал в мастерскую, показал «Серый треугольник». Работал над вещью полгода, между прочим, тонкая гамма, все на лессировках. Посвятил Малевичу.
– И что дальше? – Гузкин не любил слушать про чужое искусство.
– Он сказал, что мой серый треугольник похож на обоссаные трусы его бабушки. Морду бить? Что делать?
– Надо быть выше этого, – сказал Гузкин. – Мы занимаемся подлинным искусством, к чему реагировать на хамство?
– Но это понижает общий культурный уровень.
– Новое поколение ничем себя не проявило. Это правда.
– Нельзя допустить, чтобы у Запада создалось искаженное представление о русском искусстве.
– Надо поговорить в сведущих кругах. Расставить, так сказать, акценты, – сказал Гриша значительно.
– Понимаешь, разлетались эти сычи – и туда, и сюда; все страны этот гад уже облетал. Куда ни приеду – везде: сыч, сыч. Везде втюхивает свое – и не сказать даже что. Когда мы начинали, у нас были идеалы, правда, Гриша? Малевич, Родченко…
– Бесспорно.
– Ты поговори здесь с нужными людьми.
– Надо будет сказать барону.
– А вы в хороших отношениях?
– Видимся довольно часто, – сказал Гузкин сдержанно, давая понять, что ближе друзей, чем они с бароном, не бывает.
– Поговори, а? Он, похоже, влиятельный человек
– Еще бы!
IX
Луговой отпил глоток вина и сказал:
– Алан сделал для торжества идей коммунизма побольше, чем Сартр. Перед вами, барон, сидит человек, кормивший французскую компартию двадцать лет. Деньги на партию Жоржа Марше шли из «Гвельфа».
– Любопытно.
– История поучительная. Когда коммунисты едва не выиграли выборы во Франции, голлисты конечно, напугались. Но мы – больше. Двадцать пять процентов французов накормить – не шутка. На руководящих постах они сидеть не будут, банками править не станут, а голодать не должны. Поди накорми такую ораву – да с запросами! Это, барон, не три миллиона кубинских ртов. Это не ангольские вояки.
– Я бы пробовал через Алжир.
– Наши товарищи голову сломали, но придумали. Отдали концессию на разработку тюменского месторождения за бесценок французской нефтяной компании «Гвельф» (Алан поклонился) – и Алан в виде ответной любезности разницу в деньгах выплачивал Жоржу Марше.
– Остроумно.
– Так тюменский мужик, получая три рубля на водку, кормил миллионы французских бездельников. Вдруг – вообразите! – обвалился коммунизм в России, а Марше и его компартия сгинули начисто – но нефть-то продолжает по трубе идти, тюменский мужик-то работает. Вот мне и любопытно, Алан, кому и куда ты теперь платишь – Марше-то уже нет.
– Вы пьете Шато Брион? – ушел от ответа Алан. – Вот видите, что могут позволить себе люди, участвующие в реальной политике. А я даже сигары курить бросил. Безумные деньги, и вред здоровью.
– И как, стали здоровее?
– Стал богаче.
– Это и есть здоровье. Однако вино недурное.
– Первая бутылка была странной.
– Покажите-ка пробку. Вот видите?
– Да. Совершенно верно.
– Это снимает вопросы.
– Пробка практически сухая.
– Переохладили, что и требовалось доказать.
X
Гриша выпил бокал до дна и сказал: манифик! А официанту: гарсон! Эдисьон силь ву пле!
Официант принес счет, и Гузкин положил несколько купюр на блюдце, а сверху придавил их двумя франками.
– Он был мил, – пояснил Гузкин Пинкисевичу, – я думаю поощрить парня. Здесь принято давать чаевые.
Официант в ресторане «У Липпа», впервые получивший на чай два франка, посмотрел на Гузкина странным взглядом, ушел с блюдцем и вернулся, неся сдачу – те самые два франка, которые не входили в счет.
– Делает вид, что дает сдачу, – объяснил Гриша. – Если он на глазах у метрдотеля возьмет деньги, будет скандал. Здесь, на Западе, дисциплина.
– Ну еще бы, – согласился Пинкисевич, – это тебе не ресторан «Прибой».
– Оставить чаевые или нет? Впрочем, если он показывает, что ему не нужно, – Гриша пожал плечом и опустил два франка в карман.
XI
– Где будете обедать? – спросил фон Майзель.
– У музыканта Ростроповича, на авеню Мандель.
– А, я его встречал.
– Тогда зайдем вместе, Славa любит гостей.
– Нет, улетаю вечерним рейсом. Но с удовольствием подвезу вас. Я с шофером.
– Вам понравился Алан? – спросил Луговой в машине.
– Его фамилия де Портебаль?
– Алан из потомков дипломата Талейрана.
– Прекрасно знаю. Из этих новых баронов. – Машина вынырнула из тоннеля, и Майзель поглядел в окно на площадь Конкорд. – Вам нравится Париж, Иван?
– Не особенно. Я равнодушен к южным городам.
– Какое странное определение Парижа.
– Вы находите? Отчего же странное? Платаны, каштаны. Мне он напоминает русский приморский город Сочи; все серебристое, блестит вода, цветут каштаны, отдыхающие едят под тентами. Я человек северный.
– Вы, видимо, любите Москву.
– Это правда, я старый москвич. Всю жизнь на Патриарших прудах.
– Вероятно, красивое место.
– Лучшее в городе.
Машина свернула на Елисейские поля. Авеню Мандель была уже близко.
XII
И пока серьезные люди занимались серьезными, масштабными делами, те, на чьих плечах лежала забота о культуре, тоже работали. Ведь быть с веком наравне, поспевать за прогрессом не так-то просто, как любил повторять Яков Шайзенштейн. Пинкисевич недаром ревновал к художнику Сычу: успех последнего был невероятен. Перформанс с хорьком занимал первое место в культурной жизни столицы – по всем опросам, по всем рейтингам. Хорек разжирел, стал ленивым, гладким и наглым. Откормленный отборной пищей, он теперь уже не помещался в кирзовый сапог, пришлось шить новый сапог на заказ, да не из кирзы, а из мягкого сафьяна, а не прошло и полугода, как и еще один: хорек жирел и жирел и достиг размеров небольшой собаки. Он давно уже не ел из миски, а сидел на равных за столом с членами семьи Сыча, залезал мордой во все тарелки, хрюкал и урчал. Домашние пытались вразумить художника и указать животному на его место, завести клетку, наконец. Сыч и сам понимал, что некий разумный рубеж в отношениях со зверем перейден. Но, в конце концов, говорил он жене, надо же понять, что этот зверь нас всех кормит. Это ведь, если разобраться, только естественно, что он сидит за общим столом: если бы не он, то этого стола бы просто и не было. Неужели трудно понять? Было, конечно же, и нечто иное, что мешало художнику обуздать хорька, нечто, что все прекрасно понимали, но стеснялись произнести. Если уж договаривать до конца, называть вещи своими именами, то Сыч состоял с хорьком в интимных отношениях. И несколько странно было бы держать существо, с которым ты занимаешься любовью, в унизительных и неудобных условиях. Ну не в клетку же его сажать, в самом деле. Не на цепи же держать. И хорек сам, безусловно, понимал свои права. Он завел привычку требовать близости с художником не только на сцене, но и вне ее, то есть дома. Сыч, сначала упиравшийся, в конце концов убедил себя, что это просто репетиции представлений, ведь репетируют же актеры днем, перед тем как вечером играть в театре. Приходилось удовлетворять хорька на супружеском ложе, и нечего даже и удивляться тому, что жена возмутилась и перебралась в соседнюю комнату, наскоро переоборудованную в спальню из кладовки. Хорек быстро освоился в новой комнате. Он действительно почувствовал свои права и ни пяди своей территории не желал уступать. Ящик с песком для испражнений зверя переставили к супружеской кровати, хорьку повязали несколько красивых лент на шею, ежедневно купали в ванной. Сыч убеждал себя и других, что гигиена и уход – это, в сущности, необходимость: характер его отношений со зверем требует гигиены. И теперь, если хорек вовремя не был зван к столу, плохо расчесан, некачественно выкупан, он устраивал безобразные сцены в квартире – метался по комнатам, выл, царапал мебель. В довершение всего он не давал проходу домашним Сыча, фыркал на них, требовал себе исключительных условий; хуже всего обстояло дело с женой художника: зверь невзлюбил ее особенно, выслеживал ее по квартире, налетал из-за угла. В конце концов, затравленная женщина стала запираться у себя в комнате, а хорек караулил под дверью и просто не выпускал из ее комнаты. Несчастная теперь не могла и носа показать в коридор: встречая ее, хорек свирепел, выгибал спину дугой, шипел, плевался и норовил вцепиться острыми зубами в ногу.
На перформансы он теперь отправлялся на заднем сиденье огромного джипа «Чероки», приобретенного Сычом. Причем если сношение на сцене происходило под фонограмму дикого звериного воя, советских маршей и т. п., то в салоне автомобиля хорек предпочитал совсем другую музыку: Вивальди, Скарлатти, струнные квинтеты XVIII века, иногда Прокофьева.
XIII
– Позвольте, Сергей, – говорил обыкновенно Соломон Рихтер, отложив газету «Бизнесмен» с культурными новостями, – позвольте, Сергей, узнать ваше мнение. Ведь эти современные (не знаю, как их и назвать, ну пусть будут художники, пусть, ладно), эти современные художники, они ведь какие-то моральные уроды, подонки. Вот статья про выходки Сыча, а вот пишут про какого-то Педермана. Не может же общество всерьез нуждаться в извращениях, как вы полагаете? Все-таки социальный организм рано или поздно должен отторгнуть эти явления как сугубо порочные, а потому – нездоровые.
Татарников искренне потешался, глядя на Соломона Моисеевича.
– Стало быть, время такое, Соломон, что ему требуются подонки и требуется называть мерзость – искусством, а мерзавцев – творцами. А потом, где у нас с вами гарантия, что мы все понимаем? Ребята самовыражаются, а нам это почему-то претит.