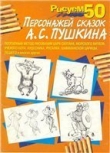Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
– Ричард Рейли, мой партнер, у тебя акции взял, – холодно сделалось Баринову от этих тихих слов, а огонь в камине вовсю горел, и поленья потрескивали. – Он у тебя их знаешь почему взял? Для обмена, как конфетный фантик. Ты менялся в детстве фантиками? Мы с ним тут как-то фантиками махнулись. Очень он хочет Левкоева притормозить на Каспии и попросил меня их бумаги подержать под сукном. Недолго, два дня. Пока он слетает в Баку и обратно. Вот цена твоего холдинга, Вася. Не десять миллионов. Два дня работы деловых людей. – Дупель открыл глаза и посмотрел на человека, которого только что раздавил. Он не испытывал удовольствия от сыгранной сцены, только жалел о потраченном времени. Следовало с самого начала поставить Баринова на место; он истратил час, стараясь получить союзника. – Собрание акционеров созвать быстро. Холдинг «Мешочник» открывать не станем, а этот, липовый, прихлопнем. Редколлегию к девяти утра. Чтобы все были здесь. Пока останешься главным редактором. Ведь газета – и тут Дупель улыбнулся, завершая разговор, – это твое детище! Кому рулить, как не тебе? А эти твои фирменные шуточки! Двухходовочки! Обожаю! С ралли – в кювет! Тонко!
Михаил Дупель встал. На пороге повернулся.
– Что за мазня в коридоре висит? Не поймешь, что наляпано, кляксы одни.
– Картины Дутова. Купили в парижской галерее.
– Хочешь Родине вернуть картины мастера? – спросил Дупель.
– Допустим.
– В искусство деньги вкладываешь?
– Вкладываю.
– Ты бы консультанта нанял, что ли.
– Покупаю, что нравится.
– Искусство, милый мой, те же акции – настрижешь, а потом в помойку сложишь.
– Ты и в этом разбираешься? – спросил Баринов зло.
– Если чем-то интересуюсь, вопрос изучаю. Обули тебя, фуфло толкнули. Вот Левкоев Пинкисевича покупает. Тоже не Рафаэль, но хоть что-то. Развивай вкус, Вася. Акционер!
И Дупель вышел из кабинета.
IX
Василий же Баринов кинулся в другую сторону – в комнату отдыха. Там на диване сидела секретарша и, откинувшись на подушки, смотрела фотографии осенней коллекции в журнале «Вог». Покойное лицо секретарши не поменяло выражения, когда смятенный Баринов вбежал в комнату. Она глядела на него ясным открытым взглядом; этот взгляд всегда поражал Баринова. Даже в самой неловкой ситуации она не опускала глаза, не смущалась, не подыскивала слова. Даже измятая его ласками, она умела сохранять этот ясный и спокойный взгляд, ровный голос, тихую улыбку. Лицо ее всегда оставалось неподвижным, взгляд из-под изогнутых бровей был твердым. Словно не она час назад кричала в его руках в этой, защищенной двойной дверью, комнате.
– Сейчас, – волнуясь, сказал ей Баринов, лицо его шло пятнами, точно холст Дутова, – поднимайся, будем звонить Луговому. Или Тушинскому? Время, время уходит!
– Ночь, – спокойно ответила секретарша, переворачивая страницу. Другие, те, что были до нее, давно бы кинулись к телефону, – утром позвоню. – Она поглядела на Баринова ясно и твердо, так, как умеют глядеть только жены, отнюдь не секретарши. – Успокойся. Ты всех победишь.
– Он обманул меня. Нужен ответный ход. К Тушинскому? Идти – мне к Тушинскому?
– Будем думать об этом завтра.
– Брось чертов журнал, – закричал Баринов, не владея собой. – Стратегию развивать надо!
– Стратегию не развивают, – сказала она, улыбаясь. – Ее необходимо иметь. Тушинский обязательно тебя предаст. Я хорошо его знаю. И журнал здесь ни при чем.
Она откинула голову и засмеялась. Мальчишеская стрижка и легкий смех делали ее совсем юной.
– Только модельеры не делают ошибок, – сказала она, смеясь. – Посмотри, какая точная линия в этом сезоне у Ямомото. Кривая, но исключительно точная. Он словно шьет на горбатых, чтобы сделать их прямыми. Почему все остальные не берут пример с модельеров? Больше брать пример не с кого.
14
Кисть – шпага, это так; данное утверждение ко многому обязывает. Так же точно, как фехтовальщик должен гордиться своим оружием и уметь отличать шпагу от сабли, а саблю от рапиры, так и художник должен разбираться в различных кистях. Кисти друг на друга не похожи, и держать их следует по-разному, по-разному и использовать: одна сделана для защиты, другая для атаки. Одна предполагает длинный замах, другая создана для твердого и короткого выпада. Для того чтобы научиться владеть оружием, надо знать, какие варианты оружия бывают и зачем существуют разные предметы, когда достаточно и одного. Надо также понять, почему кисть (шпага) предпочтительнее другого оружия.
Круглые кисти помогают мягкому вхождению мазка в мазок, оставляемые ими мазки – выпуклы и длинны, они ложатся рядом, край в край. Такими кистями пользовались Веласкес и Ван Гог. И длинный мазок Ван Гога, и огромные дымные пространства Веласкеса выполнены круглой кистью. Плоские кисти, которые любили Сезанн и Рембрандт, хороши для неравномерной красочной кладки – верхний мазок не полностью перекрывает нижний, но ложится поперек. Так написаны горы Сезанна и лица Рембрандта. Мягкий ворс кисти позволяет делать прозрачную лессировку, когда связующего на кисти больше, чем пигмента, и от верхнего цвета остается только легкая цветная пыль. Жесткая кисть делает верхний слой почти не прозрачным. В этом разница между лессировкой Шардена и Делакруа. Бэкон часто пользовался торцом кисти, достигая странного шероховатого состояния поверхности. Сезанн порой поворачивал свою кисть черенком вперед, чтобы сквозь красочный слой процарапать рисунок
Иные мастера обходились без кисти. Тициан в старости писал пальцем, втирал краску в холст; Ван Гог выжимал краску прямо из тюбика на картину, вдавливал свежую краску в уже написаный слой; Курбе предпочитал писать мастихином, выкладывая краску точно штукатурку на холст – однако это приемы, возникающие по ходу живописи, и научить им нельзя. Так, в бою можно ударить противника и камнем, а Алкивиад, впоследствии ставший великим полководцем, даже разрешал себе в бою кусаться, – но к боевым искусствам данные приемы не относятся. Даже применяя их, не следует забывать искусства владения шпагой.
Современное искусство настаивает на том, что кисть более не является единственно применимым оружием. Более того, говорят, что кисть устарела. Многие используют фотографический метод, иные пользуются пульверизатором для разбрызгивания краски, кто-то употребляет клей для коллажа, а кто-то – иные способы. Так и фехтование считается несовременным видом оружия – ввиду наличия бомбы или нервно-паралитических газов. Однако генералу, принимающему парад, приходится нацепить шпагу, даже если он для достижения победы и отдал приказ травить неприятеля ипритом. Именно шпага делает рыцарем, именно кисть делает художником.
Бывают случаи в драках, когда практически безразлично, чем ударить, – что попалось под руку, то и хватают. Но, когда решается вопрос чести, берут шпагу. Мгновение, когда художник берет в руки кисть, равнозначно принятию вызова. Мир огромен, а кисть ничтожно мала. Мир изобрел бессчетное количество приемов и способов выражения, превосходящих своей эффективностью живопись кистью. Тем отважнее выглядит человек, идущий с кистью на мир. След, оставляемый кистью на холсте, почти невиден. Придется провести тысячи мазков, чтобы заставить холст говорить. За это время мир сумеет ответить куда более радикальными и бесповоротными действиями, нежели те, что ты ему противопоставляешь. Однако художник, взявший в руки кисть, обязан довести картину до конца. Джексон Поллок, разложивший холст на полу гаража и поливающий его краской из банки, пожалуй что, мог отставить банку в сторону и не потерять лицо. Но человек, стоящий с прямой спиной перед картиной и отважившийся взять кисть, положить ее без урона для себя уже не сможет. Теперь невозможно бросить кисть – и не потерять честь. Придется сражаться; а доведется победить или предстоит проиграть – этого никогда и никто заранее не знает.
Глава четырнадцатая
АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
I
Леонид рассказал анекдот. Из леса выбегает человек, обмотанный пулеметными лентами, спрашивает: немцы в городе? – Дяденька, – отвечают ему, – война давно кончилась. – Зачем же я поезда под откос пускаю?
– Ты, – сказал Леонид, – не знаешь, с кем борешься. Это не оппозиция, а бессмысленная партизанщина.
Павел всегда возражал Леониду, возразил и на этот раз.
– Партизаны, – сказал он, – главные вояки. Куда до них авангарду. Про гражданскую войну в Испании читал? Про войну двенадцатого года? Когда совсем плохо, поднимается народ.
– Где же они, партизаны? – Леонид огляделся и партизан не обнаружил. – Пора бы! Враг у ворот! Отечество в опасности! – и Леонид захохотал, тряся черной бородой. – Грабят! – закричал он. – Караул! Страну разворовали реформаторы! – и, подавив смех в бороде, сказал: – Не слышат. Россия сдалась без выстрела, и дубина народной войны не поднялась. В ломбард дубину сдали.
– Потерпи, – ответил Павел, – партизаны еще придут.
– Если придут, – сказал ему Леонид, – сдадим в милицию. Нам хулиганов не надо.
– Авангардисты, которые испражняются в музее, – нужны, а партизанов с дубинами – в милицию?
– А зачем они нужны? Брежнева похоронили, Андропова нет – с кем бороться? Кто тебя в угол загнал? Что тебе не нравится?
– Не нравится то, что происходит, – Павел сказал то, что говорили многие: уволенные с работы учителя; пенсионеры, которым платили убогую пенсию; инженеры, работающие таксистами, – словом, так называемый народ. Постепенно народ жаловаться перестал: что толку? Привыкли даже к прогрессу.
– Мне все не нравится.
– В жизни или в искусстве?
– Нигде.
– И свободные выборы Молдавии, и бомбежка Югославии? – Леонид смеялся, колыша бороду.
– Нет.
– И супермаркет «Садко-Аркады», и Кельна дымные громады?
– Нет.
– И фундаменталисты в Ираке, и слухи о премьере Бараке?
– Нет.
– И выставки минималистов, и заседания глобалистов?
– И это тоже не нравится.
Такие разговоры стали игрой: Леонид постоянно придумывал новые вопросы: «И презумпция невиновности, и стремительный рост уголовности?», а Павел на все отвечал: нет, не нравится. Так, за короткое время они перебрали почти все события, все газетные заголовки. Хотя оба смеялись, но Павлу грустно делалось от придуманной игры: вспомнив все соблазны мира, не нашли они ничего достойного. Лиза называла его состояние депрессией, а Елена Михайловна подозревала, что сын осуждает ее брак с Леонидом Голенищевым. Однако причина была в ином, а в чем – Павел объяснить не мог. Мир устроен неверно – но разве мир был когда-то устроен хорошо? Леонид, смеясь, придумывал новые двустишия, и Павел даже стал ждать, вдруг найдется нечто, что не раздражает.
– И философ Деррида, и тягостный деготь труда?
– Нет.
– Искусство второго авангарда, и любовные письма графа де Варда?
– Нет.
– И гражданская война в Испании, и буря, что поднял в воды стакане я?
– Нет.
– Это наследственное, – сказал Леонид серьезно. – У прежнего поколения интеллигентов было принято ругать все подряд. Тут важно не заиграться. Твой отец остановиться не мог.
– Это неправда.
– Привыкнув отказываться от плохого, человек не в состоянии согласиться на хорошее. Когда не нравятся сразу и нефтяные концессии, и ревтрибунала выездные сессии – это опасный симптом.
– А если правда – не нравятся?
– Глупо. Нефтяные концессии тебя кормят.
– Разве меня? Они Дупеля кормят.
– А Дупель, в свою очередь, кормит тебя. Налоги, меценатство, – у открытого общества много способов заставить буржуя тебя кормить. Актуальные художники живут за счет нефтяной промышленности. Я, бюрократ нового типа, хочу тебя уверить – правительство не вредит населению. А помочь стараемся. Знаешь ли ты, в чем заключается подлинная свобода? Полагаешь, в том, чтобы идти налево, когда все идут направо? Нет – свобода в том, чтобы пойти туда, где действительно хорошо.
– Новое определение свободы, – сказал Павел. – Разумное следование выгоде.
– Не выгоде, прогрессу. Быть диссидентом можно по отношению к ограниченному режиму. Быть диссидентом по отношению к истории – глупость. Даже в те времена, когда было что ругать в нашем любезном Отечестве, мне казалось, что диссиденты немного чокнутые.
– Сумасшедшие?
– Не клинические сумасшедшие, а так, бытовые психи. Их сажали в психушки, и хоть это и было несправедливо – но психическое расстройство там наблюдалось. Хотелось подойти к такому бедолаге, взять за руку и ласково сказать: успокойся, милый. Ну, выведут они войска из Афганистана, выведут. И Мандельштама напечатают. И гражданская война в Испании закончилась. Выходи из леса, весна пришла.
– А что говорил в ответ диссидент?
– Диссиденты бывают двух видов, – сказал Леонид, – первые выдвигают требования и ждут их исполнения. Вторые – боятся, что требования удовлетворят. Тогда легкое расстройство перейдет в буйное помешательство. Когда войска из Афганистана вывели – они не заметили перемен.
Павел сказал:
– Но войска из Афганистана не вывели.
– Горбачев их вывел, а ты и не заметил?
– Видишь ли, – сказал Павел, – если я за свободу страны – мне все равно, кто именно ее оккупировал. Вышли русские – вошли американцы. Но положение в Афганистане оттого не поменялось. Так за что я тревожился? За свой нравственный покой – или за Афганистан?
– Ты все перепутал, – сказал Леонид. – Мы боролись, и твой отец, и я за то, чтобы Россия вошла в цивилизованное западное пространство. Вступай в общую структуру и работай. Нужны в Афганистане войска или нет – требуется обсудить и решить. Диссиденты так не умеют. Твой отец чудом не сошел с ума. Не удивлюсь, если старик Рихтер кончит свои дни в дурдоме.
Он говорит, заботясь, думал Павел, это видно. Он друг, он муж моей матери. Мать любит его – и разве я сам не был в него влюблен? Он теперь член нашей семьи и говорит ответственно. Или мы – члены его семьи? В семье Рихтеров уважение к Соломону Моисеевичу и его капризам было принято как безусловное правило. Критика не дозволялась.
– Мой дед, – сказал Павел, – самый здравомыслящий из людей.
– Так сумасшедшие и говорят про себя. Они – нормальные, а мир – свихнулся. Рано или поздно надо спросить себя: может быть, мир прав, а я – нет?
II
Вчера Павлу так же говорила Лиза. «Разве я не даю тебе всю любовь, какая у меня есть, – спрашивала Лиза, – разве что-то оставляю себе? Чего же тебе не хватает?» Она не говорила «ты делаешь меня несчастной», но смотрела горестными глазами, пробуждая в Павле вину. «Прости, – говорила Лиза, но подразумевалось, что прощения скорее должен просить Павел, – тебе неинтересно со мной. Я не могу дать того, что тебе нужно». «Что ты, любимая, – отвечал Павел раздраженно, – лучше тебя никого и быть не может». – «Отчего же ты все время сердитый? Почему тебе мои подруги не нравятся?» И Лиза, уверенная в том, что жизнь должна быть устроена по справедливости, недоумевала: отчего в обмен на все ее существо, посвященное любви к Павлу, она не получает всего существа Павла. Поскольку Лиза любила и бесспорно хотела хорошего, ей было оскорбительно видеть, что из ее любви хорошего не происходит. Она боялась сказать об этом Павлу, но причины находила в его семье: так и старик Рихтер, несмотря на неуклонную заботу Татьяны Ивановны, вечно пребывал раздраженным. Так уж повелось у претенциозных Рихтеров: им требуются внимание, забота, любовь – они охотно забирают все у любящего человека. А взамен не отдадут ничего – они не умеют любить простых людей. Особенно раздражался Павел из-за подруг жены, как ему представлялось, пустых и бессмысленных. Он не понимал, как можно говорить о погоде, детях, каникулах, то есть, в его представлении, – ни о чем. «О чем же можно говорить с твоей Мариной?» – спрашивал он и сжимал губы в тонкую линию, совсем как его бабка, Татьяна Ивановна. «О нашей школе, – растерянно отвечала Лиза, о нашем детстве. Маринка пирожные испекла. Ее мама хорошо готовила, а теперь совсем не может, у нее артрит, руки болят». – «Так вы о пирожных беседовали?» Лиза краснела, в глазах ее стояли слезы. Павел знал, что не прав: и Марина – милая, и мама Марины, та, что раньше хорошо готовила, – достойная женщина с горькой судьбой: провела детство в приюте, потом работала в Сибири, сплавляла лес. Это была тихая, кроткая семья, и они радовались хорошим простым вещам: чаю с пирожными, успехам детей. И однако Павел не мог побороть в себе раздражение на тех, кто просто радовался жизни. Словно процесс жизни сам по себе был недостаточным. «Не могут же все заниматься искусством, – говорила Лиза, и глаза ее наливались слезами, – вы с Соломоном Моисеевичем занимаетесь искусством, но все люди не могут заниматься искусством. Но они все равно хорошие. Их единственная вина в том, что вы их не любите». И слезы катились по ее щекам.
III
В отличие от Лизы, Леонид знал, что именно искусство Павла раздражает больше всего.
– Обычно люди утешаются творчеством. Но тебя не развлекает ничего. Ни египетских пирамид конусы, ни Йозефа Бойса гениальные перформансы.
– Бойс, по-моему, еще хуже, чем пирамиды. Тоска берет от этих перформансов. Шаман с бубном.
– Тебе невесело?
– Нисколько.
– А там много остроумного.
– Дрянь одна.
– Устал я с тобой беседовать.
Леонид никогда не вел длинных бесед. Он смотрел пристально миндалевидными глазами на собеседника и оказывал воздействие взглядом. Все и так понятно, говорил этот взгляд, сказано уже достаточно. Сила Леонида Голенищева проявлялась в том, что всегда находился кто-то, кто вместо него излагал его идеи, – словно Леонид заряжал этого человека энергией и делал проводником мыслей. Обычно Леонид наблюдал со стороны, как его мысли излагают, и кивал. Так он привык поступать в отношении министра Ситного, культуролога Розы Кранц, своей новой жены Елены Михайловны. Рано или поздно все они обучились говорить, как надо.
Мать Павла, Елена Михайловна, зажгла сигарету, прищурилась и стала объяснять сыну, как устроен мир.
– Пора разобраться. Ты в обиде на свою мать, на своих коллег или на весь мир? – покойный отец Павла всегда говорил, что Елена Михайловна чрезвычайно умна, но сам спорил с ней – и в спорах побеждал; Елена Михайловна оскорблялась. В вашей семье, говорила она отцу, свободное мнение не приветствуется, – и замолкала. В полной мере ее ум проявился, когда она стала женой Голенищева. Она теперь говорила уверенно и спокойно, и не было отца, чтобы с ней поспорить. Голенищев смотрел на жену со стороны и снисходительно кивал. – Погляди, что произошло, – говорила сыну Елена Михайловна, щурясь сквозь дым, стряхивая пепел на блюдце, – ты оскорбился на мое замужество оттого, что Леонид в твоем представлении – символ авангарда, который ты не любишь. И ты посчитал меня предательницей идеалов, так? – она выпустила дым из ноздрей. – Есть иные стороны жизни, которые ты учесть не захотел. Любовь, например. А я своего нового мужа люблю. Не учел и то, что авангард выражает сегодняшний мир. Твое расстройство – вещь крайне серьезная.
– В больницу сдадите?
– Можно подождать. Но лечение необходимо. Говорю как мать: не будь неблагодарным. Мать простит всегда, но простит ли общество? Общество для тебя работает – и требует компенсации. Ты не любишь смешиваться с толпой, горд, как все Рихтеры. Но демократия и авангард – не толпа.
– Я думал, демократия – это и есть власть толпы. Погляди на этих охламонов в правительстве и в искусстве. Такие у меня в детстве мелочь отбирали. Помнишь, у нас во дворе ходили дебильные подростки, окружали – и выворачивали карманы. Только теперь они мелочью не обходятся.
– Представители народа, но не толпа. Леонид Голенищев – это, по-твоему, толпа? – при этих словах Леонид кивнул жене, усмехнулся в бороду. – Кто-то обязан подумать о других, не только о себе. Не нравится тебе президент – предложи лучшего. Не нравится искусство – спорь, делай свое. Именно это Леонид тебе и говорит. Вот, допустим, Тушинский – чем не кандидат? Голосуй за него, участвуй в жизни. Не нравятся беспредметные холсты, не угодили инсталляциями – прости их, не суди строго, суть не в них. Речь не об искусстве и не о политике – об этике. Взрослый человек, – Елена Михайловна докурила сигарету, раздавила окурок в блюдце, – взрослый человек обязан понять, что мир един, и складывается из равномерных усилий многих. Если ты не сумасшедший, должен понимать, как устроен мир.
– И как же мир устроен? – спросил Павел.
– Существует общественный договор. Люди научились разделять заботы. Тем, кто слабее, – дали работу полегче, те, кто сильнее, – взяли на себя больше забот. Есть искусство – чтобы будить эмоции, и дипломатия – чтобы регулировать эмоции. Есть продавцы колбасы и покупатели колбасы. Есть деньги, чтобы оплачивать труд дипломата, колбасника и художника. Важно, чтобы труд каждого участвовал в общем рынке. Сделано так для того, чтобы каждому, и тебе тоже, жилось лучше.
– Придумали еще оружие. И полицию. И тюрьму.
– Существуют тюрьмы, и понятно зачем. Если некто подался в партизаны и гуляет с топором в лесу, – то что с ним делать? И если бродит по Европе призрак коммунизма, столь любимый твоим дедом, то призрак этот надо поймать и найти ему место, чтобы людей не пугал, – и Елена Михайловна сощурилась презрительно, вспоминая старого родственника.
– Будто в отсутствие психа с топором все легко договорятся. Будто в отсутствие призрака коммунизма страны не воевали.
– Приходит время, когда разумная организация исключает случайности. У нас есть прекрасный друг, Борис Кузин, тебе стоит его послушать. Когда-то цивилизованная часть мира была ничтожно мала по сравнению с огромными пространствами варварства. Но усилия прогресса не пропадают даром. Шаг за шагом цивилизация отвоевала у варварства мир: заменила тиранию – обменом.
Недаром Елену Михайловну побаивался сам старик Рихтер. Она умела так внятно и точно излагать мысли (в данном случае положения теории Кузина), что возражать было трудно. Рихтер прибегал к аргументам пророческим: вздымал клюку, вещал о Страшном суде над капиталом. Очевидно, что в рамках логики такие приемы недейственны. Елена Михайловна спокойно рассказала, как общество, чередуя борения с покоем, неустанно движется к совершенству. Сбои на этом пути случаются, «цивилизационные срывы», как называл это Борис Кузин, но в целом вектор развития неизменен. И разве плоды просвещения не очевидны? Разве внедрение знаний и комфорта не говорит само за себя? Разве пенициллин не лучшее лекарство, чем кровопускание?
– Надо ли это понимать так, – спросил Павел, – что когда художник Дутов ляпает кляксы на холст, он поддерживает разумную организацию общества?
– Откуда такое презрительное отношение к людям? Откуда в вас, Рихтерах, это чувство превосходства? – мать подняла брови, закурила еще одну сигарету. (Вот и Лиза так говорила: «Будь снисходительнее. И не жалуйся, что люди тебя не любят, если ты сам их не уважаешь».) Елена Михайловна продолжала: – Хорош Дутов или нет, новатор или кривляка, но Дутов нужен обществу. Его творчество встроено в рыночную систему. Рынок – не просто торговля. Это метод защиты от казарменного распределения. Подумай сам, – в таких случаях Борис Кузин говорил «зададимся вопросом», – как устроены отношения людей? Генерал покупает картины Дутова, Дутов покупает на эти деньги колбасу, производитель колбасы вкладывает деньги в банк, банкир выделяет средства генералу, чтобы защищать общество – и каждый из них поддерживает развитие другого. Их свободу регулирует рынок. Согласись, это лучше, чем когда один диктатор распоряжается сразу – искусством, финансами, колбасой и вооружением.
Леонид Голенищев кивнул своей новой супруге. Он сам даже не особенно трудился, снабжая жену нужными мыслями. Все получилось само собой: приходят умные люди, говорят верные вещи. И – сама жизнь убеждает. А то, что Елена способна так ясно выражать суть, – целиком ее собственная заслуга.
– Допустим, – сказал Павел, – так рынок и устроен. Но скажи, прав ли я: свободное развитие художника, колбасника, генерала и банкира возможно лишь до той поры, пока банкир считает художника лучшим в своем деле, художник убежден, что колбасник не подмешивает в фарш крысятину, колбасник верит, что банкир – не вор, а генерал полагает, что данное общество стоит защищать. Если бы генерал решил, что есть общество предпочтительнее данного, то он из соглашения бы вышел, не так ли? И если бы художник знал, что где-то бывает лучшая колбаса, он бы не поддержал колбасника. Получается, что эта организация держится на убеждении, что в сделке участвует лучшее из возможного.
– Конкуренция – основа рынка. Верно: генерал, колбасник и банкир выбирают лучшего художника, а колбасник, банкир и художник – лучшего генерала.
– Но они не специалисты – и выбрать не могут. Как мне решить, какой генерал лучше? Что знают колбасники и банкиры об искусстве? В конце концов, генералы выбирают генерала, колбасники выбирают колбасника, но при чем тут общий рынок? Как им решить, какое искусство лучше подходит данному обществу, качественно развлекает, нарядно украшает? В государстве тираническом это решает тиран, а в открытом обществе решается само собой – правильно ли я тебя понимаю? Просто генерал, колбасник и банкир приходят к общему мнению, какое именно искусство им подходит. Верно?
– Грубая социология, – сказала Елена Михайловна. Подобно многим другим интеллигентным людям она научилась употреблять это определение для обозначения излишне резких суждений. Она не знала, существует ли социология «мягкая», однако термин «грубая социология» оказался уместен. – Ты должен добавить к этому, что открытое общество и свободная конкуренция пробуждают в художниках лучшие стороны – и искусство такого общества будет выражать свободу. Искусство, выражающее свободу, – лучшее из искусств.
– А банкиры и колбасники должны быть уверены, что у них – лучшее из возможного.
– Так и есть.
– Для того чтобы такая договоренность работала, надо, чтобы всем было выгодно конкурировать. Потому что участие в конкурсе и на рынке – еще не гарантия качества. Надо, чтобы не существовало другого художника – где-нибудь в Африке, – который был бы лучше, чем член нашего общества. Возможно, ему не хочется жить с нами, но его картины лучше. Нужно, чтобы художник не знал, что где-то делают лучшую колбасу, чем у того колбасника, который покупает его картины. Но если все граждане разочаруются друг в друге? Например, банкир станет считать, что искусство плохое и перестанет собирать его, колбасник из недоверия к банкиру будет хранить деньги в чулке, а художник заведет огород и примется сажать картошку, наплевав на колбасу. Что тогда?
– Поверь, – Елена Михайловна посмотрела на Павла, щурясь, – всегда лучше договориться, – и Леонид Голенищев кивнул. – Ты спрашиваешь: зависит ли рынок от информации? Да, зависит. На то свободная пресса – наши добрые друзья: Баринов, Чириков, Плещеев. Появится хороший художник в Африке, его непременно перевезут в цивилизованное общество, они его не упустят! Отыщут хорошую колбасу в деревне, наладят ее доставку в город.
– Все организовано?
– Да, теперь все организовано. И это сделано специально для тебя.
– Видимо, это справедливое общество, и организовано ради общего блага.
– Лучше ничего не существует.
– Но как получилось, что в основе этого справедливого общества – лежит творчество Дутова, а он – дурак? Как получилось, что условием общей организации являются опусы Джаспера Джонса, который не умеет рисовать? Объясните мне, как? Я согласен, что договоренность всех – есть условие общей свободы. Но однажды все увидят, что один из граждан сфальшивил – и вытащат из фундамента общества искусство. Если один кирпич кривой – здание не устоит. Этот кирпич рано или поздно треснет – тогда все здание рухнет, – Павел хотел сказать про любовь, но не сказал. – Я утверждаю, что если занятие, которое выдают за искусство, окажется не таковым – тогда будут обесценены все прочие занятия. Тогда и колбаса – не колбаса, и деньги – не деньги.
– Проверить это просто. Колбаса – та, что мы на завтрак ели, – это колбаса или нет?
– Колбаса.
– Значит, искусство – это искусство. И для того чтобы у банкира и колбасника была гарантия в том, что искусство неподдельно, существуют галерея и газета – то есть информация.
– Галерея – это вроде ревизора в банке и санитарной проверки в колбасном ряду?
– Галерист, журналист и политик – такие же члены общества, как колбасник, художник, генерал и банкир. Их работа состоит в том, чтобы регулировать деятельность производителей. Товар, искусство, деньги, война – покупаются и продаются. И нужны люди, следящие за сделкой. Вот твой друг, – Елена Михайловна указала на Голенищева, который наблюдал за беседой миндалевидными глазами, – твоему другу общество поручило присмотреть, чтобы все было честно.
Леонид Голенищев кивнул.
– А вдруг он – мошенник? – не мог остановиться Павел. – Если политик договорился с банкиром, чтобы обжулить колбасника?
– Ничего не получится – в организацию работы рынка вложено больше денег, чем те, которые может украсть один банкир и один политик. Жулика разоблачат.
– Значит, миром правит обмен?
– Это предпочтительнее, чем кровь.
– А если художник из Африки, когда его перевезут в метрополию, посмотрит – и скажет: чепуха это, поеду обратно. Что тогда?
– Выпадет из истории – только и всего.
– Значит, от воли одного человека в сложившейся договоренности – ничего не зависит? Но тогда почему такая договоренность называется свободой?
– Потому что свобода и анархия, – сказал Леонид Голенищев, вступая в беседу, – вещи разные. А ты стал анархистом и близок к помешательству.
– Нет, я не сумасшедший, – сказал Павел, – но в газетах много врут, рисовать художники не умеют, генералы воюют не там, где надо, а банкиры воруют. Знаешь, мне кажется, что колбаса в плохой компании.
– Ведь ты отведешь его в галерею? – обратилась Елена Михайловна к супругу. – Пора научиться зарабатывать деньги, – сказала она Павлу. – Давно замечено, что ответственность делает взрослее. У тебя есть семья.
– Что ж, отведу его в галерею, – сказал на это Голенищев и поцеловал Елену Михайловну за ухом. Завитки его бороды и завитки волос Елены Михайловны на миг образовали причудливый куст, и Павел смотрел, как колышется этот куст.
Леонид Голенищев отправился в спальню – сменить лиловый халат на костюм, а Елена Михайловна еще некоторое время изучала Павла внимательным взглядом, держа у губ сигарету и неторопливо затягиваясь.
– Ты не станешь меня огорчать? Леонид действительно твой друг. А отца уже нет.
IV
Они подходили к галерее.
– Значит, авангард и прогресс – понятия родственные? – спросил Павел.
– Авангард ведет к прогрессу. Не лесные партизаны.
Прошли еще немного, и Леонид указал пальцем.