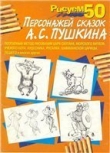Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
– И какой же исторический проект сейчас осуществляется, по-вашему? – спросил Рихтер.
– Какая разница! Я не специалист по прожектам. Я историк: описываю жизнь от рождения до смерти. Если ездить долго на одной лошади, она сдохнет. Сперва Россия заездила крестьянство – за счет него построила промышленность. У России было много зерна, но сельское хозяйство благополучно угробили продразверсткой. Ни зерна не стало, ни сельского хозяйства, ни крестьянства. А зачем крестьянство, если есть пролетариат? На кой черт зерно индустриальной стране? Зато у нас нефтяные скважины. Их, правда, с маслом не скушаешь, вот беда. Ну да ничего, мы нефть продадим и станем шабли с холодцом жрать. Потом стали строить постиндустриальное общество за счет нефти. Ее много, полбюджета на ней, сдюжим! Но и ее тоже сейчас угробят. И скажут: на кой черт природные богатства, если есть компьютеры и банки? Мы в Интернет войдем и про нефть почитаем. И будет с нас, не правда ли? И такой же процесс идет с интеллигенцией. Ее ресурсами делали революцию, ее ресурсами делали контрреволюцию, она возьми да и сдохни. На кой черт нам интеллигенция, если будут менеджеры? Кто поспособнее – переучится, остальные вымрут. Все кончается – и зерно, и интеллигенты. Израсходовали продукт.
– Не верю, – сказал Рихтер. – Невозможно.
– Но если, – сказала Лиза, волнуясь, – они встали на путь фальсификаций, если все самое дорогое и святое будет подделано – да, тогда правда интеллигенции конец.
– Поймите, нет такой цели! Интеллигенция уже мертва – это такой же свершившийся факт, как отсутствие нормального сельского хозяйства. Кому нужен ваш убогий Малевич? Это так, рюмка перед обедом, обед-то впереди. Ну уворуют еще пять миллионов – это жене на шляпку. Говорю вам, серьезные дела делаются, карта перекраивается, а Малевич – что?
– Источник дохода.
– Какого дохода? Только бельгийские рантье собирают рукописи гуманистов и картины авангардистов. Люди с запросами покупают футбольные команды, депутатов парламента, отрасли производства. За одного футболиста пять Малевичей дадут – а это просто парень с толстыми ляжками. А спикер нижней палаты потянет на хороший музей, – и Татарников с удовольствием, которое обыкновенно получают бедные люди, говоря о богатой жизни, стал рассказывать о причудах современной экономики и об аферах, которые проворачивают люди обеспеченные. Он сообщил примерный реестр стоимости депутатов нижней палаты парламента. В целом, рассказ его был точен.
VIII
Касательно же целей застолья у Кузиных профессор Татарников заблуждался, как это часто случается с историками, которые слишком большое значение придают фактам. Как известно, факт устанавливается путем наблюдения, а возможности наблюдателя ограничены. Стоило Сергею Ильичу покинуть гостеприимный дом, отцу Николаю Павлинову отбыть с шофером, Голде Стерн с Розой Кранц отправиться спать в узкие девичьи постели, а Питеру Клауке возвратиться в гостиницу, как Герман Федорович Басманов повернул разговор от искусства к политике.
– А знаешь, Борис Кириллович, – сказал он, тыча Кузину по старой аппаратной привычке, – хватит тебе по углам-то отсиживаться, работать надо.
– Вы о чем? – спросил Кузин, который над лекциями и статьями корпел день и ночь.
– Нечего на печи сидеть, дело надо делать! Вот чего!
– Что вы в виду имеете?
– А то, что демократической оппозиции в стране нет, вот что. Ты сам вокруг посмотри, есть у нас конструктивная оппозиция, а? То-то!
Борис Кузин оглянулся по сторонам, увидел гостей, жену, холодец, подумал и сказал:
– Но ведь есть партия Тушинского.
– Владькина карманная партия? Ты про это быдло, что ли? Что, всерьез?
– Но – как ее ни называть – это правое крыло парламента.
– Сказал бы я тебе, чье это крыло. Владька наш болтун и враль большой. Язык у него без костей и ответственности никакой. А нужен человек, готовый власть взять.
– Как, – ужаснулся Кузин, – власть взять? У кого? Когда?
– Не завтра, конечно, а в перспективе. Ведь должны у нас в России демократы прийти к власти?
– Рано или поздно.
– Вот и я говорю: плох тот либерал, который не хочет стать диктатором. Верно? Готовиться надо.
– Как это – готовиться?
– А так, что создавать партию с настоящей программой. Регионы поднимать, первичные ячейки налаживать. А то развели говорильню – из пустого в порожнее. Демагоги, Борис Кириллович, они и в парламенте – демагоги.
– Но Тушинский как раз экономист, – растерянно заметил Кузин, – у него экономическая программа есть.
– Подумаешь! Я этих программ, милый друг, за последние пять лет наслушался – тошно! Экономистов сто штук хоть через час приведу! Объявление повесь – табунами поскачут. – Басманов изобразил, что готов от презрения плюнуть в тарелку с холодцом, но не плюнул, разумеется, коронками только сверкнул. – Подумаешь, Карл Маркс сыскался! Чикагская школа! Экономист он, видите ли! Ты мне идеологию демократическую нарисуй! Модель общества построй! Власть возьми в стране! А, страшно? То-то. Потому работать надо, а не в кресле сидеть. Это задача, Борис Кириллович, – твоя. Чья ж еще?
– Ветеран партии прав, – посмеялся Луговой и махнул в сторону Басманова рукавом, – вы подлинный интеллигент, Борис Кириллович, у вас есть то, чего Тушинскому не хватает: авторитет мыслителя. Не технолога – понимаете разницу? – но мыслителя.
– Но – мыслителя; никак не диктатора. Этих талантов, – осторожно сказал Борис Кузин, – я за собой не наблюдал.
– Но что же есть мысль, – улыбнулся ему Луговой, – как не власть?
– Вы хотите сказать, что Фауст неправ, противопоставляя мысль и дело?
– Я хочу сказать, что цивилизации в России не Адам Смит, а Ян Смит нужен.
– Пора, Борис Кириллович, пора!
– Вы что же предлагаете мне пост Тушинского в парламенте? Сместить его? Простите, – сказал Кузин, – но такие интриги дискредитируют саму демократическую идею.
– Верно! Еще как дискредитируют! Зачем Владьку смещать? На кой ляд? В конце концов, он создал партию, так пусть и правит у себя на пирах. Они там банкет за банкетом закатывают и перепелов с шампанским жрут. Знаешь, как Владьку его шестерки называют? Владыка! Пожалуйста тебе! Ну и ладно, не жалко! Идею вот жалко – пропьют, проболтают. Их партию мы и задаром не возьмем. А нам надо другую партию создать – настоящую!
– Разве ты не всегда этого хотел? – и у взволнованной Ирины, как показалось Борису Кузину, на глазах появились слезы.
– Мы давно этого ждем от вас, Борис Кириллович, – сказал Луговой. – Сказано в Писании: если не я, то кто же? И если не сейчас, то когда же?
– Однако кто же я такой? Никому не известный интеллигент, – сказал Борис (он продолжал спорить, но голос его, против даже его намерений, уже сделался иным: уверенным, властным). – Как мне соревноваться с популярным оратором?
– Переговоришь ты его, Борис Кириллович! Пари – хочешь? Ну спорим на «Арарат» пять звездочек?
– И потом, правомерно ли создавать в одном парламенте две партии с одинаковой политической целью, с одинаковыми идеалами? Пусть – и я согласен с вами – наша программа более фундированна и научна, однако для, так сказать, обывателя, для поверхностного взгляда – в ней будет много общего с программой Тушинского. Этично ли это?
– А многопартийность-то на что? На что же тогда многопартийность, я тебя, Борис Кириллович, спрашиваю, а? Мы все-таки не при Советской власти живем, у нас теперь сколько захочешь партий, столько и будет. Вон у герра Клауке поинтересуйся, у них, небось, партий – как колбасы в магазине: на любой вкус.
– В искусстве соцреализм отменили: теперь валяй как хочешь, – а политика чем хуже?
– В конце концов, у одних своя правда, у других – своя.
– Хотите к зеленым, хотите к красным – пожалуйста.
– А можно и к голубым, – и страшный глаз Басманова подмигнул Диме Кротову.
– Даже если программы в чем-то и будут совпадать, – мягко сказал Луговой, – это не критично. Права бывает, Борис Кириллович, та партия, которая берет власть. Ее программа и будет считаться первичной. А программу-то мы с вами отрегулируем. Сумеем, полагаю.
– И все-таки, – сказал Борис Кузин, борясь с искушением, но и страшась политической карьеры, – и все-таки мне кажется неэтичным создание второй демократической партии. И потом, о какой диктатуре идет речь? Я признаю и хочу сказать это открытым текстом! – только диктатуру цивилизации.
– Разумеется. Именно о ней речь и идет.
– А помните, – ввернул Дима Кротов, – Пикассо мечтал о диктатуре художников?
– Так почему бы, – пустился в политические фантазии Кузин, – не обсудить этот вопрос в парламенте? Отчего же не выдвинуть законопроект? А лучше сразу несколько! – он говорил и сам себе удивлялся: вот он сидит у себя дома, на любимом стуле с зеленым плюшевым сиденьем, и произносит запросто такие слова. – Есть принципиальные предложения.
– Проснулся, проснулся профессор! – обрадовался Басманов.
– Пора интеллигенту взяться за управление обществом, – добавил Кротов.
– Не век пролетариям управлять!
– У этих собачьих детей и мыслей-то нет, им лишь бы украсть да поделить чужое.
– У профессора столько предложений, – скромно заметила Ирина, – многовато будет для одной партии.
– А ты не стесняйся, Борис Кириллович! Режь матку! Я хочу сказать, правду-матку!
– Не счесть проблем! – Кузин подался полным телом вперед, побурел аскетичным лицом. – Наша задача – сделать Россию нормальным, цивилизованным, европейским государством!
– Прекрасная цель!
– Вернуть Россию в лоно Европы!
– Замечательно!
– Пусть русский забудет имперские замашки – и получит взамен права демократа!
– Великолепно!
– Что предпочесть: жизнь обеспеченную, с гарантированным доходом, как в Европе, – или убогое прозябание в качестве солдата гнилой империи?
– Отлично сказано!
– Пора покончить с наследством Чингисхана!
– Давно пора! – поддержал Басманов. – Надоело это наследство! Что же делать, Борис Кириллович?
– Выдавить по капле раба из русского человека!
– Верно, – восхитился Басманов. – И выдавим! Я тебе обещаю – выдавим! Вместе надавим!
– Итак, предложения, – напомнил Луговой.
– Бюджетникам зарплату поднять! – сказал Кузин о наболевшем. – Интеллигенции в первую очередь! Стыд какой – профессора томятся в хрущобах, сидят на вареной колбасе! Паспорта отменить! Открыть границы! Снизить цены на товары первой необходимости! Ввести частную собственность на землю! Вступить в НАТО! Европейская мы держава или нет? А если да – почему до сих пор не в Атлантическом блоке? Вот как вопрос ставить надо!
– Еще есть предложения?
– Сотни!
– А Курилы ты, профессор, случайно, японцам отдать не хочешь? – подозрительно спросил Басманов.
– Можно отдать, – великодушно сказал Кузин, – непринципиальный вопрос. Задача не первой срочности. Посмотрим по ситуации.
– Вот как?
– Полагаю, есть дела поважнее.
– Борис Кириллович, безусловно, прав, – заметил Луговой, – гораздо существеннее вопрос, принимать ли участие в разработках иракской нефти – когда там явственно просматривается грядущая американская гегемония. Или, скажем, – тянуть трубопровод в Китай или нет? Газовую трубу в Европу вести через Литву или Украину?
– Что такое? – Кузин сбился с мысли.
– В целом вы совершенно правы, Борис Кириллович. Трудно спорить с вашей программой. Кардинальный путь развития вы наметили, а детали можно потом уточнить.
– То есть программа вас устраивает?
– В целом – да. Сейчас на повестке дня тактика. Вы готовы?
– Не могу ответить, – осторожно сказал Кузин, – нужно подумать.
– А что же думать? – искренне изумился Луговой. – Россия-то, матушка, ждет. Кто ж ее в Европу-то снарядит, как не вы?
– Ну одному мне, пожалуй, не по силам, – сказал осторожный Кузин.
– Дурак ты, Борис Кириллович, безответственный дурак. Сам же говоришь: время уходит. Поезд уедет, торопись! Не хочешь, так история другого лидера найдет, а ты так с идеями своими и просидишь на перроне. Верно говорю, Димочка?
– Борис Кириллович еще подумает, – сказал Луговой.
– Пусть думает. А поезд истории пока другого машиниста поищет. Верно, Димочка?
IX
Вышеописанного диалога Сергей Ильич Татарников не слышал и, соответственно, пересказать не мог. Он поэтому продолжал рассказывать о преступных авантюрах новых богачей, о покупках футбольных команд, а Рихтер, слушая его, таращил глаза и моргал.
– Два болтуна, – сказала Татьяна Ивановна, – два пустомели. Один гвоздь вдвоем вбить не могут, а туда же, миллионы считают. Ты, поди вон, три рубля заработай. Здоров только в чужой карман заглядывать. Люди делом занимаются, а вы языки трепете. Про футбол Сергей верно говорит. Какие ребята хорошие. За мной в юности ухаживал Костя Попов, играл за «Трудовые резервы».
– Что ж ты за него не вышла, была бы сейчас миллионершей, – горько сказал Соломон Рихтер, поверив, что Костя Попов получал бы в «Трудовых резервах» миллионы.
– Я на футбол ходила и надела белую блузку, а мне Костя сказал, что я похожа на Любовь Орлову.
– А зачем же тогда они занимаются искусством, если искусство – не главное? – спросила Лиза.
– Он с одиннадцати метров бил, а не попал.
– Затем, что в истории, в реальной, земной истории, всякая деталь находит свое место. Поглядите на искусство и поймете, что будет с политикой. Поглядите на Фидия, поймете Перикла. Помните историю с Парфеноном? – и Татарников повернулся к Павлу.
– Почему за Костю не вышла? Так ведь за всех сразу не выйдешь. Что я прошмандовка какая?
Павел не нашелся что сказать. Он помнил, что Фидия обвиняли в воровстве, но связать это с правлением Перикла, кажется, вполне успешным правлением, у него не получилось. К тому же совсем некстати приходили вовсе иные мысли. Он глядел на Лизу и думал, как же неестественно она держится. Зачем она старается показаться умнее, чем есть, думал он. А вышла бы за футболиста, так сейчас бы голы и подачи обсуждала, и так же увлеченно.
– Мне Костя шарфик бязевый подарил – так я не взяла. Как же от чужого мужчины подарки брать? Не годится это, от людей стыдно.
– Нефть для них важнее искусства, а власть важнее нефти.
– А вот ты мне шарфик и не подарил. А я так хотела, так хотела.
– Идея русского либерализма нуждается в более внятном артикулировании, – заметил во вчерашней беседе Кузин.
– Преодолеть косность сознания, – так говорила вчера Роза Кранц, качая красной ногой, – научитъ людей видеть, научить понимать!
– Каждый из нас делает свое дело, – говорил Басманов значительно, – Борис Кириллович артикулирует идеи, а мы, тугодумы, трубу тянем.
– Отрадно, что наши цели совпадают, – поддержал Клауке, который хотел купить дачу на Майорке, но бороться за демократию тоже хотел.
– Костя пить стал. Так жену и не нашел, наверно, поэтому. А может, наследственное.
– Второй авангард самим фактом существования подтверждает: вектор развития, указанный первым авангардом, выбран верно!
– Позвольте, а куда вектор показывает?
– Какая грязная авантюра, – подал голос Рихтер, – какая банальная демагогия! Вы предатели! Все предатели!
Он встал с кресла и сделал несколько неверных шагов по комнате, грозя Татарникову пальцем.
– Интеллигенция, – сказал Соломон Моисеевич, – несет в себе проект свободного развития общества, высокого досуга. Все, что вы говорите здесь, вздор. Этот день забудется, сотрется в памяти. Вы можете сколько угодно предавать меня! Да! Как предала меня Елена Михайловна! Пусть!
– Что ж ты все время о себе да о себе, – оборвала Рихтера Татьяна Ивановна, – пуп земли нашелся. Не твоя она жена, чтобы тебя предавать. Совсем обалдел.
– Я считал ее членом своей семьи, надеялся на нее.
– Что ж ей теперь делать? – Татьяна Ивановна не любила невестку, но эгоизм мужа не любила еще больше. – Прикажешь выносить за тобой горшки? А ты, старый скандалист, что дашь ей взамен? Микеланджело своего с Марксом?
– Да, – ответил Рихтер.
– Хватит ерунду молоть. Иди на кухню, творожок покушай и спать ложись.
– Ничего мне не надо. Я хочу остаться один. Один, слышишь! Никто не заботится, не понимает, не слышит. Будет лучше, если уйду из дома, как Толстой.
– Иди, кто тебя держит?
– Уйду. Уйду.
– Помилуйте, Соломон, куда же вы уйдете?
– Какая разница. Вам не понять, Сергей, что такое – жить в пустоте. У вас дочка и любящая жена, домашние ценят вас. Насколько я понимаю, кавказский родственник, Тофик Мухаммедович, поддерживает вас. Вам можно позавидовать. А я так одинок.
Соломон Моисеевич стоял посреди комнаты, задрав подбородок вверх, и смотрел в потолок. Домочадцы собрались вокруг него и уговаривали поужинать и лечь спать. Соломон Моисеевич не отвечал на уговоры, скорбная линия рта и полуприкрытые веки показывали, что ему тяжело.
И, как это теперь часто происходило с ним, Павел испытал обиду за деда. Он видел его чужими глазами, вздорного, капризного, жалкого, и понимал, что именно таким останется дед в памяти этих людей. Облик деда был стыдным, и Павлу обидно было, что любой незначительный человек смотрится мужественнее, чем его дед, и что никто не может увидеть подлинной силы Соломона Рихтера. Любой сегодня был значительнее его, любой имел основания над ним смеяться. И Лиза, которая безропотно переносила барские замашки, и Татарников, снисходительно относившийся к слабостям старика, смотрели на него с состраданием, и это унижало. Павел понимал, что никто и никогда не сможет поверить в величие Соломона Рихтера – так жалок его облик. И мать Павла, привыкшая подтрунивать над Соломоном Моисеевичем, никогда не позволяла ни себе, ни другим поверить в то, что это величие есть. Павел глядел на трясущиеся руки Соломона Моисеевича, на его слезящиеся глаза, слушал сбивчивую, мелодраматическую речь, и ему было обидно. За смешными словами, за дряблыми чертами бессильно хрипело величие, беззащитное величие, которого больше не было нигде, и никогда больше не будет такого. Но никто не хотел про это величие знать, никто не верил в то, что такое бывает, и никто уже никогда не узнает, что величие было. А может быть, и не было ничего?
– Скажи, дедушка, – спросил Павел, – а проект истории существует отдельно от нее, как замысел от картины? Он просто спит в истории, да? Придет пора – и он проснется? Но ведь замысла без картины – нет.
– Мне пора спать, – сказал Соломон Моисеевич слабым голосом. – Пашенька, попроси у бабушки раствор ромашки, у меня плохо работает желудок. И спроси, может быть, мне надо поесть чернослива? Ты должен запомнить, – но что именно, Рихтер не сказал.
Шаркая ногами, Соломон Моисеевич пошел укладываться, Лиза и Татарников провели его до постели.
12
В колористическом решении картины один из цветов обязан стать главным, то есть сделаться главным героем произведения. И эмоционально, и символически такой цвет отождествляется с содержанием картины; более того – он это содержание воплощает. Так, главным героем «Расстрела 3 мая» Гойи является лимонно-белый цвет рубахи казнимого, главным героем «Пасмурного дня» Брейгеля свинцово-синий цвет небес, а в «Петре и Павле» Эль Греко – цвета одежды апостолов, желтый и красный соответственно. Этот главный цвет появляется на холсте для того, чтобы сделаться иррациональным, чувственным воплощением сюжета, композиции и рисунка.
Существует два метода разработки цветовой гаммы: от подобий к контрастам и наоборот – от контрастов к подобиям. Известно, что у всякого цвета есть антагонист, то есть цвет, противостоящий ему по всем параметрам, а есть и родственник, то есть цвет, совпадающий по многим характеристикам. Например, у холодного светло-красного кармина противником является жаркий темно-зеленый кобальт, а родственными цветами можно считать розовую мадженту, пурпурный кадмий и так далее.
Подлинные художники различают понятие «цвета» и понятие «краски». Краска имеет оттенок и цвет, но «цветом» в том символическом значении, которое потребно для живописи, не является. Краской можно покрыть стены, одежды и щеки; иные покрывают краской и холсты, но цветом такая краска не становится. Практика так называемой художественной деятельности знает много покрашеных поверхностей; к работе с цветом они отношения не имеют никакого. Цвет – это то, что конденсирует в себе усилия и страсти художника и получает название по имени краски, его составляющей, – синий или красный. Но красный цвет и красная краска – не одно и то же. Цветом краска станет, когда станет символом.
Создавая цвет, художник должен решить, каким методом заставить его состояться. Так режиссер, выводя актера для решающего монолога, решает, как эффектнее подготовить его появление. Применяя первый из указанных методов, то есть следуя от подобий к контрастам, художник оранжирует каждый цвет его инвариантами. Например, Гоген советовал класть подле всякого цвета идентичный ему цвет, варьируя лишь тон и оттенок. Таким образом создавалась гармония понимающих друг друга цветов: семья желтых, семья лиловых. Из семьи равнозначимых оттенков выделяется наиболее властный – и то, что другие цвета недоговаривают, этот главный цвет выкрикивает в полную силу. Анализируя этот процесс, можно сказать, что начинает художник с работы красками – сплавляя их в историю, он получает цвет. Так, из мягких оттенков желтого возникает щемящий желтый цвет в «Подсолнухах» Ван Гога. Впрочем, именно Ван Гог куда чаще пользовался методом контрастов, нежели подобий. Никто другой так прямо, как он, не сталкивал одновременно пять-шесть антагонистических пар: в «Портрете зуава» Милле мы видим шесть контрастных противопоставлений. В этом случае героем становится не властный цвет, вырывающийся из окружения, но, напротив, такой цвет, который словно примиряет в себе противоречия соседей, являясь сам по себе не агрессивным, но глубоким. Например, в «Портрете зуава» таким цветом сделался мягкий розовый – цвет лица главного героя.
Из сказанного должно стать понятным простое положение: для того чтобы состояться, всякому цвету необходима история развития, ему требуется пройти некий путь, чтобы стать в полной мере собой. Иными словами, если у краски есть родословная, или еще лучше – если у нее за спиной история, то она имеет шансы стать героем картины, стать подлинным цветом, а не просто краской.
Известно прекрасное высказывание Гогена: «Чистый красный цвет – надо всем для него пожертвовать!». Если не понимать природу взаимоотношений истории и действия, это правило будет непонято. Без соблюдения этого правила живопись невозможна.