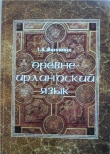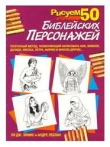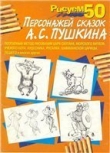Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
– Или, – сказал журналист ехидно, – бизнесмены, отправленные в изгнание. Есть у нас один нефтяной Фортинбрас, войска собирает. Впрочем, Фортинбрас-то в итоге все и получил.
– Верно, а почему получил? Потому что был ответственным престолонаследником, мыслил государственно. И наш принц так же мог: поговорил там, посоветовался здесь, подготовил прессу, выбрал время, ввел танки – как люди делают?
– И был бы прав. Только с демократами не надо связываться. Наболтают, запутают, оружие распродадут. Захочешь воевать – пуль не сыщешь.
– Дальше: принц мог стать ученым, не обращая внимания на строй. Мало ли кто правит: Горбачев или Ельцин, Блэр или Буш – ну их в болото, займусь наукой. Другим не помешаешь, сам целее будешь. Здесь его двойниками являются Розенкранц и Гильденстерн – «молочные братья», дети одного университета.
– Как и Горацио.
– Горацио – это совсем другое дело. Горацио – это тот, кто все запомнит, а потом все напишет. Горацио, мой друг, – это ты. Ты еще про всех нас напишешь правдивую историю. А сейчас вспомни про Полония. Вот еще один вариант поведения. Служит преданно, работает исправно, ведь можно – для спокойствия державы, – служить не королю, но отечеству. Разве мы не знаем таких, служивших сперва одному королю, потом другому, но больше – месту.
– Служить Родине – почетное право всякого гражданина. Особенно если служба номенклатурная. Сегодня депутат, завтра министр, потом – банкир. Родина пост сыщет. Не забудь сказать про Гертруду.
– Она – воплощенная любовь, без принципов, без правил. Полюбила и неважно кого, было бы чувство страстным. И разве плохо просто любить? – спросил историк, который еще никого и никогда не любил. – И это тоже возможность, упущенная Гамлетом. Гамлету бы жениться, и все бы успокоились. Он мог бы провести остаток дней в постели со своей красоткой, позабыв амбиции.
– Не так просто, – сказал другой мальчик – и не мальчик уже вовсе, но молодой человек, с опытом, со знанием жизни. – Я вчера объяснился с Соней Татарниковой. Будь, говорю, моей Офелией и не уходи в монастырь.
– А она? – собеседник Соню Татарникову знал с детства, они вместе ходили в школу.
– Уйду, говорит, в монастырь. Правда, монастырь называется Сорбонна, находится в Париже, и нравы там свободные. Что я мог возразить? Королевства у меня нет, предложить нечего.
– Если ты ее любишь, – сказал мальчик, который не знал про это чувство ничего, – ты сможешь все преодолеть, и это тоже.
– Разве ее папу преодолеть под силу? Это тебе не Полоний.
– Сергей Ильич Татарников – хороший человек. Помнишь, мы к нему за книжками ходили?
– Профессор ни при чем, он лишь тень отца. Она не его дочка, а Тофика Левкоева – знаешь, этот мордастый, на плакатах? В оранжевых галстуках ходит. Вот лучезарный бандит, – сказал другой мальчик, который знал жизнь, – полстраны купил, а другую половину продал. Так что Офелия обеспечена.
– Офелия, – сказал его собеседник, – являет еще один вариант поведения. Принц мог по-настоящему сойти с ума и покончить с собой. Так, вероятно, ведет себя человек, потрясенный смертью отца, – просто сходит с ума. Он все типы поведения понемножку пробует. То сумасшедшим побудет, то в Пирра поиграет – с мечом постоит, то задумается о государстве, как норвежец. Если посмотреть внимательно, все варианты поведения разобрали, и каждый, вообще-то, неплох. Но выбирает он потом окончательный вариант.
– Какой же?
– Я скажу, если сам не догадаешься. Ты ответь мне на простой вопрос: зачем внутри пьесы – еще одна пьеса? Зачем пьеса, которую играют актеры?
– Мышеловка? Нужна для того, чтобы разоблачить короля.
– Разве за этим? И как же короля разоблачили – тем, что обидели? Король видит, что его обвиняют в убийстве, оскорбляется, встает, уходит. Любой бы обиделся. Ты бы тоже оскорбился. Я, например, скажу тебе, что ты дурак. Ты на меня обидишься. Будет ли это доказательством того, что ты дурак? Прямым доказательством все-таки не будет. А косвенных и так хватает.
– Имеешь в виду мое объяснение с Соней? Глупость, признаю. Знал, что глупость, а все-таки заговорил с ней. Но это была не пьеса и даже не комедия – хотя моя жизнь и кажется смешной. Мне подчас странно, что все, что происходит со мной, происходит на самом деле – раз так, то ничего другого никогда не будет. Реальность – она одна. А Гамлетy все стало ясно именно в театре.
– Что именно ему стало ясно? Вот ты на какой вопрос мне ответь: мы назвали несколько судеб, которые он мог бы прожить, – эти судьбы представлены как наброски главной судьбы. Но какой? Все эти люди: Лаэрт, Фортинбрас, Пирр, Эней, Орест – они двойники Гамлета. Все они – дети теней. Все – воплощение некоей директивы. Как ее определить?
– Бремя наследства.
– Беру слова насчет дурака назад. Верно, бремя наследства, и есть много возможностей нести бремя. Для этого и выпущено на свет столько героев – они как бесконечные отражения в зеркале. Шекспир ставит одно против другого, и изображения множатся до бесконечности. Гамлет кладет этому предел. Когда?
– В конце он конец и кладет – когда их всех в гроб кладет. Тут им всем и приходит конец.
– Еще раз: он никого не убивал – все само убилось. Он время такое выбрал почему?
– Случайно все совпало – дуэль, яд, и настроение, видать, было хреновое. Папа умер, дождь, девушка утонула. Ну, как оно бывает?
– Но когда, когда, скажи – все это сошлось в одно?
– Когда посмотрел представление – оно отразило всю его историю. Он посмотрел – решил: все, пора. Хватит время тянуть.
– Видишь! Еще одно зеркало! Тоже зеркало! И ты прав, ты прав, – вдруг горячо заговорил историк, хватая друга за руку, – ты прав, что для каждого играется своя пьеса. И я тоже прав, когда сказал, что пьеса всего лишь одна – одна на всех. Понимаешь?
– Нет, мой пылкий друг, не понимаю.
– Я имею в виду такое зеркало, в котором отразится все сразу. Мышеловка – сыграна и для короля, и для Гамлета, и попадают в нее оба. Просто король видит в представлении аллюзию своей истории, а Гамлет – структуру истории вообще. И Гамлет понимает, что его судьба – это такая же пьеса внутри другой пьесы, как «Мышеловка» – внутри пьесы «Гамлет».
– Все ты запутал.
– Наоборот, распутал. Гляди. Если можно вставить одну пьесу внутрь другой – значит, это происходит постоянно. Это – простое понимание. Если судьба любого из твоего окружения – есть инвариант твоей судьбы, то почему не предположить, что все судьбы вместе – инвариант чьей-то еще? Есть пьеса «Гамлет» а внутри у нее есть вставная пьеса «Мышеловка». Но есть и другая пьеса, которая размерами и значением еще больше «Гамлета», и «Гамлет» в ней, в этой большей пьесе, – такое же вставное представление. Понимаешь? Герой неожиданно это понял. Он смотрел на судьбы других теней – на судьбы своих двойников. Вернее сказать так: он думал (и мы вместе с ним думали), что все они – его двойники. И неожиданно этот зеркальный ряд распался, когда он увидел, что они вставлены не в его пьесу, как он самонадеянно решил, а они – вместе с ним – внутри большей пьесы. Понимаешь теперь? Он вдруг видит это там, в театре. Его судьба – такой же вариант чьей-то еще судьбы, как судьба Лаэрта – вариант его собственной. Понимаешь?
– Ты хочешь сказать, что для Лаэрта написана пьеса «Гамлет», а для Гамлета – какая-то еще, другая пьеса?
– Та, другая пьеса, написана для всех.
– И даже для министра энергетики? Ему точно закон не писан.
– Писан. Просто он не читал.
– А как называется другая, большая пьеса?
– Разве ты сам не знаешь?
– Нет.
– Она называется «Отец и сын». Внутри нее играется «Гамлет». Единственный судья для сына – отец, и последний приговор отцу выносит сын. Эта цепь не может быть разомкнута – что они друг без друга?
– А чем эта главная пьеса кончается?
– Как чем?
И оба мальчика замолчали. Потом один сказал:
– Гамлет пугается в понятиях, отправной точкой для него является судьба отца.
– А потом?
– Потом он начинает другой счет.
– Откуда?
– От отца, откуда же еще. Другого счета не бывает.
– Ты меня совсем запугал.
– А все просто, надо только подумать.
И опять мальчики замолчали, и молча прошли еще круг под липами, мимо дома Лугового и Левкоева.
– Ты имеешь в виду небесного отца? – сказал другой мальчик.
– Наконец додумался.
– Страшная пьеса.
– Ты про какую?
– «Гамлет». Та, главная, утешительная.
– А мне кажется, это одна и та же пьеса.
– Пойми, пожалуйста, – сказал другой мальчик, – невыносимо знать, что из любой пьесы выходит один и тот же сюжет. Это совсем не утешает. Это оскорбительно для всех – для Гамлета, для тебя, для меня. И это должно быть оскорбительно для той, главной пьесы. Зачем отцу такой сын, который не живет самостоятельно?
– Но Гамлет живет самостоятельно. Он сам все придумал, его не об этом просили. Отцу его хватило бы, чтоб он свел счеты с Клавдием и сел на трон.
– А другому отцу – тому всегда мало. Ему, что ни дай, – все мало. Он всегда скажет: ты можешь больше.
– Ему всегда мало.
– Вот что ужасно – вырвешься из одного сюжета, думаешь: убежал! А ты не убежал и никогда не убежишь. Куда деться? Как побег из сибирского лагеря, – никто из мальчиков не был в тайге, но им казалось, что они знают, как бывает, – как побег из лагеря: перелез ограду, а там – тайга. Не убежишь, потому что некуда. Будь оно все проклято!
– Что – все? – спросил мальчик.
– Я скажу тебе, только ты не поймешь. Я русский, и жить мне в России. И я не связан, как ты, с этими Рихтерами, которые сегодня здесь, завтра – там. У меня нет другой родины, и не будет никогда. И жизни у меня другой нет, и никогда не будет. Я не могу примерять на себя, как ты, сначала одну жизнь, потом другую, – у меня нет лишних в запасе. Я хочу прожить свою жизнь, и, по-моему, это немало. И вот, когда жизнь в России повернулась – пусть на чуть-чуть, пусть немного, – когда я чуть свободнее вздохнул, когда появилась у меня надежда, что Россия заживет не коммунистической, не исторической, а просто своей жизнью, – так появился умник (и всегда найдется такой), который говорит: стой, не уйдешь. И показывает мне, что куда бы я ни выпрыгнул, – все равно окажусь в чужой истории. Полюблю я Соню Татарникову или не полюблю – все равно выйдет, что это не вполне моя жизнь, моей собственной жизни – у меня нет.
– Но собственной истории ни у кого нет, – сказал мальчик, – мы все в одной большой истории. И нет такого сюжета, через который не просматривался бы другой сюжет – главный сюжет. Спрятаться нельзя.
– Тени в пещере. Хорошо. Но тени – чего? Вот что мне не дает покоя. Что именно отбрасывает тень – вдруг это какая-нибудь мерзость? Что моя жизнь всего лишь тень, меня убеждают ежечасно, и уже убедили. Все гладко получается: каждая пьеса встроена в большую, в более важную пьесу, и нет у меня даже тени надежды на то, что я не буду чьей-то тенью. Пусть так. Но скажите – чьей именно? Как я могу верить, что тот главный демиург, тот, что над нами, тот, что так складно расписал роли, – как я могу быть уверенным, что он не подлец?
– Это, пожалуй, чересчур. Это самое сенсационное разоблачение твоей газеты. Разве нет того, что совершенно постоянно? Вот этот главный демиург – он постоянен.
– Помнишь Ваньку? – спросил журналист. Ванька был их соученик, мальчик из деревни. – Помнишь его? Он уехал из Москвы в деревню Грязь. На родину. Скверное такое место. Не прижился он в Москве, не захотел быть брокером. И работает в деревне Грязь на всяких сволочей, строит им дачи.
– Ты зачем это говоришь?
– Так просто вспомнил. Я бы хотел, чтобы нашего Ваньку кто-нибудь защитил. Пусть отец в пьесе будет бесконечно добр. Он должен прощать и любить, обнимать и согревать – а не сулить расплату. Пусть он согреет нашего Ваньку. Я не поверю в героя – будь он сын короля или Бога, – который, желая вправить сустав у времени, вывихнет его у меня. Это обманная пьеса. Знаешь, какая самая страшная фраза в пьесе?
– Какая?
– «Клинок отравлен тоже». Потому что все остальное уже давно отравлено.
– Клинок отравлен тоже, – повторил мальчик, и ему стало не по себе.
17
Картина должна быть не красивой, но прекрасной – и разница между красивым и прекрасным огромна. Собственно говоря, это вовсе не совпадающие понятия.
Ни Папы, ни Принцы, сказал однажды Леонардо, не заставят меня заниматься тем, что не прекрасно по-настоящему. Высказывание это туманно: непонятно, зачем сильным мира сего заставлять художника делать что-либо несообразное прекрасному. Однако именно этим они и занимаются, исходя из обычных социальных нужд: миру требуется не прекрасное, но красивое. Обычная жизнь искусства, то есть те отправления, которые наполняют мир украшениями и милыми деталями быта, совсем не связана с идеалом. Миллионы людей, играющих в обществе роль художников, принимаясь за работу, стараются сделать красивую вещь, то есть такую, которая воспринималась бы зрителями одобрительно, ласкала бы глаз. И они правы. Трудно требовать от художника, чтобы он, создавая произведение, руководствовался не понятием красивого, но понятием прекрасного – исходя из характера художественного процесса, это было бы невыполнимой задачей. Искусство (живопись в частности) воплощается в наборе приемов, которые применяет художник для создания красивых вещей, красивых в той же степени, в какой красивыми бывают одежда, драгоценности или еда. Ремесленные навыки, т. е. умение гармонично сочетать цвета, сбалансировать композицию, – сами по себе ничем не отличаются от таких же ремесленных навыков ювелира, портного и повара. Надо помнить о том, что средневековый живописец входил в ту же ремесленную гильдию, что и ювелиры. Эту роль, т. е. вспомогательную, отвел художнику и Платон. История (история искусств как ее часть) постоянно возвращает художника в ремесленное состояние, объясняя ему, что идеальными формами будет заниматься кто-то иной – демиург, начальник, – а практическое украшение общества, построенного по чужим чертежам, доверено художнику.
Известная фраза Сократа, обращенная к красавцу Критобулу: «А теперь скажи что-нибудь, чтобы я мог тебя увидеть» – как нельзя точнее объясняет разницу между красивым и прекрасным. Прекрасное то, что имеет надмирный смысл, то, что связано с миром идей. Именно к этому состоянию стремится живопись. Существует очень мало образцов живописи такого рода – это искусство насчитывает немного мастеров. Сделанная материальным образом, красивая в качестве предмета обихода, используемая в интерьерах в декоративных целях, великая живопись существует по собственному усмотрению – ежесекундно опровергая свое утилитарное бытие. В той мере, в какой живопись способна преодолеть свою материальную природу, она становится прекрасной. Энергия, излучаемая картиной, ничего общего с красотой (постулируемой обществом в качестве таковой) не имеет: это эманация духа, который прекрасен именно в качестве нематериальной субстанции, так как бывает прекрасна совесть, или честь, или добро, – а стало быть, декоративными качествами обладать не может. Разумеется, картина – и в этом ее особенность – призвана воплощать дух, то есть найти оболочку для нематериальных понятий чести, совести и добра. И то, насколько эта оболочка будет прозрачна для эманации духа – или самодостаточно непрозрачна (как в случае с Критобулом), и решит: прекрасна картина или красива. Только в том случае, если картина способна отдавать зрителю заряд, укрепляющий душу и разум, т. е. способна передать эманацию прекрасного – она может считаться великим произведением; в противном случае – эта вещь является скорее декорацией и украшением.
Исходя из сказанного, возникает любопытный вопрос: чем является гармония – что она представляет: красоту (утилитарное) или прекрасное (идеальное)? Или гармония есть рабочее понятие, такое, как вес и мера. Поскольку критерием работы живописца является чувство гармонии, было бы хорошо понять, что именно он использует для оценки своей деятельности.
Рассказывают, что слепой Дега трогал руками картины в музеях и спрашивал: «Это прекрасно, да?»
Глава семнадцатая
ВРЕМЯ ДИЗАЙНА
I
Я не думаю, что прошлое существует отдельно от настоящего. Напротив того, я уверен, что прошедшее время существует одновременно с настоящим, и эти времена не параллельны одно другому (как в некоторых фантастических романах) и не сменяются одно другим (как в учебниках истории), но именно происходят одновременно, вплавленные друг в друга. Трудно представить себе, как время Ренессанса вдруг прошло и наступило время барокко. Как выглядела бы эта граница между эпохами? Мне всегда казалось странным: куда в одночасье делся Ренессанс, и что происходит на рубеже между прошедшим и наступившим временем, как времена соприкасаются? Но прошлое никуда не уходит, оно пребудет всегда. Время есть однородная субстанция, нерасторжимая на прошлое и настоящее. Люди придумали, как пользоваться временем, дробя его на дни и часы, подобно тому как они придумали пользоваться водой, деля ее на чашки и бутылки. Ни на время, ни на воду это не повлияло. Вода в реке, та, что была выше по течению, продолжает оставаться той же самой водой, спустившись по течению вниз. Она современна нам в том пункте берега, где мы ее наблюдаем, но мы способны перемещаться вдоль берега, и она все время нашего пути будет нам современна. Только от перемещающегося вдоль берега человека зависит, какой части течения быть современным, сама же вода совершенно и окончательно однородна, она современна себе самой – всей сразу. Еще проще проиллюстрировать вышесказанное примером из иконописи. Хорошо известные иконы с клеймами (безразлично, сиенские или новгородские) изображают святого в разные моменты его биографии, причем то, что происходит со святым, – происходит с ним сразу и одновременно. Вот Петр, еще Симон-рыбак, вытягивает сети, вот он отсекает ухо рабу, а вот он уже распят вниз головой – и все это происходит в одно и то же время. Поэтому призыв быть современным всегда приводит меня в недоумение: современным какой воде прикажете быть – той, что вверх по течению, или той, что вниз? Очевидно, это будет зависеть лишь от того, в какую сторону произвольно направят подопытного субъекта. Современным какому факту своей биографии надлежит быть Петру? Образ святого, опоясанный клеймами, имманентен всей его истории разом. Собственно говоря, образ и возникает лишь тогда, когда иконописец выделяет из времени – сущностное, не принадлежащее никакому факту в отдельности.
Именно это и пытался втолковать носильщик Александр Кузнецов своему сослуживцу Ященко по кличке Сникерс, когда говорил ему следующее: «Мне начхать, что ты сегодня говоришь правду, пидор, потому что я знаю, что ты всегда, сука, врешь». При всей резкости выражения эта сентенция исключительно точно передает взаимоотношения субъекта и времени. Иные склонны усмотреть в такой посылке излишний детерминизм: в самом деле, раз совершив нечто, человек уже не в силах это совершенное вытереть из жизни. Отречение Петра от Христа и его мученическая смерть на кресте соседствуют навсегда и мы вольны видеть в нем отступника или мученика, или то и другое одновременно. И согласитесь, в частной жизни это не всегда удобно.
Павел, думая о красавице Мерцаловой, не мог одновременно думать и о ее мужьях. Стриженая девушка существовала в его воображении сама по себе, а ее биография и рассказы о ней – отдельно, и представление о Юлии никогда не соединялось с информацией, подслушанной в рассказах. Он беседовал с Леонидом Голенищевым, бывшим мужем ее, он слышал нечто про ее связь с Владиславом Тушинским, он замечал улыбки, которые появлялись у людей при упоминании имени Юлии Мерцаловой – так улыбаются люди, знающие пикантные подробности биографии соседа. Но все это существовало отдельно от ее облика, отдельно от ее летящей походки и прямой спины. Вот так она поворачивает голову, вспоминал Павел, вот так она смотрит, так прикрывает ресницами глаза. Ему представлялось, что он знает ее лучше прочих, уж куда лучше тех, кто обменивается значительными взглядами и кривыми улыбками. Разве понимают они значение этого темного взгляда, разве умеют увидеть они ее гордо откинутую голову? А если бы понимали и видели – разве смогли бы они так пошло и криво ухмыляться? Я знаю то, говорил себе Павел, что никто о ней не знает. И эти знания были настоятельнее, убедительнее, живее других знаний о ней. Соединить то и другое в одно целое было бы невозможно. Когда Павел думал о ее мужьях, он переставал видеть ее саму – ее образ, такой цельный, не впускал в себя иного сюжета. Она цельная, сильная – что ей прошлое? Прошлое легло к ее ногам, как брошенный платок, а она прошла мимо своей стремительной походкой. Что за дело мне, думал Павел, до ее мужей? Я не знаю ее, и не вправе судить ее жизнь. Да, бабушка Таня сказала бы, что мужей для одной женщины многовато – но ведь бабушка не знает этой женщины, не видела ее летящей походки и темного взгляда.
И, слава богу, существовала такая вещь, как время, как расстояние, что пролегает между субъектом и его биографией, – каким же судом надо судить человека, чтобы отменить время и расстояние. Не может и не должен субъект быть равен своей биографии. Кто учтет опыт души? Кто посмеет сказать, что знает цену чужому опыту? Кто отважится утверждать, что бессмертная душа зависит от преходящих явлений?
Вот, скажем, история России: кончилась эпоха коммунизма, и страна вернулась к себе самой – разве не верно? Отчего же в человеческой жизни нельзя допустить подобное? Разве история не учит нас отделять явление от сущности, главное – от неглавного? А в искусстве – разве не учит тому же прямая перспектива? Так говорил себе Павел, и говорил это не он один.
Секуляризация искусства привела к созданию прямой перспективы, то есть такого представления о времени, когда событие сегодняшнего дня заслоняет день вчерашний. Битва при Сан-Романо заслоняет вчерашнюю охоту на полотне Учелло, и это оправданно, поскольку событие это важнее. Но что станет делать Учелло, если завтра опять случится псовая охота, и теперь уже она заслонит битву? Ответ прост: Учелло не станет рисовать в этот день, сохраняя значение битвы при Сан-Романо. То есть в сознании Учелло все-таки все происходит одновременно, просто соседство событий на полотне он заменил выбором событий. Иными словами, если прямая перспектива искусственно отдалила прошлое, то сам человек, пользующийся перспективой, не переменился – он находится единовременно и там, и здесь, он видит и знает все одновременно. Впрочем, изобретение прямой перспективы оказалось удобным для людей светских, живущих напоказ. Теперь их появление в свете, произнесение речей с трибуны, раздавание обещаний не омрачено примерами прошлого, которые произведенное впечатление бы нивелировали. Такой взгляд, то есть взгляд перспективный, предпочтительнее для спекулянта, кокотки или политика. Действительно, всякая дама, в который раз начинающая жизнь сызнова, является адептом прямой перспективы. Что же касается политики, то термин «перспективный» почти буквально обозначает «прогрессивный» и принят во всех цивилизованных странах за обозначение позитивного начала. Мы говорим «прогрессивный политик» и чаще всего имеем в виду только то, что его намерение построить железную дорогу заслонило в нашем сознании тот факт, что ранее он разорил сиротский приют.
И следует признать, что новейшая, современная история явила прогрессивному, цивилизованному миру такой набор политических лидеров, что иначе как перспективными их и не назовешь. Что там было у каждого из них в прошлом? И заглядывать-то страшновато, чего там только нет. Ух! Живые же все люди, со страстями, с искушениями. И не стоит туда заглядывать, если хотите узнать про них правду: ведь они все перспективные – живут в будущем! Вот в будущее и смотрите сколько вам угодно!
И такой перспективный взгляд исключительно удобен, поскольку никаких мелких грешков, вроде коррупции, воровства, убийства себе подобных, лжесвидельства, – в перспективе не разглядишь. Если и было там что-то эдакое, то давно уже заслонено улыбкой лидера, выдвинутого историей на первый план. И куда бы ни повернулся изумленный обитатель просвещенного мира, везде он видит те же благосклонные улыбки властителей, ведущих его к прогрессу. «А где же, – разводит этот гражданин руками, – помните – сиротский приют? Помните, что-то такое вроде было? То ли построили, то ли разграбили?» – «Так это когда было-то! Эвон, как давно! Скажете тоже! Кто ж помнит!» Такие подобрались в мире правители, что ругать друг друга им стало неприлично – все они настолько схожи, отлиты по одному образцу, выращены в одном интернате, что стоит одному показать на другого, как возникнет вопрос: а ты-то сам каков? Чем твой сосед отличается от тебя самого? Все вы одинаковые. Путин не скажет на Берлускони, тот не покажет на Ширака, Ширак на Блэра не укажет, а Блэр не обидит Буша. Круговая порука. Нет ни одного, кто был бы чист настолько, чтобы указать на соседа: вот он, вор! Он вчера сирот обворовал! И дело не в собственной нечистоплотности, и дело не в страхе разоблачений собственной жизни: никто не покажет никогда на другого потому, что в общественном представлении о времени уже нет вчерашнего дня, – вчерашний день размыт перспективой, он исчез за горизонтом.
Как веско сказала Роза Кранц, объясняя преимущества современного динамического общества: «Нью-Йорк – это город, где вчера забыли то, что вы узнаете завтра». И вряд ли можно более точно указать на цель, лучше выбрать образец для следования.
II
Современный политик, как и современный художник, должен и образом мысли, и поступками демонстрировать забвение дня вчерашнего. Появились труды, и труды людей уважаемых, трактующих как дважды два, что привычному течению событий пришел конец. Мыслящие люди зачитывались писаниями Фукуямы. И что с того, что иные циники, такие, как профессор Татарников, например, не реагировали на последние новации философской мысли? Всегда ведь найдется кто-нибудь, кто глух к тому, что Мандельштам называл «шумом времени». А Татарников был на редкость глух – и от природы и от спиртного. Так, скажем, в диалогах с Розой Кранц (а после памятного сидения в буфете «Открытого общества» они нет-нет да и обменивались мнениями) историк проявлял свой вопиющий цинизм. На вопрос Кранц, знаком ли он с трудами Фукуямы и Хантингтона, Сергей Ильич отвечал, что да, знаком, ожидает конца истории со дня на день и именно поэтому хотел бы получить зарплату в «Открытом обществе» авансом. И это еще не самый разительный пример его небрежения. Психологический склад Татарникова (или его убеждения – но разве скажешь наверное про пьющего человека?) дозволял ему выходки, вовсе унижающие интеллектуальный дискурс. Типичным примерам явилась недавняя дискуссия в «Открытом обществе». Докладчик (Борис Кузин) представил блестящий материал о русской эмиграции, о так называемом философском пароходе и славных его матросах, снискавших славу в странах цивилизованных. То была дорогая для собравшихся тема. Истинным доказательством того, что европейская судьба для русского мыслителя возможна, – являлись судьбы русских философов начала века, сыскавших пристанище среди священных камней Европы. Ах, напрасно сомневаются иные скептики в том, что русский человек – европеец! Европеец, натуральный европеец, да какой еще! Даром, что рожден в степи и воспитан среди малопривлекательных пустырей, даром, что он отягощен дурным соседством, – духом этот гражданин принадлежит цивилизации. Кузин обозначил данный феномен словосочетанием «русский европеец» и легко доказал, что наряду с английским европейцем, французским европейцем и бельгийским европейцем существует еще и малоизученный феномен «русского европейца». Примеров хоть отбавляй – тут и Бердяев, и Федотов, и Степун, все те, кто, избежав неправого суда азиатского сатрапа, приплыли к своей духовной родине. Дискуссия в собрании развивалась следующим образом.
– Пора задуматься о Степуне и его судьбе, – сказал Кузин, – изучить и издать архивы.
– О степуне, вот как, – значительно повторил председательствующий отец Павлинов и сосредоточенно замолчал. Кто же этот степун, подумал он. Может быть, Кузин как обычно что-то про половцев сочиняет. Влияние степи на Русь, вот оно что. Обитатели диких степей, степуны, представляют интерес для исследователя. Степуны отличались жестокостью и совершали набеги – это и подкосило российскую цивилизацию, эта мысль Кузина была близка отцу Николаю, он значительно покивал, – о степуне, так, так, любопытно, о степуне. Весьма интересно, что там у них в архивах хранится, – подумал же отец Николай о колчане и стрелах.
Роза Кранц пришла ему на выручку:
– А что именно о Степуне? Из немецкого периода жизни?
«Неужели степуны дошли до Германии?» – подумал отец Николай и наклонился к Татарникову, спросить, как оно там со степунами получилось. Кто бы мог подумать? Упорный народ, что ни говори.
– Именно немецкий период жизни. Например, любопытен приказ об увольнении Степуна из университета. Национал-социалисты выгнали его за нездоровые настроения. Но характерно – не посадили, не репрессировали; просто отчислили.
– Не посадили?
– Все-таки профессуру не трогали и уж точно не расстреливали, это у немцев в крови – уважение к профессуре. Что бы ни происходило – а профессор оставался фигурой уважаемой.
– Да, культура есть культура. И германская культура – это прежде всего культ учебы.
– Нация цивилизованная, с традиционным почтением к образованию. Могли поэта или художника убить, да, согласен, но не профессора. Носителя знаний не убивали. Ну, Розу Либкнехт, или как там ее, неважно, – это да, могли. Но не профессора.
– Поразительно, что именно степун, – сказал отец Николай, приглашая собрание оценить пропасть между порождением дикой природой и достижениями гуманизма, – именно наш степун стал носителем багажа цивилизации. Вот ведь что интересно!
– А за что его отчислили? – спросил Татарников. – Он сделал-то что?
Узнав же, что Федор Степун не произнес обвинительной речи в адрес Рейха, а вина его состояла лишь в том, что он не произносил публичных славословий, Татарников высказался с обычной своей безапелляционностью и грубостью.
– А за что его расстреливать, Степуна вашего? Не протестовал, листовки не клеил, в Сопротивлении не участвовал, партизан в погребе не прятал, евреев через границу не водил – кому он нужен? Что с него толку? Пинка хорошего дали, и хватит с него.
– Как не стыдно? – воззвал Борис Кузин к совести Сергея Ильича. – Почему ученый, профессор с мировым именем должен клеить листовки или строить баррикады? Он занимается наукой! Вот его баррикада! – и сам Борис Кириллович Кузин, говоривший эти слова, смотрелся на кафедре, точно солдат на баррикаде. Нижняя, упитанная, азиатская часть его тела была надежно закрыта кафедрой, а одухотворенная европейская голова с горящими глазами поднималась над баррикадой и взывала к собранию.