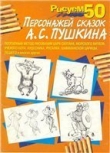Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
VI
В отсутствие Сергея Ильича разговор замер. Простившись с гостями, Поставец поспешил к своим бронированным дверям: иные гости явились на порог. Галерея актуального искусства жила той жизнью, какой в брежневские годы жила кухня в квартире диссидентов: знакомые и незнакомые приходили и выходили, что-то уносили и что-то приносили, засиживались за чаем и засыпали, напившись водки. Разница в том, что диссидентская кухня прозябала на задворках цивилизации, а галерея актуального искусства находилась в ее эпицентре.
Охранник распахнул дверь. Прибыл цвет художественной Москвы. Вошел, кутаясь в лагерный свой бушлат, подозрительный и осторожный Пинкисевич. Надо сказать, что недавнюю свою покупку, полувоенный френч, он надевал лишь за границей, а приезжая на Родину, облачался в привычное тряпье времен Беломорканала. Несмотря на гонорары, Эдик Пинкисевич производил впечатление бедного человека. Заработанные деньги он не вкладывал ни в недвижимость, ни в банки, ни во что вообще – но держал у сестры в Днепропетровске, полагая, что так надежнее. Вошел следом за ним и Дутов, рассеянный и возвышенный. Вошел и Стремовский, как всегда одетый в черное, на манер берлинских интеллектуалов. В жару и холод Стремовский одевался теперь в черные пасторские одежды, стригся коротко и держался значительно, как и подобает мыслящему европейскому интеллигенту. С некоторых пор он носил очки с узкими стеклами, и взгляд его сделался проницательным. Вслед за художниками вошла знаменитая Кранц.
– Здорово, кенты, – сказал Пинкисевич, верный тюремному жаргону, гляди, какую хавиру отгрохали. Двери, как в танке, – заметив аквариум, Пинкисевич сунул в воду руку, почесал пальцем пляшущего человечка, – здорово, Филька.
– Двери хорошие, – сказал Стремовский, оглядываясь. – Надо еще бронированные заказать. Это он? Ле Жикизду?
– Поздний Ле Жикизду, – уточнил Дутов, присмотревшись.
– Я такие вещи в шестидесятых делал, – заметил Стремовский.
– Не надо, – поправил его Пинкисевич, – не углем по штукатурке. Ты гвоздем царапал.
– Полагаю, – мягко сказал Поставец, – Москва созрела для Ле Жикизду.
– Дискурс свободы, – заметил Дутов, – мимикрирует применительно к обстоятельствам конгруэнтности.
– Это верно. Хавать культуру надо умеючи. А то вкалывали на пердячем пару. Условий никаких. В мастерской у меня по колено говно стоит, – Пинкисевич затронул больную свою тему. – Вонища такая, что в глазах темно. Сантехников зову, а они уже по специальности не работают – один на биржу пошел, а другой челночит в Китай и обратно, колготки возит.
– Он видит мир, – примирительно сказала Кранц.
– Ничего не видит. Ему на границе прикладом в бубен дали, и череп пополам.
– Связался с бандитами? – потер руки Поставец. – Нелицензионная торговля?
– Таможенники, какие бандиты. Делиться не стал, ему и врезали. Вот такая дыра в башке, – Пинкисевич показал на пальцах размеры повреждения. – Теперь, чуть давление меняется, у него чердак сифонит, как бачок в унитазе. Я говорю, ты мне сортир не чинишь, так хоть себе прокладки поменяй. Про себя я молчу. Полная антисанитария! Дюренматту посылал «Серебристую сонату» – серое на сером, сложная вещь, – так он ее на санэпидемстанцию отправлял, бациллы истреблять.
– Много заплатил?
– Жду, – сказал Пинкисевич и прибавил непечатное ругательство, аттестуя швейцарца.
– Хуже нет, когда работу отослал, а деньги ждешь.
– У них всегда так. То: не могу, скоро налоги платить, а то: не могу, все налоги съели.
– Вот Левкоев, этот башляет нормально. Ему налоги нипочем. Секретарь конверт выносит – и порядок
– Дупель платит хорошо.
– А как, интересно, Поставец платит?
– Пора бы и расчет, – разгоряченные разговорами о деньгах, художники обратились к Поставцу.
– Денег нет, – Поставец встретил взгляды художников улыбкой.
– Как – нет?
– Откуда ж мне взять?
– Не кукли, Славик. Ты что, как пидор? – сказал Пинкисевич. Стремовский толкал в бок Пинкисевича, но тот, отмахнувшись, продолжил речь. Наивный Пинкисевич, не разбираясь в сексуальных ориентациях, использовал ругательные слова в качестве воспитательных аргументов, – ты ж не пидорас. Гони монеты.
Поскольку Поставец был именно пидорасом (используя вульгарное выражение Пинкисевича), то денег он не дал, а только облизнулся широким влажным языком.
– Четырнадцать холстов, – волнуясь, сказал Дутов, который нарезал из прошлого опуса ровно четырнадцать холстов, – они непросто дались. Вещи имманентные.
– Придется ждать. Это вам не Союз советских художников, где деньги ничего не стоили. Трудимся в рамках открытого общества, – Поставец жестом пригласил оглядеть размах предприятия: выставку Ле Жикизду, пляшущего человечка, экран телевизора. В телевизоре бритоголовые люди закончили отпиливание головы, запихнули ее в мешок. Кровавая лужа осталась на месте работы.
– А ратификация соглашений? – сказал Дутов и сам испугался своего напора.
– Пятьдесят процентов. Без бабок не уйдем, – сказал Пинкисевич. Так же твердо разговаривают отказники с кумом на зоне, – и спасибо скажи, что не семьдесят. Ле Жикизду небось семьдесят ломит, и ты не вякаешь. Своего брата легче дурить, так что ли?
Осип Стремовский не сказал ничего: человек осмотрительный, он всегда ждал, как события повернутся. Если деньги в принципе существуют, в конце концов их можно взять, но возьмет их тот, кто умеет ждать.
Поставец потер руки, улыбнулся, облизнулся.
– Пятьдесят процентов? – спросил он. – А в каталог сколько вбухано? А транспорт кто оплачивал? А реклама? Сколько я за полосу в «Бизнесмене» заплатил? «Дверь в Европу» объявление о выставке дала, помнишь? Еще пятьсот баксов. А гонорар Свистоплясовой за вступительную статью? Знаешь, сколько она берет? Тебе дай, Свистоплясовой дай, Баринову дай, всем дай. Я деньги не печатаю. Фотографии кто заказывал? Билеты в Париж тебе кто покупал?
Поставец умел говорить с кредиторами. Человеку надо дать понять, что он живет в сложном обществе, связанном взаимными обязательствами. Его очередь на получение благ не дошла – только и всего. Фотографу денег не платили, потому что все ушло на гонорары художникам. Шофер грузовика, возивший картины, пятый месяц приходил к железной двери, и охрана гнала его прочь. Свистоплясова обиделась и Поставцу звонить перестала.
– Сколько можешь заплати, – сказал Дутов примирительно. – В Париже такие цены на авангард. Интеллигибельные. Небось заработал на нас.
– Ждать надо.
– Не заплатишь, значит?
– А заплатить придется, – вмешалась в разговор Роза Кранц. Она, слушая, наливалась краской и все более выпучивала глаза, – заплатить придется! Там и мои деньги, между прочим, есть.
– Где твои деньги?
– А в фондах, которые ты скушал.
– Какие они твои? Где они были, твои деньги?
– А не надо! Кто спонсорские у Балабоса выбивал? У него поди вытяни! За фандрайзинг плати!
Фандрайзингом, на западный манер, отечественные культурные деятели называли встречи с сентиментальными банкирами: надо было напроситься на обед в ресторан и в перерывах между блюдами убедить богачей дать денег на очередной перформанс. Культурные деятели говорили так: вот вы, вашество, денег дадите, а потом скажете в Берлине (Бонне, Лозанне, Орлеане): помогаю искусству, Стремовского поддерживаю. А что, спрашивал банкир, жуя котлету, они там знают Стремовского? В этом месте диалога полагалось закатить глаза и сказать: О! Знают ли? О! Некоторые богачи деньги давали – этими деньгами полагалось делиться.
– Много он дал, твой Балабос!
– Сто штук дал!
– Не дал он сто штук!
– Как это не дал, при мне платежку выписывали!
– А деньги не пришли!
– Как это не пришли, когда пришли!
– Пришли, но мало.
– Сто штук тебе мало! Там и мои были!
– Где я их возьму? Кончились деньги!
– Сто штук! Сто штук! Мало ему!
– Мало! Не хватило ни хуя! – Поставец даже привстал, так он разволновался; дурное наследие советского министерства сказалось в его речи – в минуты волнения речь делалась нецензурной. – Шприц из-за границы еще сто штук перевел, и то не хватило!
– Да плевала я на твоего Шприца!
– Плевала, говоришь? А он в Гугенхайме каталог издал! А свое имя ты на гугенхаймовском каталоге тиснула! Не забыла! А башлял на каталог кто?! Кто башлял на твой каталог, я спрашиваю?
– Какой он мой, если там твои художники!
– А зачем на первую страницу лезешь? Хоть спасибо скажи! Хуй дождешься!
– Шприц наворовал много! Хуй ли ему не отстегнуть на каталог? – в устах Розы Кранц непарламентарные выражения звучали странно. Глаза Розы выкатились из орбит, цвет щек спорил с карминными колготками.
– Хуй ли не отстегнуть на каталог?! – осведомился Поставец саркастически. – Ты Балабоса спроси: какого хуя он нам так мало дал, что ни хуя не хватило!
– На хуя мне с Балабосом разговаривать, если ты бабки должен? – волнение Розы Кранц достигло апогея, и, казалось, разрешить эту некрасивую ситуацию уже невозможно. Случается в жизни так, что эмоции сметают реальность. Смотришь: где была интеллигентная женщина с несколько выпученными глазами? Уж не эта ли фурия? А фурия продолжала кричать: – Свистоплясовой гонорары идут! А мне что? Мне – хуй?!
– У Левкоева бабки проси! Пинкисевича ему толкаешь, у него и проси! У Дупеля проси! Впарила ему Гузкина!
– На Дупеля все насели! Год проект предлагаю, а Свистоплясова под себя все гребет на хуй!
– Свистоплясова гребет на хуй? А ты – ты не гребешь?
– Дупель в президенты лезет! На хуй ему искусство?
VII
Вечер казался испорченным; даже вуалехвосты в аквариуме замедлили свой ход, и пляшущий человечек приуныл; бордовая Роза Кранц с вытаращенными глазами и галерист, барабанящий пальцами по столу, кричали друг на друга, тон их прений был резок, художники растерянно наблюдали за схваткой.
Однако Поставец был обучен обуздывать страсти. Случались и в приемной Басманова острые коллизии, и не зря Герман Федорович ценил секретаря: Слава умел изменить тон, найти другой подход. В президенты метит господин Дупель? Ну что ж, мы ему и выборы организуем, и такую коллекцию актуального творчества в Колонном зале развесим – мир ахнет! Пальцы его перестали барабанить по столу, и улыбка прошла сквозь полные щеки, и Поставец облизнулся вкрадчивым движением языка.
– Ну что ты, Розочка, – сказал улыбчивый Поставец, – будут деньги, будут. Должна быть мера ответственности. Надо беречь друг друга.
– Нет былого товарищества, – заметил Пинкисевич, кутаясь в лагерный бушлат. – Все бабки проклятые виноваты. Раньше вместе держались. Обыск у меня – обыск у тебя. ГБ не хватает, что ли? Не пойму.
– ГБ ему не хватает, – сказал Стремовский, – забыл, как мастерские шмонали.
– Подумаешь. Нормальные мужики. Мы с ними зубровки хватанули. Я говорю, давайте, пацаны, по одной. Они говорят, мы на службе. А потом старлей два раза в магазин бегал. А теперь? Где духовность? Мы тут с Гришей сидели «У Липпа», я ему говорю: где духовность? Ну там, в Париже, конечно, разбор другой. Анжуйское, то-се. А здесь? Развели молодежь сопливую.
– Напрасно вы так, – сказал Поставец. – Есть таланты: Сыч, Лиля Шиздяпина, супруги Кайло. Думающие ребята. Я их сегодня позвал.
– Да я по ним не соскучился.
– Вы не правы, – сказала Роза Кранц. Она совершенно успокоилась, обрела обычный розовый цвет, глаза ее почти вернулись в орбиты. – Радикальные есть мастера. Например, Снустиков-Гарбо.
– Переоделся в бабу, колготки напялил – и рад. Его на зоне быстро раком поставят.
– Снустиков занят проблемой самоидентификации. Заигрывание с феноменом «второго пола» (в терминологии Симоны де Бовуар) воскрешает парадигму андрогина.
– Верно, – обрадовался Дутов, услышав наконец знакомую речь, – контаминации этого дискурса амбивалентны.
– Сегодня я всех художников галереи собрал: клиент придет.
– Серьезный клиент? – Пинкисевич посуровел. Всякий раз перед продажей картин он принимал вид старого зэка, ждущего подвоха от лагерного начальства.
– Клиент? – Стремовский поглядел проницательно сквозь узкие стеклышки. – Что ж, мастерская у меня полна. Стечение обстоятельств: завтра отправляю транспорт в Голландию. А сегодня – полно работ, повернуться негде.
– Клиент, – сказал Дутов задумчиво. – Думаю закончить к вечеру десять вещей.
– Я видел, – подтвердил великодушный Пинкисевич, который действительно видел холст, который можно было нарезать, – точно: десять картин!
Поставец посмотрел, облизнулся, покивал: он знал, что Стремовский врет и никуда он свои произведения не отправляет. Он также представлял метод работы Дутова.
– А Струев с Первачевым не пришли? – поинтересовалась Кранц.
– С Первачевым невозможно работать, – сказал Поставец. – Старость: полностью свихнулся. Струев уже ничего не делает. Пьет, по-моему.
– Что время делает, – заметил Стремовский, – помните, мы молились на этого человека.
VIII
Галерея наполнилась молодыми людьми, возбужденно говорившими: сейчас придет! Важный? Из самых-самых в Германии? Барон! Ну да? Я тебе говорю. Круче Людвига? Да, он всего Гузкина скупил, у Струева шесть вещей взял! Так его Гузкин вам и отдал – это ж его корова, он и доит. А его кто спрашивать станет? Если он к тебе в мастерскую поедет, я с тобой, договорились? А как я тебя возьму? Он Дали собирает, Бойса и Ворхола! Ну, скорее, скорее! Ты сюда встань! А ты – сюда! Валерик, у тебя помады нет? У меня чулок сполз. Если он гузкинское старье берет, тогда… Что тогда? Ноготь сломался! А что в немце толку? Американец нужен. Вот, слышите дверь хлопнула?
Пинкисевич, Стремовский и Дутов смотрели на молодую компанию несколько презрительно. Они тоже переговаривались меж собой. И мы такие были. Перестань, мы такие никогда не были. Я тридцать лет на ливерной колбасе жил, пока первый холст не продал, а эти сразу хотят. Тебе жалко? Не жалко, противно. Посмотри на этого пидора – мужик, а губы накрасил и юбку надел. У них еще Сыч есть, тот вообще. Надо додуматься – посадить эту шпану рядом с нами. Может, уйдем на хрен, уважать себя надо. Гриша мне рассказывал про этого деятеля. У него и Дали, и Шагал. Его все знают. Я считаю, что просто из уважения к коллекции следует остаться. Просто надо держаться с достоинством. Я думаю, если художник не входит в «список Первачева», он должен знать свое место. Я лично так прямо барону и скажу. Посмотрим, что выйдет. Художник должен отстаивать свою позицию. Я так считаю. И я тоже.
В ожидании клиента художники расположились двумя группами. Признанные мэтры – т. е. Стремовский, Дутов, Пинкисевич – расположились на диване у левой стены, подле аквариума с пляшущим Преображенским; они сели, положив ногу на ногу, всем видом своим декларируя независимость. Так, Дутов листал каталог аукциона Сотбис, делая пометки карандашиком, Стремовский курил трубку и пускал струи сизого дыма, Пинкисевич кутался в лагерный бушлат, надвинув треух на глаза. Представители же новой волны – Валерий и Валерия Кайло, Лиля Шиздяпина, Федор Снустиков-Гарбо и Сальский с Веденяпиным – те стали у правой стены, изображая интерес и ожидание, причем Снустиков-Гарбо, одетый в полупрозрачную блузку, розовый лифчик и короткую плиссированную юбку, выгодно подчеркивающую его стройные бедра, тот даже вытянул шею, прислушиваясь к шагам на лестнице, – не пропустить бы гостя.
Поставец придирчиво оглядел своих юных подопечных и прошел вдоль строя, устраняя мелкие неполадки: Лиле Шиздяпиной пригладил воротник у блузки, Снустикову-Гарбо поправил бретельку лифчика, Валерию Кайло расстегнул две верхние пуговицы на рубашке, что придало художнику более артистический вид. Бросил он взгляд и на старую гвардию. Ну, эти знают, как себя подать. Тут волноваться не приходится. А где Роза Кранц? Вот она, расположилась у самого стола Поставца – сразу и не поймешь: может быть, это она здесь хозяйка.
IX
И раздались шаги, и дверь железная, скрипя, отъехала на петлях – вот и гость. Поставец, не передоверяя никому судьбоносный момент, сам вышел навстречу. Пожалуй, излишне быстро побежал, слишком резво для известного культурного деятеля и полного господина. Впрочем, понять поспешность можно: не каждый день приходят коллекционеры такого масштаба. И потом, не поспешишь сам, так Роза Кранц выйдет к гостю первой – и она своего не упустит.
Вошел барон с переводчиком, запуганным мальчиком, таращащим глаза наподобие Розы Кранц.
– Фон Майзель, – приветливо сказал барон, и переводчик старательно воспроизвел его фамилию.
– Поставец, – отрекомендовался галерист.
– Сосковец? Родственник?
– Не Сосковец, а Поставец.
– Несосковец?
– Не Сосковец я, я – Поставец. Я – не Сосковец.
– Не понимаю, – барон обратился к здравому смыслу переводчика. – Вы не тот Сосковец. Но его родственник. Полагаю, сын?
– Я не имею к министру Сосковцу никакого отношения. Я – не его родственник.
– Газом, значит, не торгуете, – сказал барон, для которого кое-что стало проясняться.
– Газом не торгую.
– Это пока, – заметил барон, – вы еще придете к этому.
– Возможно, – Поставец потер руки, улыбнулся, облизнулся. Про газ он уже подумывал. Вот если выборы Тушинского пройдут как надо. Если перформанс «Форварды либерализма» прозвучит. Любопытно, что там с Дупелем намечается. К газу можно будет вернуться. – Пока занимаюсь искусством.
– Тоже интересно. Однако газ – прибыльнее.
– Газом не занимаюсь.
– Если хотите послушать моего совета – то напрасно.
– Очень может быть. Однако я торгую современным искусством.
– Достойное увлечение.
– Хотите взглянуть? Я собрал здесь художников своей галереи.
– А, эти, – сказал барон, – я знаю одного русского художника.
– Полагаю, вы знаете Гузкина. А вот его коллеги. Поглядим на работы? А потом можем пойти на ланч, – Поставец знал, как обращаться с клиентами.
– Какие обеды мы устраивали с вашим папой, – добродушно заметил барон. – Дары русских рек. Экологически безупречная пища. Икра, севрюга и эта, как ее? – забыл. Жаль, что вы не занимаетесь газом. Посоветуйтесь с отцом. Рыбу он выбирал, кстати, прекрасно.
– Не Сосковец! Поставец!
– Поставец? Нет, по-другому. Как-то похоже, но по-другому. Стерлядь, вспомнил. Великолепная еда. И, что важно, с точки зрения экологии – на высшем уровне. Впрочем, ваш папа в таких вещах знаток
– Не Сосковец!
– Понимаю. Газом не торгуете. Может быть, нефть? – самое примечательное, что всю эту белиберду барон излагал медленно и благодушно, к тому же через переводчика.
Поставец апеллировал к здравому смыслу соотечественника и внушал переводчику, кто он такой на самом деле, а подневольный переводчик разводил руками: мол, что велено, то излагаю. Войдите в положение.
– Объясните ему, что ни газа, ни нефти тут нет. Галерея здесь. И я не Сосковец.
Переводчик постарался. Барон покивал, расстроился, полез в записную книжку и заворочал страницами, пытаясь разобраться, что занесло его в столь странное место.
– Это у вас что? – барон подошел к телевизору, бесцеремонно включил звук – Чечня, что ли?
– Грязная, позорная война, – подтвердил Поставец, – язва постсоветского пространства.
– Отвратительно, – барон выключил телевизор. – Мне рассказывал мой друг Оскар. Смотреть противно.
Настроение у барона испортилось. На выручку пришла Роза Кранц. Завладев вниманием барона, она объяснила ему все.
Да, война. Позор и преступление. С трудом зараза большевизма выходит из общества. Вот, допустим, алкоголик, какой-нибудь, извиняюсь, грузчик на вокзале, все еще полагает, что он гражданин огромной империи. Не мира, заметьте, не цивилизованного человечества, а России, с ее кровавой историей. И как это вытравить из его пьяных мозгов? Тяжелая работа! И эдакое отрепье идет в армию – а там, сами понимаете: приказ какого-нибудь замшелого генерала, и готово дело – война! Слава богу, когда медийные структуры начеку, преступление становится известным. Это не сталинские годы, когда миллионы гибли, а никто не знал. Что-что? Да, совершенно верно, и экологию тоже разрушили. Погубили прекрасные хвойные леса, как вы справедливо говорите. И загрязнили озеро Байкал, совершенно верно. Так вот, сейчас принципиально новая ситуация – в открытом обществе разбой не утаишь. Достижение? И не одно это можно поставить в заслугу открытому обществу.
Например, политики теперь увлекаются искусством. Вот, скажем, Дупель – знаете такого? За ним будущее страны, между прочим – и он авангардом увлекается. Ах, вы к Дупелю и приехали, вот оно что! Так на этой самой территории и встретитесь!
Как вы говорите? За авангардом приехали тоже? Ну и прекрасно! Мы вам такую коллекцию подберем! Есть подлинные кладовые авангарда! Есть в мире подлинные ценности – звезды, нравственный закон внутри человека, и, конечно же, авангард! И что отрадно: отшумела эпоха первого авангарда, а вот и второй народился. А там, глядишь, и третий поспеет. Вот он, второй авангард – так сказать, живьем присутствует. Видите, вот Пинкисевич – продолжает дело Малевича, квадраты рисует. Нет, не черные, но тоже квадраты. Серенькие такие квадратики. А вот Дутов, он в свободном дискурсе пишет абстрактные композиции. Да, Кандинский, как точно вы определили. А вот Стремовский – он, так сказать, политалантлив. А это Снустиков-Гарбо, занят проблемами самоидентификации андрогина. Вот вам, так сказать, сливки второго авангарда. А первый авангард, начало всех начал, тот готов к продаже и ждет клиента. Вам какой авангард прикажете? Первый, с квадратиками потемнее? Или второй, там геометрия почетче, но цвет менее яркий. Зависит, конечно, от вкуса. От убеждений зависит и от интерьера тоже. Что прикажете?
Поставец смотрел на Розу Кранц: да, умеет, что говорить. Умеет, да еще как! Вот оно что: Роза, оказывается, в деле с продажами авангарда. Правильно, что-то такое он слышал от Германа Федоровича. Или это Кротов рассказывал? Барон, он ведь кредитует казахский нефтяной бизнес. А попутно они ему Малевича с Гузкиным впаривают. Ловко. Любопытно, на сколько частей пилят они кредит? А сегодня, значит, к Дупелю поворот наметился?
Барон отмяк совершенно, ситуация прояснилась. Беседа текла легко, и художники, присутствие которых оказалось ненужным, тихо покидали галерею. Придерживая дверь, чтобы не стукнула и не помешала разговору, выходили мастера второго авангарда на улицу. Вышел, поправляя бретельку лифчика, Снустиков-Гарбо, похромал на каблуках на перекресток – ловить такси; вышли на улицу супруги Кайло – пора домой, дети ждут. Вышли и пожилые мастера, бросая последние взгляды на барона. Стремовский задержался.
– Видно делового человека, – сказал проницательный Стремовский, и коллекция, полагаю, первоклассная. Любопытно, какому стилю сейчас отдают предпочтение? Самое актуальное что? Инсталляции, говорят, уже сходят. Опять перформансы, да? Кстати, когда матч играем? Интересная идея с футболом, авангардисты против депутатов парламента! Я предлагаю одеться по эскизам Поповой и Розановой, – так говорил Стремовский, но думал он в это время о другом. О своем искусстве говорить неуместно, если барон собирает Малевича. Он заговорил о политике.
– Чудовищно, – сказал он, указывая на пустой экран телевизора.
– О, да, – барон покивал, – Чечня.
– При новом президенте, – сказал Стремовский, – этого не будет.
– А so! – сказал барон. – А кто новый президент?
– В этом вопрос. Надо поддержать демократию в России. Вы должны встретиться с Тушинским, господин барон. С ним и с Михаилом Дупелем, Стремовский говорил сдержанно, серьезно, в традициях подполья семидесятых. – Лучшее место для встреч – эта галерея.
– Ah, so? – барон фон Майзель благосклонно посмотрел на Поставца. Так бы сразу и сказали, что здесь место неформальных встреч нефтяного клуба. Теперь понятно.
Просто и совсем по-европейски. И Роза Кранц, и Михаил Дупель, и Поставец должны оценить, как мягко он лоббирует их интересы. Стремовский тронул галериста за рукав:
– Что с гонораром?
Но первым отблагодарил художника барон фон Майзель. Барон протянул Стремовскому карточку с телефоном.
– Оскар Штрассер, мой компаньон. Представляет мои интересы в Казахстане. Поклонник инсталляций. И большой демократ.
X
Павел с Леонидом Голенищевым тем временем подводили итоги своего визита.
– Лист прячут в лесу. Мертвое тело среди других мертвых тел. А где спрятать больного? Где спрятать неполноценного урода? Только в больнице, не так ли? А что сделать для того, чтобы инвалид не чувствовал себя инвалидом?
– Ты это к чему? – спросил Леонид.
– Чтобы не опасаться, что кривой кирпич обрушит здание, – надо сразу строить из кривых кирпичей. Надо заставить всех здоровых изображать калек, чтобы калеке было не обидно. Чтобы калека чувствовал себя уверенно, вокруг него строят целое здание больницы. Плохо то, что здоровым людям там будет трудно. Мне кажется, что в основе договоренностей современного мира лежит чья-то недееспособность, чье-то неумение. Художник не умеет рисовать, и это неумение – выгодно критику, который не умеет писать. Неумная журналистика выгодна политику, который не имеет идей, слабая политика выгодна генералу, который не умеет воевать, и так далее. Или все дело в том, что меж неполноценных людей легче добиться социальной гармонии?
– Но, возможно, все обстоит прямо наоборот: мир представляется больницей только одному психу, для других же мир хорош, – сказал Леонид. – Все, что можно, я сделал, дальнейшее зависит от тебя. Хочешь вписаться в современный художественный процесс – изволь. Дверь открыта. И тоска пройдет, и с миром отношения наладятся.
– Я все думаю про договор между художником, банкиром, колбасником и генералом. Они договариваются на равных условиях?
– Абсолютно на равных. В демократическом обществе ценен каждый гражданин.
– И ничье мнение не важнее мнения другого?
– В том, что касается колбасы, важнее мнение колбасника; в деньгах лучше понимает банкир; в истребителях – генерал; ну а художник – авторитет в искусстве.
– А что важнее для них, как для общества, – колбаса, деньги, искусство или оружие?
– Одинаково важно.
– И принцип равных усилий и равной ответственности не работал бы, если бы что-то одно было важнее? Если бы выяснилось, что оружие важнее, то художник мог бы не стараться. И если бы выяснилось, что важнее искусство, то было бы безразлично, какая колбаса.
– В принципе верно. Если появляется иерархия, у тех, кто внизу, ответственности меньше.
– А сегодня – все одинаково ответственны?
– Да, каждый ответственен перед всеми.
– Я вот чего не понимаю: кто придумал это равновесие? Это же сделано по плану? И кто он, придумавший это? Бог? Но тогда он не уравнял бы генерала в правах с художником. Или есть еще один генерал – просто мы его не приняли в расчет?