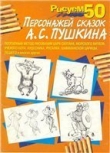Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
– О чем вы таком говорите, Сергей? Что это такое – бреттонвудский стандарт? Новые теории? Увольте! Вы мне фукуямовские бредни излагать собрались? Увольте меня от галиматьи.
– Избави Господь. У Фукуямы – убеждения есть, а у меня их нет. У меня одно голое любопытство. И одно желание – чтобы процесс истории (или социокультурной эволюции, мне без разницы) не отменил моей способности понимать.
– А он непременно отменит, Сергей. Понимать – значит встречать вызов социокультурной эволюции, искать методы преодоления ее.
– Знаете, как о вас говорят, Соломон? Говорят, что вы сочиняете новую религию.
– Кхе-кхм, – сказал на это Рихтер. Ему было приятно.
– И я согласен с этим, – сказал Татарников, – только одно смущает меня: ваша религия без заповедей.
– Что вы в виду имеете?
– Это просто, Соломон. Всякая дисциплина – наука, эстетика, религия – имеет по необходимости свои ограничения. Можно их определить как технические особенности, а можно – как заповеди. Скажем, машина не едет без бензина, мусульманин не ест свинины, а картина не пишется вне законов перспективы. Это скучные параметры, признаю, но нельзя выдумать машину вообще, и нельзя выдумать религию вообще – машину можно выдумать только с восьмицилиндровым двигателем, а религию с теми или иными ограничениями в поведении.
– Когда Бог, – надменно сказал ему Рихтер, – придумывал первопарадигму бытия, то есть самый первый Завет, на основе которого появились три новые, мной упомянутые выше парадигмы, – когда он придумывал Завет, он заложил достаточно общих оснований для развития. Других я не ищу.
– Бог занимался конкретными вещами: отделял свет от тьмы, создавал планеты.
– И я, – сказал Рихтер, глядя на Татарникова совершенно серьезно, так, что даже язвительный историк смешался, – занят тем же самым.
IV
Так строилась беседа старика Рихтера и Сергея Ильича Татарникова. Диалог же с внуком Соломон Моисеевич, разумеется, аранжировал несколько в ином ключе, включая в беседу помимо общих вопросов еще и личные. Семейные дела (так уж принято было в семье) обсуждались вперемешку и на том же патетическом уровне, что и общие культурные проблемы.
Неожиданно для себя Павел решился на вопрос:
– Скажи, дедушка, а любовь – любовь похожа на историю?
Нельзя было сделать большего подарка Соломону Моисеевичу, чем спросить нечто на отвлеченную тему, желательно дидактического толка. Еще лучше было, если данную тему он мог проиллюстрировать примером из своей жизни. Старик Рихтер придвинулся к внуку, положил руку ему на запястье.
– То, что называют платонической любовью, действительно есть проект. В нашем обществе, – заметил Соломон Моисеевич, – проект любви может оставаться нереализованным по разным причинам. Кхе-кхм. Не обязательно платоническая, но, так сказать, не принятая моралью социума любовь не завершившуюся детьми и браком, – такая любовь напоминает историю. Невоплощенную историю!
Вчера Павел встретил стриженую девушку Юлию Мерцалову, они говорили о пустяках, и, прощаясь, Павел сказал: «Не хочется с вами расставаться». – «Тогда не расставайтесь», – ответила Юлия Мерцалова; она поглядела на Павла с тихой улыбкой: «Я приду к вам». Может быть, деду, мудрому Соломону, и можно было рассказать об этом проекте, однако вместо этого Павел задал еще один вопрос:
– Твои отношения с бабушкой давно уже плохие? И это потому, что ты полюбил другую женщину, да?
Соломон Моисеевич пожевал губами. Утаить от внука правду ему не хотелось. К тому же Соломон Моисеевич привык считать свои эмоции достаточным основанием для высказывания: если у него болело, он говорил немедленно, что ему больно, если ему грустилось, он говорил, что ему грустно. В настоящий момент ему было одиноко.
– Твоя бабушка, – сказал он, – очень грубый человек. Жить с ней мучительно. Это не вчера началось. Однажды (я могу делиться с другом, не так ли?), однажды я встретил Фаину. Не всегда, – он приосанился, что было ему непросто, так как до того он принял позу человека тяжелобольного, – не всегда я был старым. Да, кхе-кхм. Фаина Борисовна – очень хороший человек. И, между прочим, приятная, красивая женщина. Твоего деда она очень любит, – отметил Рихтер значительно и, помолчав, уточнил некоторые соображения касательно Фаины Борисовны. – Это самоотверженный характер. Есть такая черта в русских женщинах – самоотверженность. Замечательная черта. К счастью, мне встречались такие женщины. Да, кхе-кхм, встречались. Думаю, тебе, как внуку, это не должно быть безразлично. Бабушка, – обиженно продолжал Соломон Моисеевич, – твоя бабушка с предубеждением относится к Фаине Борисовне. Я из-за этого крайне переживаю. Какая несправедливость! Бедная Фаина Борисовна! У нее есть муж, пожилой, неприятный мужчина; кажется, он инженер. Я, впрочем, не уточнял. Сколько ей, бедной, приходится терпеть от него, этого случайного, чужого человека. И тут еще твоя бабушка, с ее неприязнью. Да, такая непростая ситуация. Я рассказываю это тебе, как другу, – добавил старик Рихтер. – Если бы не Фаина Борисовна, я был бы совсем одинок. Ведь ты далеко, у тебя свои дела, своя семья. Мне не с кем перемолвиться словом, буквально не с кем. Есть, правда, еще одна приятная молодая женщина, – студентка из Киева; тоже очень хороший человек. И очень симпатичная женщина, – счел нужным добавить Соломон Моисеевич, – с прекрасной фигурой, кхе-кхм.
– Какая разница, – не удержался Павел, – безразлично, какая у нее фигура, – в отношении Юлии Мерцаловой он, разумеется, так не считал – но не все ли равно какая фигура у студентки из Киева, собеседницы старика?
– Я просто отметил этот факт. Да. И только. У нее прекрасная фигура, высокий бюст, да, кхе-кхм. Да, прекрасный бюст, это бесспорный факт. Крайне симпатичный мне, искренний человек. Мы перезваниваемся с ней. Беседуем на разные темы. К сожалению, у нее какие-то личные проблемы, и это мешает ей навещать меня. И твоя бабушка, – печально сказал Рихтер, – твоя бабушка, боюсь, отнеслась бы к Анжелике с предубеждением. Я предложил этой девушке встречаться в парке. Ей пошло бы на пользу наше общение. Кхе-кхм. Полагаю это мое впечатление, – ее проблемы связаны с неудачным замужеством. Печально, что некий мужчина препятствует нашим встречам.
– Только нормально, что у девушки есть личная жизнь.
– Возможно, что и так
– Как вы познакомились?
– Я встретил ее в парке. Я гулял. Редко, но я разрешаю себе пройтись по парку. Она показалась мне растерянной, нуждающейся во внимании особом. Я высказал ей соображения, посетившие меня в тот момент.
– Какие, интересно?
– Я размышлял о феномене, который называю «двойной спиралью истории». Твоей бабушке, – неприязненно заметил Рихтер, – это не показалось любопытным, а Анжелика слушала меня с неослабевающим вниманием.
– Ах, так ее зовут Анжелика? – имя показалось Павлу крайне претенциозным; впрочем, не сама ведь девушка себя так назвала.
– Да, редкое имя, – сказал Рихтер, – необычное и красивое. Я хотел бы видеть ее чаще. Думаю, – добавил Соломон Моисеевич, – ей общение со мной необходимо. Однако, увы, это невозможно. У всех свои дела, – добавил он горько.
– А Сергей Ильич? Разве он не навещает тебя?
– Да, Сергей. Изредка он навещает меня. Не совсем забыл старика, от случая к случаю я вижу его, – Татарников бывал у Рихтера пять раз в неделю, однако Соломон Моисеевич не склонен был преувеличивать частоту этих визитов. – Иногда он меня навещает. Однако мы отнюдь не единомышленники. К тому же твоя бабушка, – горько сказал Рихтер, – тяжело оскорбила его жену, Зою Тарасовну. Поставила наши отношения под угрозу. Как могла она? Порой наружу выходит ее агрессивная вздорность. Поразительно, как смог я вынести эти годы.
– Но бабушка заботится о тебе, – вернулся Павел к теме коммунального хозяйства. Ему всегда казалось, что его задача состоит в том, чтобы успокоить деда и убедить примириться с бабкой. Если нет любви, полагал он, то есть хотя бы привычка и забота.
– Ты так считаешь. Что ж, считай, что она заботится, если тебе угодно. В конце концов, это твоя бабушка и ты должен относиться к ней хорошо. Я поддерживаю это. Однако если речь идет обо мне (впрочем, тебе это может быть неинтересно, понимаю), то мне каждый день здесь дается нелегко. Даже дружбу с подругой моей матери – с достойнейшей революционеркой, я должен скрывать. Марианна Карловна – глубокий и искренний человек – не принята в нашем доме. К сожалению, твоя бабушка относится к ней ужасно. Кхм-кхе. Предвзято относится твоя бабушка к моим друзьям и единомышленникам.
Соломон Моисеевич помолчал, потом добавил:
– Надеюсь, мой внук встретит такого единомышленника. Я верю, ты встретишь родственную душу, общение с которой отодвинет социальные проблемы на задний план. Быт, родственные обязанности – пусть это не тяготит тебя. Я всегда полагал, – и Рихтер значительно посмотрел на внука, – что ты рожден для великих свершений. Если ты подчинишь свою жизнь этому – то есть историческому – принципу, ты сможешь помочь людям.
Рихтер унаследовал от своей матери – старой большевички, соратницы Марианны Карловны, – особенность заканчивать каждый период речи обобщением.
– История, как небо, – не знает ни прошлого, ни будущего. Она пребывает вечно. Помнишь строчку «и звезда с звездою говорит»? Это сказано о небе духовной свободы. Звезды, которые говорят друг с другом через века, через огромные расстояния, – это души мыслителей. Да. Кхе-кхм. Ты слышал о законе сохранения энергии, да? Но я говорю тебе сейчас о законе сохранения свободы – это еще более важный закон. Когда ты видишь над головой звезды – ты видишь души свободных людей. Они превращаются в небесные светила. Это Маяковский и Платон, Микеланджело и Данте – это они протягивают к тебе лучи. Они все вместе там, на небе, – там их больше, чем людей на Земле, их история важнее и прекраснее нашей.
Павел, слышавший речь о звездах ранее, снова – как и всегда – пришел в возбуждение от этих слов.
– Значит, даже неосуществленная в реальности история, – спросил он деда, – все равно осуществляется там, среди звезд?
– Не бывает нереализованных проектов. В рамках социокультурной эволюции здесь, в обыденной жизни, проект может быть не реализован, башня не построена. Но в подлинной истории – остается все: все свершения духа, все подвиги мысли. Мне тяжело, – добавил Рихтер, – работать и думать в нездоровой атмосфере этого дома. Все, чего я прошу, – это покой. Сходи, кхе-кхм, поговори с бабушкой. Я, разумеется, не настаиваю. Но, мне кажется, ты смог бы убедить ее изменить свое поведение. Как внуку, тебе не должно быть безразлично положение дел в нашей семье.
V
Так бывало много раз, и всегда их разговор заканчивался такой просьбой. И снова исполнил Павел обычный ритуал: отправился в узкую комнату, где на продавленном диване лицом к стене лежала молчаливая оскорбленная Татьяна Ивановна. Павел сел подле нее и принялся, как всегда, говорить о том, что дед его, Соломон Моисеевич, – великий человек, что в ссорах неправа именно бабушка, неправа в том, что резко и неуважительно разговаривает с дедом а ведь дед посвятил всего себя работе, он пишет нужную книгу, книгу, которая спасет мир. Татьяна Ивановна лежала молча и лишь спустя долгое время (время, за которое Павел успевал описать неустанный подвиг Рихтера) подала голос.
– Устала я, Пашенька.
– Ну, вы уже так долго вместе живете.
– Никак не привыкну. Он такой эгоист, такой балованный.
– Разве он эгоист? Он ведь не для себя работает – он для всех книгу пишет, – Павел попытался продолжить рассказ о парадигмальных проектах.
– Не надо, Пашенька, наслушалась я уже. Нет там у него никакого проекта, чтобы о людях близких подумать? Да что уж сейчас думать, – добавила она.
– Так ведь все это ради людей и сочиняется, ради близких и далеких. Чтобы все были свободными.
– А зачем ему быть свободным? Он и так свободен – свободней некуда. Хочет – спит, хочет – книжку пишет.
– Он для всего мира пишет! Старый немощный человек каждый день садится к столу и пишет – несмотря ни на что.
– Пишет он для своего удовольствия. И всегда так было. Паразит; как есть паразит.
– Зачем ты так.
– Всю жизнь на чужом горбу.
– Ты не имеешь права, – в запальчивости сказал Павел, – так говорить о моем деде. Мы с тобой гордиться должны, что он пишет свою книгу! И думает он о свободе каждого, а не о своей личной!
– Ох, не надо мне свободы, мне бы умереть скорее.
– Как ты можешь так говорить!
– Устала я.
Татьяна Ивановна полежала еще некоторое время молча, сухими глазами глядя в стену перед собой. Потом повернулась к Павлу:
– Сейчас я стол-то накрою, Пашенька. Будем ужинать.
– Мы с дедушкой уже чаю попили.
– Ну, еще разочек чайку попьем, я хоть на вас посмотрю. Сейчас я белье отожму, я еще с утра замочила, и потом ужин приготовлю. Он добрый, – сказала Татьяна Ивановна, – он ко всем добрый, а что жену не любит – так это, может быть, я не выслужила. Как он без меня? Пропадет ведь – он же ничего не умеет, болтает только.
Она встала и тяжелыми шагами (она всегда крепко наступала на пол, всей стопой) пошла в ванную – стирать.
– Ты не думай, – сказала она с порога, – я все добро ихнее помню. И пальто, что мне мать его дала, тоже помню. Хорошее пальто, теплое. Столько лет меня грело. Я им спасибо говорила за это пальто. А что старенькое, да моль его поела, да полы драные, так я все дырочки подшила, подштопала. Ватина за подкладку подпихнула – и ладно. Чай, на банкеты мне в нем не ходить, не барыня.
– Я куплю тебе пальто, бабушка, – сказал Павел.
– Не возьму я ничего. Никогда не была захребетницей. Они мне это пальто старенькое всучили, а я молодая была, отказаться не умела. Всю жизнь себя проклинаю, что взяла.
– Разреши мне, пожалуйста, разреши, я куплю тебе пальто, – говорил Павел, а сам думал: что ж я раньше этого не сделал?
– Зачем мне теперь пальто? Мне только на гроб потратиться осталось. Здесь, – она показала на старенький комод, – в левом ящике все отложено. Я в тряпочку завернула, такая тряпочка в цветочек, ты найдешь. На глупости не тратьте, там лишнего нет. Только-только – на гроб приличный, на веночек, и в церковь на отпевание. Все посчитала, чтобы в расходы никого не вводить. Не люблю быть обязанной.
– Бабушка, бабушка, – Павел не знал, что сказать.
– А зла на него у меня нету. Сама видела, за кого выходила. Никто не неволил.
VI
Татьяна Ивановна прошла в ванную комнату и склонилась над тазом, где с утра полоскались подштанники и рубашки Соломона Моисеевича, а Соломон Моисеевич с Павлом затворились в кабинете Рихтера. Их беседа, посвященная истории и ее кризисному состоянию, продолжилась. Соломон Моисеевич покрепче притворил дверь в кабинет, чтобы шум льющейся воды не отвлекал его от мысли, и сказал:
– Если тебе интересно, Паша, я мог бы развить некоторые тезисы по поводу возможности выхода из исторического кризиса.
– Да, – сказал Павел, – конечно, – и Рихтер охотно заговорил.
– С точки зрения Гегеля, – заметил, в частности, Соломон Моисеевич, – история – это прошлое; но возможно и такое толкование: история – это будущее! История, подлинная история, начнется после ликвидации классов, устранения национальной розни, достижения такого уровня материального производства, которое не будет стеснять свободное развитие каждого.
– Значит, – сказал Павел, – то, что происходит сейчас, то есть размывание границ между классами, передел экономики, и все остальное, – значит, это начало новой истории? Совсем не конец ее, но наоборот – только начало?
– Мы, несомненно, вошли в полосу кризиса, – Рихтер, рассуждая о катастрофах и кризисах, всегда успокаивался, и речь его делалась благостной, кризис этот связан с тем, что проект истории был испорчен и оболган в ходе социокультурной эволюции. Так уже случалось несколько раз. Посмотри на Возрождение, из которого родился капитализм. И всякий раз человеческая мысль предлагала новый проект, чтобы двинуть историю вперед. Ведь цель истории – это свобода. Да. Свобода, кхе-кхм…
– Странная вещь происходит сегодня. По видимости, происходящее сейчас не противоречит идеалам, – сказал Павел, – и это меня и смущает. Я чувствую и вижу, что происходит неправда, и ты мне говоришь, что третий парадигмальный проект так же не воплощен, как предыдущие два, все идет неверно, не так, как должно было идти, – а вместе с тем, посмотри, – даже в твоем перечислении видно, что многих целей человечество уже добилось.
– Социокультурная эволюция, – сказал Соломон Моисеевич, – несомненно, инициируется людьми, исповедующими идеалы. Поэтому ее развитие порой совпадает (или движется параллельно) развитию историческому. Однако рано или поздно интересы социокультурной эволюции оказываются доминирующими, и исторический проект выбрасывают, как вещь, которая отслужила свое. Как выбрасывают стариков, – патетически добавил Рихтер.
– И что же теперь делать?
У Соломона Моисеевича был дар выводить своего внука из равновесия. Павел был взрослым человеком; в беседах с коллегами, с искусствоведами, с Леонидом Голенищевым он держался хладнокровно и умел находить аргументы и точные слова. Но манера Соломона Моисеевича – патетическая манера ведения диалога – всегда возбуждала собеседников: словно именно сейчас надо вскочить и бежать – спасать погибающий мир. Сам же Рихтер, произнося призывы, сохранял спокойствие.
– Что ж, – безмятежно сказал Рихтер, – выход из кризиса возможен. Нет вещей, которые нельзя преодолеть. Надо сделать усилие. Требуется придумать новый, то есть четвертый, парадигмальный проект истории. Этим как раз я и занимаюсь.
Татьяна Ивановна отжала белье и развесила его на веревке, протянутой от кухонной двери через прихожую до гвоздя, вбитого в дверь книжного шкафа. Рихтер всегда морщился, когда проходил сквозь мокрые рубашки, чтобы снять с полки нужную книгу. Татьяна Ивановна занялась кухонными делами, и дед с внуком, беседуя, слышали звяканье посуды; вскоре Татьяна Ивановна позвала их пить чай.
Соломон Моисеевич пожевал губами, подумал и встал.
– Мы, кажется, уже пили чай. Что ж, пойдем пить чай еще раз. Надо побыть с бабушкой. Да, кхе-кхм, если так надо, пойдем пить чай. Беседу мы можем продолжить и за чаем.
Соломон Моисеевич был терпеливым человеком, он терпел эту странную жизнь уже шестьдесят лет подряд.
19
Не существует такого движения руки, а значит, и не существует такого мазка кисти, который был бы присущ одному определенному художнику и никакому иному. Всякий художник рано или поздно повторяет взмах кисти своего предшественника – просто потому, что возможности анатомии ограниченны и амплитуда движений довольно однообразна. Набирая на кисть краску с палитры, художник оказывается в зависимости – от тяжести кисти, от количества краски, от приемов обращения с тем и другим. Живопись, в конце концов, это физическая работа – а физическая работа не может быть бесконечно оригинальной. Так, мазок Ван Гога, при всей его непредсказуемой энергии, иногда напоминает мазки Джеймса Энсора, мазки Вламинка похожи на мазки их обоих, а движения немецких экспрессионистов повторяют всех трех сразу. То, как работал кистью Эдвард Мунк, весьма похоже на некоторые движения, совершаемые Матиссом, особенно в ранних вещах; армянский художник Сарьян повторяет их обоих. И если уж движения рук значительных мастеров бывают схожи, то что говорить о миллионах незначительных художников: механика движений у всех примерно одинаковая. Оригинальному жесту научиться почти невозможно. Более того, обучение рисованию построено на том, чтобы копировать движения великих художников, и это разумно: повторяя великое движение великой руки, начинающий художник словно пробуждает в себе те чувства, какие мог испытывать большой мастер. Просто эти чувства приходят к нему как бы иным путем: великий мастер переживал, оттого и размахивал кистью, – а тот, кто подражает ему, размахивает кистью – и оттого испытывает набор чувств. Проходит время, и трудно разобраться: в каком случае первично движение, а в каком чувство.
Такое – неизбежное – сходство движений подвигает исследователей к сравнениям и параллелям. Экспрессионисты объявлены наследниками Ван Гога прежде всего на том основании, что выкладывают на холст открытый цвет резким взмахом руки. Художники группы «Бубновый валет» будто бы наследуют Сезанну, оттого что выкладывают мазки елочкой, рисуют тень зеленой краской, а свет – розовой, и так далее.
Одновременно с феноменом неизбежных подобий в живописи существует простой закон, согласно которому художник вполне проявляет себя в самом малом фрагменте. Достаточно увидеть часть руки, написанной Рембрандтом, чтобы угадать автора. Достаточно увидеть десять квадратных сантиметров картины Ван Гога, чтобы понять, что это Ван Гог. Достаточно угла холста Эль Греко, чтобы опознать автора.
Для того чтобы научиться рисованию, следует понять, как оба закона – подобий и оригинальности – уживаются друг с другом. Почему, глядя на фрагмент картины Ван Гога, мы знаем, что это Ван Гог, а глядя на фрагмент картины экспрессиониста – невозможно определить, чьей он кисти?
Ответ прост. Дело в том, что Сезанн не знает, что у него получится, он просто старается рассказать о мире как можно точнее, а художник «Бубнового валета» – знает, что получится на холсте, и о мире рассказывать не стремится. Сезанн старается изо всех сил слепить предмет – средствами, которыми располагает, а художнику «Бубнового валета» не предмет интересен – а красивые средства, которые он использует для изображения предмета. Ван Гог пишет яростно не потому что думает, будто ярость – условие творчества, у него просто по-другому не выходит передать ветер и кипарис. А экспрессионисты используют неистовство как эстетическую ценность и знают отлично, что неряшливая поверхность – есть доказательство страсти.
Отличить оригинальное творчество от поддельного просто. Великий художник старается максимально прояснить изображение, максимально подробно рассказать о явлении – а имитатор затуманивает мир: ему важнее манера рассказа. Природу Прованса и жизнь крестьян можно точно реконструировать по холстам Сезанна и Ван Гога, но никто не воспроизведет жизнь москвичей по картинам группы «Бубновый валет» – эти картины отразили жизнь узкого круга имитаторов прекрасного, барчуков и лентяев.