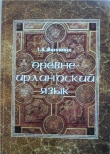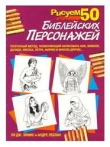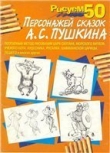Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
Зоя Тарасовна дрогнула щеками, встала, выпрямилась, и обида исказила ее красивые черты. Не произнося больше не слова, повернулась она и двинулась к дверям. А Татьяна Ивановна сказала ей вслед так:
– Совершенно напрасно ты оскорбляешься. Ты, видать, обиделась, что я о дочке твоей не сказала. Так ведь она сама уже здоровая кобыла, ей на работу пора. Конечно, Гульфик Хабибулевич ей тряпки покупает, только ведь это один разврат выходит. Ну, какая же девка вырастет на подачках? Вон, хлебницу такую отъела, что в дверь не проходит, а мозгу нет. Пусть лучше на карандашную фабрику идет, в газетах пишут, там рабочие требуются. Место хорошее, работа не вредная. Пусть девка годика три поработает, жизнь узнает. Опять-таки хорошо, ей там карандаши подешевле продадут, для учебы пригодятся.
Как ни обижена – и даже не обижена, но оскорблена до последней степени, так, что уж более и невозможно, – была Зоя Тарасовна, однако слова Татьяны Ивановны ошеломили ее и понудили остановиться, обернуться и посмотреть на безумную старуху, говорившую всю эту ахинею. Сухо и четко выговаривая слова, слегка подрагивая щеками, Зоя Тарасовна сказала, что Татьяна Ивановна позволяет себе непростительно много. Даже преклонный возраст, отсутствие городского воспитания и недостаточная начитанность не могут извинить хамства. Зоя Тарасовна давно пришла к выводу, что опускаться до уровня хама не следует. Напротив, чем более развязен и груб говорящий с тобой, тем подчеркнуто церемоннее следует ему ответить – чтобы подчеркнуть дистанцию между воспитанием и хамством. Придерживаясь этой линии поведения, Зоя Тарасовна твердо сказала, что участвовать в брани не станет и переходить на личности не намерена, это унизительно для нее. Что же касается безумного совета идти на карандашную фабрику, то воспользоваться им ее дочь, Сонечка, не сможет – она уезжает учиться в Сорбонну истории искусств и намерена этой специальностью овладеть. Что будет потом, никому неведомо, но девочка со знанием иностранных языков и общекультурным багажом легко найдет себе работу – скажем, менеджером по общественным связям в крупной компании.
Татьяна Ивановна и эту реплику не оставила без ответа. Она сказала так:
– Хочешь, чтобы дочка вся в тебя вышла? По той же дорожке пустить девку хочешь? Ну и что хорошего? Тебе еще повезло; порядочный человек тебя подобрал, хоть и пьяница. А ей-то каково будет, молодой кобыле? В голове ветер, нарядов куча, срам один. Счастья искать станет, как другие русские дуры, – вон полюбуйся: теперь на каждом перекрестке стоят.
И уж чего-чего, но оскорбления дочери Зоя Тарасовна допустить и простить не могла. Она хлопнула дверью кухни и, выкрикнув нечто сокрушительно-горькое в адрес Сергея Ильича (ибо он один, разумеется, был виновник унизительной этой сцены: он привел ее в этот дом, не оградил от сумасшедшей, пьянством своим ежечасно позорит ее жизнь), выбежала вон из квартиры Рихтера. Вскоре, застенчиво улыбаясь, распрощался и Сергей Ильич.
– Вы же понимаете, Соломон, – сказал он, влезая в рукава отцовского пиджака, – мне пора на передовую; будем держать оборону.
– Передайте Зое Тарасовне, – волнуясь, сказал Рихтер, – что мне глубоко стыдно за мою жену. Татьяна Ивановна выросла в очень простой – я бы сказал, слишком простой, – крестьянской семье. Я сам (так и передайте Зое Тарасовне) испытываю дискомфорт, когда сталкиваюсь с этой стороной нашего бытия. Почва, знаете ли, непреодолима.
Татарников поклонился и отправился вслед за женой своей, Зоей Тарасовной. Остается лишь гадать, как сложился у них последующий разговор; впрочем, угадать несложно.
Растерянный Соломон Моисеевич высказал супруге горькие упреки (Танюша, как ты могла?), помянул основные заповеди морали (не судите, да не судимы будете), принципы общежития (Татарниковы – наши добрые друзья уже много лет подряд) – и Татьяна Ивановна сказала в ответ следующее.
– Ах, так ты на ее стороне, – процедила Татьяна Ивановна презрительно. – Что же ты стоишь? Догони ее, свою зазнобу, в ножки поклонись. Бровки-то у нее выщипаны, каблучки цокают – видная женщина! Тебе такую жену надо, Соломон, а не деревенскую бабу! Скажи ей так: жена у меня мужичка, обихода барского не знает. Вы уж не серчайте, барыня, я свою жену велю на конюшню послать. Ты вывернешься, жену всегда предашь!
– Как я тебя предал, Танюша?
– Как всегда вы с матерью людей предавали – так же ты и меня предал.
– Кого же мы предали? – спросил с горечью Соломон Моисеевич.
– А всех подряд.
– Мы были искренними революционерами, людьми чести.
– Чести? – Татьяна Ивановна скривила губы, – какой такой чести? Где у твоей матери честь была? Только не под юбкой, там у нее чести не водилось! Из постели в постель перекладывалась, прошмандовка. Честь! Честь, это когда работают с утра до ночи и зарплату домой несут. Честь, это когда жену уважают. Честь, это когда делом занимаются, а не лясы до утра точат. Чести захотели! Ишь чего выдумали!
– А я делом не занимался, по-твоему?
– Каким делом? Что же ты такого сделал, Соломон Моисеевич?
– Я, – дрожащим голосом сказал Соломон Моисеевич, – мир старался понять.
– И много понял?
– Много.
– Что-то мне это понимание не пригодилось. У меня чулок незаштопанных нет! Вон, Зое Тарасовне-то как повезло: ей и первый, и второй – оба несут. Уважают. А я хвостом не вертела, а на чулки недраные – не выслужила! Хоть бы какого Гульфика Хабибулича завела – так ведь не завела! А слова доброго не дождалась! Ни от тебя, ни от матери твоей!
– Не трогай мать!
– Чего ж мне твою мать не трогать! Полное право имею. Жизнь мне искорежила, ведьма.
– Я решительно прекращаю всякие разговоры.
– Как жене родной кости перемывать, ты поговорить любишь. С дружками своими. С профессорами! Тьфу! А со мной что разговаривать! Черная кость!
– Не буду отвечать! Разговаривать не стану!
– А что же ты делать тогда станешь? – искренне изумилась Татьяна Ивановна. – Кроме как разговоры разговаривать, ты ведь и не умеешь ничего.
– А что же я уметь, по-твоему, должен?
– Я не переборчивая, мне хоть что сойдет. Чему-нибудь научись, и то ладно будет.
– Я всю жизнь учусь!
– Он всю жизнь учится! Только жену подходящую найти не сумел! Зачем мужичку в семью брать! Мать тебя плохо выучила, ведьма бессердечная!
– Моя мать умерла!
– Сдохла наконец, теперь по ночам ходит, косточки грызет.
– Как ты смеешь!
– Ты по сыну так не кручинишься, как по этой ведьме. Сыночек умер! Кровиночка! В землю зарыли, в землю холодную! Она ему душу измотала, революционерка поганая. Она и под землей его найдет, ведьма. Под землей будет косточки грызть.
– Ты с ума сошла. Ты сошла с ума.
– Пашенька один остался, так ты и его заберешь! Подучишь его, чтоб меня травить! Отдашь Пашеньку своей матери – она его тоже станет грызть. У-у, ведьма!
– Замолчи! Соседи услышат!
– Перед соседями стыдно? А перед женой не стыдно? Пусть люди слышат, пусть! Пусть знают про ведьму подлую!
Так прошла беседа Соломона Моисеевича с Татьяной Ивановной. Супруги разошлись по комнатам и остаток вечера страдали: Татьяна Ивановна улеглась лицом к стене на свой узкий продавленный диванчик, Соломон же Моисеевич сел в своем кабинете за стол и сидел без движения, охваченный глубокой печалью. Рукописи его лежали перед ним на столе, однако настроения для творчества не было. Он попробовал редактировать уже написанное, однако переживания мешали сосредоточиться. Так и сидел он, сутулясь, пока Татьяна Ивановна не позвала его ужинать; в молчании супруги съели диетический творожок и в молчании выпили отвар из ромашки.
II
На следующий день Соломон Моисеевич вызвал Павла для беседы. Татьяна Ивановна затворилась у себя, предварительно накрыв в кухне стол, а Соломон Моисеевич расположился с внуком на кухне и, прихлебывая чай, сказал внуку так:
– Ты не знаешь, как я одинок.
– Ну что ты, дедушка.
– Да, я чувствую себя совершенно одиноким.
– Мы все с тобой.
– Не надо говорить понапрасну. Зачем? Я совсем один.
– А бабушка?
– Твоя бабушка стала мне чужим человеком. Это горькая правда, и ты должен ее знать.
– Все-таки, дедушка, вы прожили вместе много лет, не могла она вдруг стать чужой.
– Ты многого не знаешь. Мы всегда были разными людьми.
– Как это грустно, дедушка.
– И теперь я живу с чужим человеком.
– Все-таки это не совсем так.
– Я считаю, что мой внук, – сказал Соломон Моисеевич значительно, – должен знать правду. Я полагаю, это мой долг – поделиться с тобой своими чувствами.
– Конечно, дедушка.
– Мы всегда были с тобой друзьями. Разве я всего лишь дед? Я прежде всего друг тебе, и, надеюсь, мы единомышленники.
– Да, конечно. Я вас с бабушкой очень люблю. Грустно видеть, как вы ссоритесь.
– Ты не представляешь, что мне приходится выносить.
– Неужели так тяжело?
– Я страдаю, – заметил Соломон Моисеевич.
– Как это печально.
– Мне следует уйти из дома. Да. Я уйду.
– Ты сошел с ума.
– Просто ставлю тебя в известность. И только. Только лишь информирую.
– Куда же ты уйдешь? Кто будет о тебе заботиться?
– Мне ничего не нужно. Я легко могу обойтись без всего.
– А как же еда, как же обед и ужин?
– Зачем? Для чего это мне?
Соломон Моисеевич равнодушно отхлебнул чаю из чашки, оставленной подле него Татьяной Ивановной. Он, в сущности, едва пригубил чай, так, словно это была последняя чашка чая в чужом для него доме и пил он ее исключительно из вежливости. Уж если налили ему здесь чай – отчего же не выпить и эту чашу? Он попробовал чай еще раз и, найдя его недостаточно сладким, добавил ложечку сахара. Потом он вспомнил про лимон и, протянув руку вперед, пошевелил пальцами – однако лимон против обыкновения не образовался в его руке: Павел не понял значения жеста. Соломон Моисеевич некоторое время подержал руку протянутой, рассеянно шевеля пальцами, затем растерянно опустил руку на стол. Забота? Кто говорит о заботе в этом доме? Видно, в самом деле, пора уходить, отряхнуть прах этого места от ног своих. Он придвинул к себе розетку с малиновым вареньем, попробовал. Варенье несколько смягчило внутреннюю горечь, но не убрало ее вовсе. Тогда он взял пастилы и откусил немного пастилы – это сочетание (малиновое варенье с пастилой) показалось ему приемлемым.
– Вероятно, я должен остаться один. Вовсе необязательно быть среди людей. Буду совершенно один. Об этом я и хотел сказать тебе, своему другу.
– Дедушка, но ведь не могу же я взять тебя к себе.
– Об этом и речи быть не может. У тебя – своя семья. Впрочем, лично я был бы рад возможности общения с тобой – моим другом и внуком. Но к чему утруждать Лизу? Я для нее чужой человек. Ненужный больной старик.
– Ты не чужой для Лизы.
– Кому нужны старики? Кто хочет о них заботиться? – саркастически сказал Соломон Моисеевич.
– Мы постараемся, дедушка.
– Не думаю, впрочем, что доставляю много хлопот. Я неприхотлив в быту. Мне абсолютно ничего не нужно, – Соломон Моисеевич ел малиновое варенье, закусывая пастилой; иногда, разнообразия ради, он макал пастилу в розетку и орудовал пастилой в варенье, словно ложкой, – единственное, чего мне не хватает, – это содержательного общения, интеллектуальных бесед. Не хватает единомышленника. С твоим отцом мы вели замечательные беседы, до тех пор, пока, кхе-кхм, пока, ну словом, пока они не прекратились.
– И я рад с тобой говорить, дедушка.
– Если бы мы жили вместе, мы могли бы говорить постоянно, каждый день.
– Конечно, дедушка.
– Что может быть выше обмена идеями?
– Ничего, дедушка.
– Разумеется, если это не в тягость Лизе. Хотя, если ей самой этого хочется, другое дело. Полагаю, у нее достаточно свободного времени?
– Не так много, дедушка. У Лизы пожилые родители, им тоже требуется внимание.
– Хм, родители, – Соломон Моисеевич помолчал, пожевал обиженно губами. Наличие Лизиных родителей им не рассматривалось в качестве серьезной помехи. – Не помню их совсем. Что они из себя представляют? Интеллигентные люди? Во внимании не нуждаются, думаю.
– Мать Лизы тяжело больна.
– Больна, вот как. Хм, значит, надо обратить на это внимание.
– Спасибо, дедушка.
– Меня это беспокоит.
– Ну что ты, дедушка.
– Меня это действительно беспокоит. И я хочу помочь.
– Как же ты можешь помочь?
– Надеюсь, что сумею помочь. Очень надеюсь на это.
– Как же, дедушка?
– Прежде всего – советом.
– Да, это важно.
– Надо обратиться к врачу.
– Обязательно.
– Я говорю серьезно и хочу, чтобы к моим словам внимательно прислушались: надо обратиться к врачу.
– Мы так и поступим.
– Ни в коем случае не откладывайте!
Соломон Моисеевич посмотрел выразительно и скорбно сжал губы; я со своей стороны сделал все, что можно было сделать в такой ситуации, говорил его взгляд. Надеюсь, и вы сумеете исполнить свой долг так, как сделал это я.
– Да, – заметил Рихтер, – рано или поздно, но быт и социальные отношения засасывают человека. Человек делается рабом обстоятельств. Именно таким образом, – подытожил ученый, – социокультурная эволюция и берет реванш у истории.
Подобно многим ученым, Рихтер, изобретя одно полноценное объяснение мироздания, пользовался им всегда. Все хорошие и осмысленные вещи он относил к разряду явлений исторических, а все вещи плохие и бессмысленные – проходили по разряду явлений социокультурной эволюции, то есть событий, не оплодотворенных разумом. Семейные хлопоты, проклятый быт, материальное неблагополучие – все это Рихтер презирал как помехи главной цели: свободе человечества. По традиции, Павлу следовало поддержать деда и сказать: «Как верно! И я трачу много времени впустую; осточертела семья». То была бы реплика философа, стоящего над миром. И Павел изготовился сказать искомую фразу. Лизина любовь тяготила его. Однако стыдился Павел самого себя, того, что не умеет добром платить за добро. Однажды он подслушал разговор Лизы с подругой, в котором Лиза произнесла фразу: «Мне не в чем себя упрекнуть». Эти слова всякий раз всплывали в его сознании – он-то знал, что ему есть в чем себя упрекать. Павел решил, что нет нужды соглашаться с дедом.
– Есть просто человеческие отношения, – сказал Павел, – обыкновенные отношения. Разве их обязательно приписывать то к историческим явлениям, то к социокультурным?
– Я привык всему давать имена, – высокомерно ответил старик, – и даже если я этого делать не стану, – и тут он вдруг засмеялся, – то имена у вещей все равно будут, просто имена не названные. Ошибочно думать, что Маркс выдумал борьбу классов – он просто назвал вещь ее именем, а борьба была и без него. Люди думают спрятаться от смысла истории за вещами и заботами – но история их все равно там найдет. А я – я прятаться не стану. Я останусь один. Я готов к одиночеству, – последняя пастилка, обмазанная малиновым вареньем, исчезла у Рихтера во рту; пережевывая ее, он продолжал: – Мне досадно лишь, – сказал Соломон Моисеевич, – что я не смогу делиться с тобой мыслями. Хотя, наверное, тебе неинтересны мои идеи. Что ж, возможно, в них и нет ничего особенного.
– Это не так, – сказал Павел. Он жил идеями деда и тем, что когда-то рассказывал ему об этих идеях его отец. Невозможно быть членом семейства Рихтеров и не знать о парадигмальных проектах истории. Уже много лет старик Рихтер вынашивал теорию, призванную изменить мир. На бумагу было перенесено немногое, но пророку и не требуется записывать проповеди – найдутся и другие, чтобы сделать это. Соломон Моисеевич раскрывался более всего в разговоре, и Павел привык уподоблять своего деда Сократу. Подобно греческому мудрецу Рихтер охотнее обсуждал свои взгляды с учениками, нежели предавал их бумаге. Спору нет, некоторые черты характера двух философов рознились совершенно, так, например, если доверять свидетельству Ксенофонта, Сократ был равнодушен к сладкому, – но ведь не составляет же десерт столь существенной компонент в анализе личности? Соломон Моисеевич был равнодушен к столь многому в этом мире, что слабость к десерту лишь умиляла Павла. Сократ, думал он, глядя на выпуклый лоб, завитки седых волос, самый настоящий Сократ. Дальше в сравнении этом он не заходил, однако стоит произнести про себя имя «Сократ», как невольно вспоминаешь и имя его жены, также ставшее нарицательным.
– Я мог бы поделиться с тобой кое-какими соображениями.
Соломон Моисеевич как раз покончил и с чаем, и с пастилой, да и варенья оставалось совсем уже немного, он расположен был к интеллектуальной беседе. Странное дело, но и горечь его отношений с Татьяной Ивановной, неизбывная горечь, отравлявшая все его существо еще минуту назад, несколько утихла. Видимо, оттого, что, пересказывая горести и печали, Соломон Моисеевич избавился от душевного напряжения, настроение его заметно улучшилось. Он охотно поделился с любимым внуком своими соображениями.
– Знаешь, в какое время мы сейчас живем? – задал он риторический вопрос; ответ был у самого Рихтера уже наготове, более того, ответ этот и Павел уже выучил наизусть. – Мы живем сейчас в эпоху кризиса третьего парадигмального проекта всемирной истории. Если, конечно, тебе интересна эта тема.
III
Любой неподготовленный к таким беседам человек ахнул бы и растерялся. Где-где, простите, живем? Не в доме, не в городе, а в кризисе парадигмального проекта? Что такое парадигмальный проект? Почему третий? Есть ли вообще проекты у всемирной истории? А если они есть, то, как говаривал один из друзей Винни Пуха, то зачем? Хорошо, что Сергей Ильич Татарников этих слов о проектах не слышит, то-то он бы разозлился. Впрочем, как Татарников, так и все решительно, знавшие старого Рихтера, давно привыкли к таким речам. Павел же, слышавший с детства про «пространственно-временной континуум» и «парадигмальные проекты», удивления никакого не выказал.
Собственно говоря, Соломон Моисеевич излагал свою теорию членам семьи регулярно; на домашних ужинах, во время полуденной прогулки вокруг дома, за чаепитиями домашние его принуждены были выслушивать монологи старого Рихтера, посвященные динамике исторического развития общества. Стоило разговору зайти о чем-нибудь ином, помимо общих вопросов, Рихтер начинал томиться и скучать. Как, вы говорите о кухне (зарплате, отдыхе, погоде), в то время как могли бы слушать положения моей теории, – вот что читалось на его обиженном лице. Домашние замолкали, а Соломон Моисеевич из любой беседы неуклонно сворачивал к занимающему его предмету. Даже Татьяна Ивановна, свирепея от нелепой терминологии и предпочитая слова понятные и простые, успела выучить этот набор слов – набор слов, который Соломону Моисеевичу представлялся чрезвычайно простым и ясным.
Соломон Моисеевич строил свою теорию на несовпадении того, что происходит и происходило, и того, что должно было бы произойти; иными словами, его теория строилась на параллельном существовании двух историй: одной, воплощенной в события и факты, и другой, воплощенной в идеи и произведения интеллекта. Вторую историю (т. е. историю духа) он именовал собственно историей, а первую (т. е. историю фактическую) называл «процессом социокультурной эволюции». По Рихтеру, процесс социокультурной эволюции порой совпадал, но чаще не совпадал с историей. Поступательное во времени движение обоих процессов Рихтер именовал двойной спиралью истории и сравнивал со спиралью ДНК. Развиваясь одновременно и параллельно, оба эти процесса (по Рихтеру) и делали нашу жизнь тем, что она есть. История придавала социокультурной эволюции смысл и цель, история готовила для социокультурной эволюции планы и чертежи развития, а социокультурная эволюция то следовала в соответствии с замыслом истории, то не следовала. Такой исторический замысел, который социокультурная эволюция либо осуществляла, либо предавала, Рихтер именовал парадигмальным проектом истории. Соломон Моисеевич обозначал три таких проекта.
Три последовательных парадигмальных проекта истории размещались им в хронологической последовательности так: религиозный, эстетический, научный. Действительное течение событий приводило к тому, что каждый из поименованных проектов оказывался исчерпан и предан забвению – и тогда появлялся следующий. Сейчас, если верить Соломону Моисеевичу, исчерпанным оказался третий парадигмальный проект, то есть научный.
Когда Соломон Моисеевич излагал эту «историософию проектизма», как он ее сам обозначал, своему другу Сергею Ильичу Татарникову, тот обычно морщился и уклонялся от обсуждения. Однако стоило ученым войти в детальное обсуждение каждого из предлагаемых эпизодов (по Рихтеру, парадигмальных проектов, а согласно Татарникову, просто исторических эпох), и они находили много общего в оценках и во многом даже – редкая вещь – соглашались.
Так, первым парадигмальным проектом Соломон Моисеевич считал христианство, вторым проектом – Ренессанс, третьим проектом, соответственно, марксизм, и Сергей Ильич относился к данному делению скептически. Однако едва друзья начинали обсуждать закат ренессансной эстетики или средневековый кризис христианской доктрины, то есть переходили к детальному разбору событий, как у них обнаруживались сходные аргументы. Трудно было не согласиться с положением, что человечество время от времени оказывалось в состоянии кризиса. Они оба не уставали приводить примеры того, как события подменяли планы печальной реальностью и сводили на нет прекрасные намерения философов и пророков. Они оба называли места и даты, где и когда очередной раз то, что Рихтер называл социокультурной эволюцией, нанесло удар по истории. Что с того, что Татарников именовал историей и то и другое – т. е. и намерения, и последствия? От этого набор фактов не менялся. Они поминали и альбигойский крестовый поход, и чуму, и соборы, расколовшие Церковь, и Лютера, в крестьянском прагматизме своем оспорившего идеальные планы Эразма, и инквизицию, и истовую страсть Джироламо Савонаролы, бросившего вызов красоте ради веры и сгоревшего в том же огне, которому обрек он живопись.
Расхождения в деталях (а уж о концепции и говорить не приходится) возникали тогда, когда они переходили к третьему парадигмальному проекту – к марксизму. Касательно марксизма, и теории его, и практики, Сергей Ильич отзывался крайне презрительно, и Маркса обыкновенно именовал уничижительно – «экономистом».
– Какой он экономист! – вскипал Рихтер. – Ошибка это, заблуждение! Он учитель жизни! Пророк! Разве к экономике сводится его учение?
– Экономический пророк, экая безрадостная, нелюбопытная роль, – говорил в ответ Татарников. – Экономист – и причем, как показала жизнь, не шибко компетентный. Все, что напророчил, – сбылось наоборот. Или так и задумано было?
– Что это, по-вашему, – патетически восклицал Рихтер, указывая на свою любимую книжную полку, где рядом составлены были те книги, кои он полагал пророческими, содержащими планы развития человечества: Библию, Рабле, «Капитал» Маркса, – что это такое, как вы считаете?
– Вот это? – поднимал глаза историк, – это, если мне не изменяет зрение, Библия, роман провансальского аптекаря, который я очень любил в юности, а также провокационное сочинение провинциального еврейского экономиста, – говорил он так, чтобы поддразнить своего пылкого друга.
– Ах так! И вы не признаете достоинств этого сочинения! – и Рихтер вытаскивал с полки все три тома «Капитала» и выкладывал их стопкой на столе. Не признаете их пророческого значения?!
– Отчего же не признаю достоинств. Определенные достоинства признаю. По мне, так это отличный детектив, и, как всякий хороший исторический детектив, он без конца. Такие детективы – с интригующим началом, но без развязки – порой история нам подбрасывает. На то мы и получаем историческое образование, чтобы суметь додумать последние главы. А тут ведь целый том автором не дописан! Были подобные прецеденты в литературе – не дописывал писатель свой детектив нарочно, чтобы читатель поломал голову. Помните «Тайну Эдвина Друда»? И здесь абсолютно то же самое. Введены в действие герои – и на тебе! Исчезают на самом интересном месте. И Теодор Моммзен, если помните, четвертый том пропустил в «Истории Рима» – додумайте сами, если можете. Да ведь и ваш любимый Рабле, если не ошибаюсь, свой роман не закончил. А здесь экономическое пророчество – но по тем же детективным законам написанное. Угодно детектив именовать проектом – тогда не смею спорить. А по мне, так любой детектив нуждается в разгадке.
– Детектив?! – хуже оскорбить Рихтера было невозможно.
– Ну, разумеется, детектив. Вы сами посмотрите, что с главными героями происходит? Где товар? Куда он из современной жизни исчез? Где пролетариат? Вы мне, историку, объясните, куда он, хитрец, спрятался? Я последней страницы жду не дождусь, когда они все опять появятся, и я наконец-то узнаю разгадку: кто убийца пролетариата, куда исчезает прибавочная стоимость и почему капитал перестал быть двигателем истории.
– Это не про деньги написано, – устало говорил Рихтер, – нельзя так трактовать буквально. Это написано про новую цель истории, про новый отсчет времени. Ведь это же после Гегеля сказано и вопреки Гегелю. Тот утверждает, что история кончилась, а Маркс говорит, что она именно с этого самого пункта и начинается. Вот в чем сила!
– Так разве это не блестящий детективный прием? – и Татарников улыбался своими водянистыми глазками. – Разве это не лучшее средство завлечь читателя? Мол, не думайте, что в предыдущей серии поймали настоящего злодея! Впереди еще двадцать пять серий, еще кровавее! Вы, простаки, полагали, что мировой дух познал себя, ан нет. Не выгорело дельце. Только мне читателя жалко. Во-первых, его обманули и последней серии не показали. А во-вторых, слишком дорого ему встало это дополнительное чтение. Я историк, Соломон. Дайте мне предмет – любой предмет, и я расскажу вам, из какой он эпохи и что из себя эпоха представляет. Знаете, чем времена Хрущева отличались от времен сталинских? Тем, что из хозяйства исчезла супница: суп из кастрюлек стали сразу наливать в тарелки. Прислуга исчезла, вот и некому стало на кухне переливать суп в супницу, нести в столовую и разливать половником по тарелкам. Во времена Сталина в семьях еще сохранялись домработницы, а вот Хрущев наконец построил качественно новое общество, где супницы стали не нужны. И такая деталь всегда найдется – это и есть ответ на любой парадигмальный прожект! Я поверю, что «капитал» – это не детектив, если вы мне скажете, куда делись пять миллиардов долларов, переведенных Международным валютным фондом на стабилизацию демократии нашей страны. Объясните, куда они делись, эти капиталы, – и я поверю во все остальное, в любой парадигмальный проект.
– При чем здесь ваши аферы! – крикнул Рихтер во весь голос. – Мало ли крадут!
– Нет, это не афера. Это – движение капитала, просто диковинное движение, и мне как историку достаточно этого отрезка пути, чтобы увидеть весь процесс. Их украли, эти пять миллиардов, объясните мне, или не украли? Если да, то почему не нашли вора? Почему замолчали и не говорят больше про эту кражу? Это ведь кража века, не так ли? Или – тысячелетия? Испанский золотой запас, который присвоила Россия в тридцать седьмом, был в сотни раз меньше – и его без конца искали. Почему же этот капитал не ищут? Пять миллиардов, это не три рубля, даже не триста миллионов, их в чулок не засунешь, в офшор не спрячешь. К тому же денег как таковых теперь в обращении не бывает – их же не везли в чемоданах, их из ведомости в ведомость перегоняли. И украсть их люберецкий или техасский бандит не мог, верно? Как такой бандюга в правительственные бумаги залезет? Их брало правительство, а как же иначе? А правительство может брать только на государственные нужды, верно? На строительство дачи ведь столько не возьмешь? И не может быть столько посвященных в эту кражу, чтобы распределить краденое поровну и свести к скромным цифрам – сколько народу знало? Пять человек? По миллиарду, что ли, брали? Не верю. Или – сто? Тогда это уже государственное предприятие. Даже ничтожное испанское золото брали на государственные нужды и тратили на оборону – верно? Так объясните мне, историку, где этот капитал, данный на стабилизацию России? И куда сегодня этот капитал двигает историю – ведь капиталу положено двигать историю? Ответьте мне на простой – фактический – вопрос не может ли быть так, что цель трансакции достигнута, и искомая стабильность получена, а потому и денег не ищут? А если так, то какую же роль сыграл капитал? Может быть, не в деньгах счастье? И тем самым, не в товарном фетишизме, который деньги символизировали? И вот про это у Маркса нет ни единого слова. Мне кажется, это пропущенный том.
– Как можно, Сергей, – возразил ему Рихтер, – опускаться до того, чтобы идею – идею! – унижать разговором о чемоданах ворованных денег? Оттого, что страна говорит на языке порочных развратных людей, – от этого мы разве должны переходить на подобный жаргон?
– Вам про цифры беседовать скучно? Но вы сами сказали, что генеральный план развития истории (парадигмальный прожект, по-вашему) – научного характера. А если характер научный, так ответьте мне на скучные вопросы с цифрами в руках, будьте любезны.
– Я не могу ответить вам на языке цифр, – честно сказал Рихтер, – я никогда не интересовался цифрами. Потребности не было.
– Странная для марксиста черта, – вставил Татарников.
– Я не интересовался цифрами, поскольку интересовался общим замыслом исторического проекта. И общий замысел истории заключался как раз в преодолении узких материальных потребностей человечества, в том, чтобы не зависеть от быта! Научный проект в том и заключается, чтобы средствами постижения экономики – преодолеть экономику! А случилось наоборот – идею задушили корыстолюбием. Религиозный проект оказался в зависимости от Церкви, эстетический проект – оказался в зависимости от абсолютистских монархий, а научный был использован трестами и концернами. Маркс придумал свой проект для того, чтобы исходя из реальности – из той реальности, которую являла социокультурная эволюция на тот момент – и на языке этой реальности (вот что важно: средствами реальности и на языке реальности!) высказать идеи, эту реальность превосходящие. Он не мог игнорировать перемены, но стремился к иной цели, не цели эволюционного порядка – но к исторической цели! И цель (цель Маркса, цель Рабле, цель Христа) у истории всегда была одна – свобода. Для этой высокой цели человечество старалось использовать и религиозный проект, и эстетический, и научный. Но наука не являлась самоцелью – нет! Целью истории является восхождение от природной и социальной зависимости – к личной свободе! Да! К духовной самореализации!
– Так ведь уже взошли, Соломон! Уже реализовались! Уже и науку преодолели. Вот что меня смущает, Соломон. Ни золотого стандарта уже не осталось, ни Бреттон-Вудского, все кончилось – баста! Преодолевать нечего.