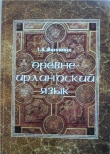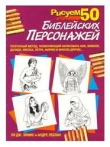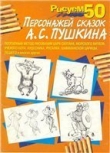Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
Виктор же Чириков, неуемный шутник, переиначивая цветаевские строфы, разразился следующими виршами:
Строй новый построен, да старого вроде:
Револьвер на взводе, урод на уроде.
А ты на безрыбье и сам встанешь раком:
Тут не обойдешься одним Пастернаком.
Когда он на редакционной летучке зачел это четверостишие, в комнате повисло молчание. Помимо того, что смысл стиха был смутен (впрочем, что ж упрекать в смутности Чирикова? А ранний Пастернак? А Мандельштам? Что, такие уж, прямо, ясные?), помимо этого проглядывали намеки на склонность известного русского барда к содомии, что явно не соответствовало действительности (и молоденькие журналисточки в задних рядах зашушукались: позвольте, а Ивинская как же, а первая жена? А вторая? А может, он с Нейгаузом? – брякнул кто-то, и пошло, и пошло), и, что самое главное, в стихе содержалась явная критика существующего строя, чего от боязливого главреда никто не ожидал. Мало того, он и сам от себя этого не ожидал и, прочитав четверостишие, смешался и побелел. Так уж устроено творчество, что подчас оно само выводит творца на некие формулировки, им самим не до конца осмысленные. Природу стихосложения удачно объяснил в свое время английский поэт медвежонок Винни Пух: надо позволять словам вставать там, где им хочется, и они сами найдут для себя нужное место. По всей видимости, Чириков руководствовался именно этим принципом, но совершенно не представлял, сколь далеко такой подход к делу его заведет. Легко было плюшевому поэту в Сассексе писать неподцензурные шумелки, а вы попробуйте в России применить тот же метод: греха не оберетесь. Чириков и не гадал сам, что ляпнет. Теперь же, произнеся эти роковые вирши при свидетелях, он почувствовал, как властно они меняют его судьбу. В самом деле, если отнестись к строчкам внимательно, то в них не скабрезность видна, но, напротив – трагическое предчувствие собственной судьбы. Да, недостаточно российскому Молоху Бориса Леонидовича, благополучно сжитого со свету полвека назад, далеко не достаточно. Стихи прямо говорят, что в отсутствие Пастернака сгодится любой, кто осмелится возвысить свой голос, тот же Чириков, например. На интеллектуальном безрыбье – так поэт трактует нашу с вами действительность – любой, кто осмелится заявить о своем несогласии с режимом, становится жертвой или, употребляя метафору поэта, встает раком. Конечно, современная Россия допускала критику, но критику России вчерашней. Чего только про Сталина ругательного не понаписали – ахнешь! И рябой он, видите ли, и сухорукий. И строй его – палаческий, и прочее нелицеприятное в том же духе. А сказать в лицо существующему строю, что он не лучше прошлого, а такое же точно бесправное безличное образование – вполне ли это безопасно? С одной стороны, как будто бы все новой властью дозволено: хочешь – матом ругайся, хочешь – крась волосы в оранжевый колер, хочешь – открывай клуб анархистов. Все так, но это до той поры, пока власть не чувствует опасности. Но вот замахнуться на ее основы – рисковал ли кто? И неожиданно Виктор Чириков понял, что этот смельчак – именно он. Чириков попробовал смягчить ситуацию, зачитав еще парочку своих верлибров, однако это не помогло. Стихи не забылись: уже назавтра их цитировали знакомым, а по прошествии трех дней Алина Багратион сказала зашедшему к ней на чай Диме Кротову: «В отсутствие поэта Пастернака, Димочка, позвольте мне…» и приняла соответствующую позу. Свободолюбиво настроенные молодые люди (а такие всегда имеются) стали к месту и не к месту цитировать вторую строчку стиха, и можно было бы даже сказать, что к Чирикову пришла слава, да только кому нужна такая слава? Прознали про опус и те, кому всегда подобные вещи знать следует, прознали – и сделали выводы. Прямо не было предпринято ничего, но атмосфера в редакции стала гнетущей.
И удивляться этой опале – пусть неявной, но опале – не приходилось.
Не было ничего удивительного и в том, что любое намерение (Виктора Чирикова, баскских сепаратистов, сербских националистов, Павла Рихтера или народности тутси в Руанде) испортить общую благостную картину прогрессивного общества – немедленно встречало отпор; и отпор этот был прежде всего со стороны интеллектуалов.
XII
Стоило Павлу прилюдно объявить о своем намерении возродить пластическое искусство, как его тут же сочли приверженцем тоталитаризма, буржуазности, и он стал неприятен просвещенной компании.
– Почему так, – раздраженно спрашивал Павел у Леонида Голенищева, – почему они говорят, что картины неактуальны?
– Это говорят не они, – отвечал Леонид, – это говорит время.
– Неправда! Это говорят они, вот они, те самые, которые аплодируют Снустикову-Гарбо. Неужели, скажи мне, неужели Снустиков-Гарбо актуален, а картины, которые показали бы нашу жизнь, нет? Или он воплощает нашу жизнь – этот недоумок-трансвестит?
Леонид лишь улыбался – ответ был и без того понятен. Во всех уважающих себя музеях и прогрессивных картинных галереях давно экспонировали произведения, относящиеся скорее к декоративно-прикладному, нежели к станковому искусству, – и происходило это не случайно. Со стен музеев глядели на зрителей экраны телевизоров, в которых демонстрировали видеоарт – т. е. мелькающие кадры; новые мастера устраивали комичные перформансы и клоунады; другие показывали инсталляции – т. е. забавные сооружения, которые собирали к выставке и разбирали сразу же после; на холстах пятна, кляксы, полоски и точки заменили фигуративную живопись. Требовалось общими усилиями создать то, что иной поэт определил бы как шум времени, иной обыватель – как суету, а здравый наблюдатель – просто как декорацию. Могло показаться странным, что общество нарочно инициирует своих граждан принять участие в создании шума и трескотни – вместо того чтобы посоветовать им писать романы и сидеть в тихих библиотеках; могло показаться странным, что нынче от интеллигента требовалось скорее шутить и плясать, чем думать и читать, – но что с того? Произошло это оттого, что просвещенное общество предпочло видеть в своих художниках не проповедников, но декораторов и разве в этом можно его упрекнуть? Обязанности художника менее легкими не стали – далеко не просто произвести ремонт в доме и не нарушить его основные конструкции, миссия ответственная. Именно интеллектуалам доверила христианская цивилизация выполнить декорации и украсить свой триумф. Интеллигенция ревниво отнеслась к своим обязанностям – и манкировать ими не собиралась. Именно она стала в современном мире двигателем истории. В отсутствие рабочего класса (каковой постепенно растворился – превратившись отчасти в начальство, отчасти в интеллигенцию) интеллигенция стала наиболее последовательным выразителем интересов третьего сословия. Разумеется, интеллигенция должна была настоять на том типе творчества, который выражает общественные интересы. У всякого строя, у всякой эпохи есть излюбленный жанр: диктатуры предпочитают монументальное искусство, монархии любят станковую картину, просвещенная демократия выбрала дизайн.
XIII
Просвещенное человечество выбрало именно дизайн в качестве лекарства от бед сразу же после войны, той тяжкой войны, что разрушила все дотоле имевшееся. На руины соборов и музеев, на пустыри, возникшие на месте разбомбленных кварталов, на суглинки братских могил христианский мир призвал дизайнеров. И они пришли – ловкие, уверенные в себе люди. И человечество впервые в двадцатом веке вздохнуло свободно: наконец-то вместо лозунгов двадцатых и строительства тридцатых, вместо пионерства и конструктивизма – наконец-то пришли мастера, которые просто хотят декорировать и украшать, но совсем не строить. Не надо их бояться – эти не обидят, не напугают: они только украсят. Спору нет, дом старого христианского мира пришел в негодность – но ведь не значит же это, что его непременно надобно сломать? Вот, попробовали, сломали – хорошо ли? Что вам как домовладельцу понравится: если ваш домик будут ломать и перестраивать или если просто визуально увеличат его объем за счет удачного размещения зеркал, цвета обоев, игры света? Подкрасят там, подлатают здесь – и на наш век хватит, краше прежнего смотреться будет. Беда, коли художник принимается строить, он того и гляди построит что-нибудь страшное; так уж задумано искусство, что оно связано с утверждением – а из утверждения сами знаете, что выходит. Скажет этакий художник нечто директивное, а потом, глядь, и права у среднего класса ущемят. Бывает такое? Еще как бывает, даром, что ли, Гитлер с Черчиллем были художниками, а Сталин с Мао Цзэдуном поэтами?
Человечество в конце концов должно было набраться смелости и сказать себе: художник опасен. Да, тяга к прекрасному существует, она неистребима в данной популяции, ничего не сделаешь, но необходимо эту потребность удовлетворить без существенных потерь. Христианской цивилизации (и лучшие умы это поняли) в состоянии ее наивысшего расцвета, в состоянии акмэ, – искусство может только навредить. Искусство, к сожалению, устроено так, что существует по автономным законам, не связанным с цивилизацией. И если спросить здраво: что больше пользы приносит людям – искусство или цивилизация, то ответить будет затруднительно. Хорошо бы сразу и то и другое, но не получается. Развитие искусства, последовательность художника вовсе не непременно предполагают заботу об общественном благе. Некогда на это обратил внимание Платон, и парадоксальным образом современное открытое общество (разглядев в Платоне своего врага) повторило его тезис. Совершенно безразлично, каково общество – закрытое оно или открытое, важно другое: баланс общественных институций разрушается искусством, и граждане должны спросить себя – а хотят ли они этого? Может быть, в некоем тоталитарном государстве, где человек угнетает человека, и нечего заботиться о сохранении положения вещей – вот пусть искусство там и витийствует и расшатывает фундамент казармы. А в просвещенном демократическом либеральном обществе нужно ли это? И дилемма, стоящая перед человечеством, выглядела весьма просто: что предпочесть – гармонию в отношениях производителей и потребителей, богатых и менее богатых, установившееся равновесие этносов, экономик классов – или очередную, пусть яркую, декларацию и новый развал, новый беспорядок? Никто не собирался отменить искусство вовсе (как не собирался делать это и Платон), цивилизации для самосохранения достаточно отодвинуть искусство в прошлое, постановить, что оно находится в компетенции историков искусства и музейных хранителей. И это вовсе не значит, что гражданин открытого общества будет лишен прекрасного – прекрасным в совершенной цивилизации является дизайн. И, кстати, никому не возбраняется именовать дизайн искусством и декораторов художниками. Называем же мы Энди Ворхола – художником? И что же, разве кому-то от этого плохо?
Всякая желающая продлить час торжества цивилизация нуждается в подмене искусства дизайном. Именно дизайном явился эллинизм, дизайнеры проектировали пирамиды, дизайнеры декорируют сегодня выставочные павильоны и интерьеры вилл, дизайнеры придумали новую глобальную политику.
Если рассуждать в терминах искусства, никогда не понять, почему сотни миллиардов можно истратить на войну, вместо того чтобы истратить их же на постройку домов, госпиталей и школ в Африке. Кажется, для чего превращать в руины города, если целью является построение демократического развитого общества? Если те же – огромные – деньги употребить на строительство, не будет ли это эффективнее? Спрашивать это столь же наивно, как наивно интересоваться у Сая Твомбли, почему он не пишет картин, как Брейгель или Рембрандт, – неужели не хочет? Вопрошающему должно быть ясно, что у общества дизайнеров (представителями которого являются Твомбли и те генералы, что бомбят города) иные задачи, но никак не строительные. Зачем ремонтировать стену, если можно повесить красивый плакат? Зачем забивать голову африканскими бедами, зачем обращать на черномазых внимание, если можно так устроить мировое пространство, что Африка будет не особенно заметной? Зачем строительство – если есть декорация?
Картина не нужна более; это следует понять раз и навсегда. Нужна – рама.
XIV
И всякому молодому человеку, еще питающемуся иллюзиями, придется убедиться в этом, как, например, пришлось убедиться в этом Соне Татарниковой. Шли экзамены в художественный институт, Сонечка Татарникова принесла рисунки на просмотр. Рисовала она неважно, но справедливости ради следует отметить, что члены комиссии сами и вовсе не умели рисовать. Впрочем, они не умели рисовать сознательно и даже принципиально. Сонечка попросту не дошла еще в своем образовании до результата, но самый результат уже был отменен за ненадобностью. Если абитуриент, поступая в художественное училище, выражал желание рисовать, были все основания заподозрить в нем провинциала. Впрочем, на то и существуют высшие учебные заведения, чтобы внедрять прогресс в самые отсталые мозги.
Просмотром командовал Осип Стремовский, он сидел в аудитории, положив одну полную ляжку на другую, курил трубку и значительно смотрел сквозь узкие стеклышки очков. То, что он курил и пускал колечки дыма в аудитории, было либерализмом, приметой новой волны. Девочка протянула Стремовскому рисунок, и тому надо было бы указать на ошибки. В былые годы преподаватели рисования так и делали: показывали ученику, где он допустил промах. Робкий Сонечкин рисунок изображал ее маму – Зою Тарасовну – красивую женщину; всякий ребенок любит рисовать маму, и как же было не изобразить Зою Тарасовну – женщину бесспорно привлекательную? Стремовский придирчиво оглядел облик Зои Татарниковой, запечатленный карандашом на бумаге. Длинные волосы, круглые щеки, глаза с ресницами. Почем он знал, где тут ошибки? Рисунок и рисунок.
– Скажи, ты каких художников любишь?
– Репина, Сурикова, – сказала Сонечка, теряя надежду на поступление.
Стремовский помедлил, нанося удар; ему ничего не стоило уничтожить абитуриентку, сровнять с землей, но он хотел, чтобы она поняла, научилась. Мастер хотел преподать урок.
– Понятно… Н-да… Сама видишь. Ну, какие теперь репины, какие суриковы… теперь время такое, что надо глядеть сквозь рисунок. Понимаешь?
Преподаватель прикрыл глаза, устремив внутренний взор в такие дали, какие абитуриентке и постичь было затруднительно, и девочка тихонько забрала опозоренный рисунок. Ей было стыдно.
– А вы кого любите? – пискнула она.
– Энди Ворхола! – веско сказал учитель.
Что тут было сказать? Ничего она не знает, не так живет, не тем дышит. Есть ли еще надежда, неясно.
– А он что нарисовал? Скажите, что он нарисовал?
– Суп Кемпбелл.
– Суп?
– Да, суп.
В слезах выбежала Соня на улицу. Тем же вечером она рассказала о случившемся Тофику Левкоеву, навестив своего отца в отдельном кабинете ресторана «Ностальжи».
– Что они, совсем оборзели? – осведомился Тофик и даже куриное крылышко отложил. – Кто? Стремовский? Суп, говоришь? – брови Тофика сдвинулись. – Я из него самого суп сварю, – глаза Тофика обшаривали стол, он прикидывал, какие ингредиенты добавить в бульон к Стремовскому. – Ах, так ты под фамилией Татарникова поступала. Ну, пусть спасибо скажет Стремовский Сергею Ильичу Татарникову – пронесло его сегодня. Расфасовал бы его по консервам. Надо будет позвонить министру. А еще лучше, наплюй на этих хамов. В Сорбонне надо учиться. Место известное, район приятный, я там часто сижу в ресторане «Навигатор». Приличное, я тебе скажу, место: не здешним тошниловкам чета – и дизайн, и кухня, все на уровне. А здесь? Тьфу! И Левкоев плюнул на пол.
18
Когда художник компонует цвета, он каждому цвету назначает роль. Одному цвету достается много пространства, другому места отведено мало, а третий лишь едва обозначен – словно эпизодический персонаж романа. Однако в том случае, если картину писал хороший художник – а только такие случаи интересны, – ни одна из ролей не лишняя. Рано или поздно случится так, что цвет, точно оброненный с кисти в углу картины, напомнит о себе требовательно и властно. Но до той поры, как это произойдет, он пребывает в забвении. Так, в картине Эль Греко «Снятие одежд с Христа» главная роль принадлежит красному цвету одежды, которую срывают с Иисуса стражники. Серые стальные доспехи служат красному превосходным контрастом и оттеняют его; рваное эльгрековское небо дает возможность бурым, коричневым и синим мелькнуть и пропасть; охрой и тоскливым розовым тронуты лица стражников. Зритель не в состоянии запомнить эти неглавные цвета, заставь его припомнить, какой мазок тронул щеку стражника второго плана, – и он не сможет. Создается впечатление, что и сами цвета плохо помнят о существовании других: разве может могучий красный вспомнить о своем тусклом соседе?
Для того чтобы цвета вспомнили друг о друге, в картине имеется специальное место, где все цвета, используемые в картине, по необходимости встречаются.
Подобно тому как горизонт в картине является точкой схода всех движений, и любой, самый неожиданный ракурс стремится к горизонту так и для каждого цвета в картине имеется точка схода, то есть такое место, где все цвета (и главные, и второстепенные, и контрасты, и подобия) встречаются – причем на равных условиях.
Это место – точку схода всех цветов картины, соблазнительно определить как контрапункт, однако это не контрапункт. Как и горизонт, это место в картине лишено патетики – то есть свойства, по определению контрапункту необходимого. Например, в картине Эль Греко контрапунктом является красная одежда, в картине Гойи «Расстрел 3 мая» контрапункт – это фигура повстанца с раскинутыми руками. Можно с легкостью обозначить контрапункт во всех великих картинах: он необязательно связан с цветовым аккордом, но обязательно с эмоциональной концентрацией: в «Падении Икара» это нога утопающего, в «Заговоре Юлия Цивилиса» – скрещенные мечи, в «Блудном сыне» – руки отца, а в «Битве при Сан-Романо» – лес разноцветных копий. Ни линию горизонта (т. е. точку схода усилий рисовальщика), ни место встречи цветов картины (т. е. точку схода усилий живописца) контрапунктами не назовешь – контрапункт есть нечто, что возникает нежданно, как вспышка, – а эти понятия даны раз и навсегда, они неизменны, и в этом их значение.
Местом, где все основные цвета картины встречаются друг с другом, точкой схода всех колористических усилий художника – является глаз персонажа картины. Глаз (по анатомическим своим данным в том числе, просто потому, что в нем много подробностей и деталей) по необходимости собирает все имеющиеся у колориста ресурсы. Надо нарисовать радужную оболочку, черный зрачок и белый белок; надо найти цвет для ресниц и века; надо обозначить красно-розовый слезный мешочек во внутреннем углу глаза и голубую тень, лежащую в углублении глазной впадины; надо найти цвет для подглазных мешков и для морщин у внешнего угла глаза. Всего вышеперечисленного достаточно для самой богатой палитры. Красные и зеленые, щедро разбросанные по всему холсту, встретятся здесь; найдется место для охры и голубого. Посмотрите на глаз, написанный Ван Гогом: в нем сходятся все цвета. Посмотрите на глаз, написанный Гойей: это ключ к его палитре. Посмотрите на глаз, написанный Дюрером, Кранахом, Гольбейном: их экономную и вместе с тем страстную палитру невозможно оценить, если не понять, что вся эта палитра придумана ради изображения человеческого глаза.
Помимо прочего, наделение именно глаза такой ролью есть простое подтверждение того, чем является христианская живопись вообще, а является она свидетельством.
Глава восемнадцатая
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
I
Подруг у Татьяны Ивановны не было по простой причине: она не умела сочувствовать чужой беде. Точнее сказать, ее представление о беде не совпадало с распространенным: бедами Татьяна Ивановна называла только физические невзгоды, а сердечные муки презирала. Случись, допустим, пожар, она смогла бы вместе с погорельцами погоревать; но душевному томлению – сострадать не умела.
Татьяна Ивановна полагала, что душевное томление случается тогда, когда человек отлынивает от работы, зарится на соседское добро или мечтает о незаслуженных привилегиях. Свое мнение Татьяна Ивановна высказывала откровенно и доходчиво. Нечего и говорить, что таким образом много подруг не наживешь.
Например, в отношениях семей Рихтеров и Татарниковых пролегала заметная трещина, и образовалась эта трещина из-за бессердечности Татьяны Ивановны, а точнее, из-за одного памятного разговора, случившегося между Зоей Тарасовной и Татьяной Ивановной. Случилось это в ту пору, когда профессора еще дружили семьями – то есть Сергей Ильич вместе с супругой хаживал в гости к Соломону Моисеевичу на невкусные воскресные обеды, а Рихтеры навещали Татарниковых на предмет совместного чаепития. В один из таких вечеров, когда женщины – как это принято у женщин во все времена – уединились на кухне для того, чтобы обсудить хозяйственные горести, Зоя Тарасовна пожаловалась Татьяне Ивановне на свою семейную жизнь. Сделала она это из доверчивости – такой покой и твердость являла собой Татьяна Ивановна, что мнилось: приди к ней с любой невзгодой, она и поможет, и отогреет. Обманчивое это было чувство.
Зоя Тарасовна, подперев щеку ладонью и настроившись на долгий душевный разговор, на такой приятный разговор, в котором советы перемежаются воспоминаниями, а жалобы – анекдотами из жизни знакомых, поведала Татьяне Ивановне скорбные главы из повести своей жизни. Она описала первое свое замужество с бойким кавказцем Тофиком Левкоевым, с коим рассталась, встретив энергичного профессора истории Сергея Татарникова. И что же вышло? Да, как же повернулась жизнь впоследствии? А непредсказуемым совершенно образом – вот как! Тофик Левкоев, коему природа, казалось, не сулила иных перспектив, помимо ареста за фарцовку и работы завскладом за сто первым километром от столицы, именно вот этот самый Тофик сделался вдруг богачом, а по слухам, и миллиардером даже. А как раз таки Сергей Ильич Татарников, умница и эрудит, которого в директора институтов прочили, вот именно он хлещет с утра горькую и совершенно карьеру забросил. Удивительно? То-то оно и есть, что удивительно, невероятно, а в чем-то даже и оскорбительно. Ведь поверила она в историка, а выходит, что в люди выбился жулик. Нет, Зоя Тарасовна не произнесла собственно фразы о том, что жалеет о своем уходе от Тофика, но вот тот факт, что Сергей Ильич надежд не оправдал, сомнению не подлежал. И опять-таки, если взглянуть с точки зрения ребенка, интересные вещи вырисовываются. Сонечка, дочь Тофика, – это факт. И Тофик, будем называть вещи своими именами, от отцовских обязанностей не увиливает, дочку полностью содержит. То есть буквально до мелочей – тут тебе и одежда-питание, и отдых-каникулы, и образование-развлечения. Одним словом, все делает, придраться решительно не к чему. Каникулы на Сардинии – пожалуйста, Диснейленд – сколько душе угодно, колледж заграничный – хоть завтра. А Сергей же Ильич, напротив того, видя, что Сонечка всем обеспечена, радуется возможности палец о палец не ударить. Материнские чувства Зои Тарасовны трудно было бы не понять: вот, с одной стороны – оставленный ею Тофик, делает для дочери все; а с другой стороны – второй муж, избранник сердца, мужчина, на которого возлагались надежды, не делает для падчерицы ничего. Как тут не призадуматься? Нет, буквально об изменении чувств к Сергею Ильичу речи не идет, но, согласитесь, некий осадок остается. А ведь есть еще и то, что называется жизнью светской. Женщина Зоя Тарасовна еще не старая, видная, что уж там скрывать, женщина. Вот – что далеко ходить – буквально вчера на нее прохожий на улице засмотрелся и чуть под трамвай не попал. Ей бы и в театр сходить, и на балет. А Сергей Ильич – он что, кавалер? Стакан нальет, вот и все тебе развлечения. И задумаешься о своей жизни, и всплакнешь порой – а что поделать? Есть, что называется, пища для размышлений. Вот что рассказала Зоя Тарасовна, подперев полную щеку красивой ладонью.
Татьяна же Ивановна отвечала ей так:
– А тебе сколько лет, Зоя Тарасовна? Пятьдесят? А не пятьдесят пять? А случайно не больше? Тебе бы уже пора не о мужиках думать, а о внуках. На пенсии пришла пора сидеть и пеленки внучкам стирать, а ты все в молодухи метишь. Ишь, на каких каблучищах пришла. Ну со стороны на себя посмотри, ведь стыдобища-то какая: старая баба, а на этаких, прости господи, гвоздиках шкандыбает. Ну а если упадешь, ведь ты ногу сломаешь в два счета. Хорошо еще, если ногу. А то вот в газетах пишут, одна гражданка тоже на каблуках пошла, и поскользнулась, да так, что у нее разом и матка опустилась, и почки отказали. А сейчас больницы ой как стоят! В копеечку влетит! Лечить-то тебя кто станет? Первый муж али второй? Все фасон, все фасон. Ну вот что ты себе брови-то выщипала? Ты кому понравиться-то хочешь? Мужу али прохвосту прохожему? Муж тебя уже всякую видал, ему твои брови без разницы, а брови эти ты не для него щиплешь, нет. Впечатление думаешь произвести. Вот через эти брови и вся твоя беда. Сама виновата, никто тебе не виноват. Ну, вышла замуж за этого своего бандита, как его? Пуфика? Ну вышла за Пуфика и сидела бы за Пуфиком, как все жены. Ну, понятное дело, Пуфика бы, может, и посадили. Так на то он и вор. Как же его не посадить? А ты перетерпи, да подожди, ты передачи Пуфику носи, чтоб ему в камере было послаще. Ну, колбаски, там, принеси сухой, еще вот сырки плавленые разрешают. У меня у сестры сын сидел, Сашка, так сестра ему каждый четверг колбаски носила. Он ведь даже не за воровство сидел, как Пуфик, у нас в семье чужого-то не берут, а так, за поножовщину сел. А что ты думаешь? Каждый четверг – обязательно очередь отстояла – и колбаски. Там кушать-то ой как хочется. Ну и что ты кочевряжишься? Билетик на второй сеанс захотела? Мол, с Пуфиком ошиблась, теперь с Сергеем Ильичом ошиблась – все гадаешь, где слаще. И прогадаешь. Вот уйдешь ты от Сергея Ильича, к Пуфику вернешься. А твоего Пуфика тут в аккурат и загребут. Не век же ему на свободе ходить.
Зоя Тарасовна отвечала на это сдержанно в том смысле, что Тофика Мухаммедовича (а никак не Пуфика, кстати сказать) вряд ли кто-либо когда-либо арестует. Человек он сугубо влиятельный, принятый, между прочим, в Кремле и отчисляющий ежегодно в бюджет страны – тут Зоя Тарасовна назвала такую головокружительную цифру, что Татьяна Ивановна ахнула; отродясь она этаких цифр не слыхивала, – одним словом, сомнительно, чтобы у Тофика Мухаммедовича возникли проблемы с правосудием страны, которую он кормит. Что же касается ее пристрастия к высоким каблукам, то это ее личное и сугубо личное дело, и вряд ли нуждается она в рекомендациях Татьяны Ивановны по сему поводу. Говорила же она совершенно об ином, – подчеркнула Зоя Тарасовна, – а именно: об изменении своих чувств ко второму супругу, о странных превратностях судьбы, что возносит иных ввысь, но низвергает прочих в бездны, о горькой женской доле, о надеждах и упованиях, которые действительность разбивает в прах, и так далее.
Татьяна Ивановна на это ответила так:
– Если твоего Фафика не посадят, это только хорошо. Ну, пусть на свободе гуляет, коли он такие тысячи платит народу. Только чего-то я этих тыщ не видала. Мне их твой Фафик не давал. Ну, может, он кому-то из своих бандитов дал. В газетах пишут, они друг дружке такие тыщи дают несчитаные, прямо хоть сейчас иди да дачу покупай. Один богатей пошел да и купил себе две дачи. Я сама читала, в газете зря не напишут. Зачем ему две дачи, не пишут, может, на одной живет, а другую сдает. Устраиваются люди. Ищут, где слаще. Ну, его свои же бандиты и застрелили, прямо на даче. Он на веранде компот пил, а ему из пушки прямо по голове. Голову-то и оторвало, потом со специальными собаками искали. Едва нашли на соседнем участке. Ну, соседний участок-то тоже его был. Вот оно как. Ты на его тыщи не зарься. Ишь губу-то раскатала. Ворованное, оно впрок не идет. Лучше пойди вот, честно заработай, и совесть тебя потом мучить не будет. А что Сергей не зарабатывает, так это не беда. Зато целее будет. Пусть уж лучше пьет. Солощая ты, Зоя Тарасовна, любишь сладенькое. И наряды любишь. Конешное дело, если столько тряпок покупать, да туфли на гвоздиках, это ж сколько денег надо иметь, честным трудом столько не заработать. Не моего ума это дело, ты тут права. Я и сама соваться в такие вещи не люблю, не зря в народе говорят: не тронь говно, не завоняет. У нас лично в семье воровать не принято было, на мужиков чужих глядеть зазорно. А ты уж сама как знаешь.
Тут Зоя Тарасовна хотела встать и уйти: реплики Татьяны Ивановны были оскорбительны и откровенно грубы. Но, как женщина воспитанная, Зоя Тарасовна решила смягчить беседу и не допустить прямого скандала. Она отвечала Татьяне Ивановне мягко. Она заметила, что Тофик Мухаммедович (именно Тофик Мухаммедович, а не Фафик и не Пуфик – собачьи имена какие-то!), насколько ей известно, ничего не крал, и ее саму, т. е. Зою Тарасовну, заподозрить в воровских наклонностях, мягко говоря, странно. Деньги же зарабатывать можно, и совсем даже не воровским, а, напротив, совершенно честным путем. Так, например, знакомый ей художник Дутов устроил в Париже выставку и картины выгодно продал. И, кстати будь сказано, справил жене шубу. А знаменитый художник Гриша Гузкин, тот вообще сделался звездой мировой величины, и картины его стоят больших денег. Так что не надо думать, что богатый человек – обязательно нечестный человек Конечно, если сидеть на печи да пить горькую, денег не заработаешь, и все предприимчивые люди будут казаться ворами. Но это от узости кругозора так кажется. Если бы Сергей Ильич старался, стремился куда-то, то он тоже смог бы и денег подзаработать, и – кто знает? – может, и вернул бы расположение Зои Тарасовны. Чувства такая вещь – сегодня их и в помине нету, а завтра, глядишь, и опять есть. Есть струны, и так далее.
Татьяна Ивановна поджала тонкие губы и сказала так:
– Взрослый мужчина, а называется Гриша. Срам какой. Это он молодится, что ли? Некоторые вот красятся, я считаю – это срамота. Ну, появились у тебя седые волосы, так что же делать – на то ты и старуха. Ты вон тоже небось какой-нибудь дрянью голову моешь – что у тебя ни одного седого волоска. Грех один. Пятьдесят лет, старуха уже, а волос седых стесняешься. И этот тоже – Гриша! Ну какой он Гриша! Назвался бы солидно, по-людски, Григорий Петровичем или, там, скажем, Григорий Израилевичем. А то – Гриша! Нашелся попрыгунчик. Вот даже твой Хачик, сама говоришь, он и не Хачик вовсе – а солидно называется. Правильно, мужчине имя надо христианское иметь. Взрослый человек, и имя должно быть у него солидное. И людям не стыдно показаться, и назваться в людях можно. Пришел, допустим, в парикмахерскую или в химчистку – и представился. Хорошо звучит, ответственно: Гульфик Хабибулевич. Правильно! А что такого страшного? У нас к татарам с уважением относятся. Народ они работящий, из них дворники хорошие получаются. А что твой Гульфик Хабибулевич по финансовой линии пошел, тоже неплохо. Татары, они бережливые. Другой русский пропьет, а еврей или татарин всегда в семью тащит. Тут ты права. Только тебе-то поздно на татарские денежки зариться. Один раз ты уже хвостом повертела: оставила своего татарина и ушла к Сергею Ильичу. А теперь сызнова, значит, за старое? Нет уж, милая. Теперь уж сиди, где сидишь. И так в молодости нагулялась, позору набралась. Дочку-то свою ты с Хабибуличем прижила или еще где живот нагуляла? Потаскалась, милая, потаскалась. Пора и меру знать. Ты хоть на старости лет совесть имей.