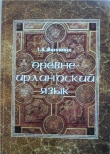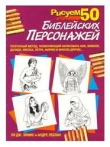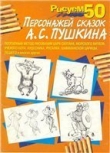Текст книги "Учебник рисования"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 128 страниц) [доступный отрывок для чтения: 46 страниц]
– Действительно, – сказала Роза Кранц, – типично советская точка зрения досталась вам, Сергей Ильич, в наследство. Кто не с нами, тот против нас. Но пожилой ученый, изгнанный большевиками, переживший разлуку с Родиной…
– Уж не в симпатии ли к большевикам вы меня подозреваете, Розочка? – осведомился хмельной Сергей Ильич. – Сколько ж лет было вашему Степуну, пятьдесят? И в пятьдесят лет не сумел он ничего путного сделать? Ведь не ребенок, чай, понимать должен, что происходит. Хоть бы попробовал.
– А вам, Сергей Ильич, сколько лет? – хотелось спросить Розе. – Вы, думаю, Федора Степуна уже переросли, но не только евреев через границы не водили, вы и сочинений потомкам не оставили, – ничего подобного она, разумеется, не сказала, но лишь мягко пожурила Татарникова. – А что же было ученому делать? Он уже в прошлом пострадал от большевиков.
– Как это – что делать? – Татарников был сильно пьян, – пулеметы выкатить – и чтобы головы не подняли, суки! Подумаешь, пострадал! Страдалец! Пострадал – так привыкни страдать! Всегда страдай! Ишь, ловкач! Устроился! – он еще многое мог сказать, как и всегда, когда был нетрезв.
– Ну зачем, зачем ссориться, – отец Павлинов простер руки к собранию, – все мы здесь для одного славного дела собрались. Объединить усилия западной и восточной интеллигенции для построения светлого открытого общества!
– Новый град строите? А квадратный метр у вас почем? – и Сергей Ильич пьяно икнул. – Элитное, элитное жилье!
Ну как быть с таким человеком? Ведь сколько терпения надо. Поговорили-поговорили с Татарниковым, да и рукой махнули. В сущности, и держали-то его в «Открытом обществе», можно сказать, из милости. В конце концов, если человек упорно не желает слушать шум времени, если он хочет стоять в стороне и не принимать участия ни в чем решительно – так и бог с ним, пропади он пропадом. Не желает человек сделать усилия и стать русским европейцем – так ему же, если разобраться, и хуже.
III
И тем легче проститься с отдельной, никому, в сущности, не интересной, фигурой, что подавляющее большинство мыслящих людей имело общие интересы, пользовалось одним интеллектуальным словарем, ходило к одному парикмахеру. Если все читают Хантингтона и Фукуяму, то просто для того чтобы не выпасть из круга умственных людей, надобно читать Хантингтона и Фукуяму. Если всем нравится искусство Шнабеля и Твомбли, то, как ни крути, оно должно и тебе понравиться. Ясно, как божий день, что все приличные люди в России должны сделаться «русскими европейцами» – это своевременно, модно и удобно – значит, если ты приличный человек, то европейцем и станешь. Нет недостатка в единомышленниках! А что уж говорить про политиков! Современные политики похожи друг на друга даже физически, точно так же, как неотличимо похожи друг на друга абстрактные полотна в музеях современного искусства. Брейгеля от Босха вы отличите легко, но отличить раннего Шнабеля от позднего Твомбли – не читая этикеток – немыслимо. Другой вопрос а надо ли это? Так ли это необходимо для искусства и политики? Плохо ли, что персонажи неотличимы? Ведь те, кому надо было картины отличить одну от другой (то есть галеристы, кураторы и т. д.), уже разобрались и этикетки написали. Этикетки-то на что? Не для вас ли, дурней, написаны? И если издалека и можно спутать Берлускони с Путиным, а Блэра с Бушем, то разве это главное? Подойдите поближе: на заседаниях глав правительств всегда расставлены этикетки с указанием страны и фамилии лидера – прочитаете, если грамоте обучены, и разберетесь. В конце концов, кастинг претендентов на власть проходит во всех странах по одному и тому же принципу – чего же удивляться, что лидеры похожи с лица? Поскольку иные личные качества при универсальной политике не столь потребны, общество сосредоточило внимание на физиогномических характеристиках претендентов. После нескольких неудачных проб был утвержден универсальный типаж лидера: рост чуть выше среднего, огромные уши, близко посаженные глаза, залысины со лба. Это демократичный, умеренно интеллектуальный, легко вписывающийся в любой интерьер образ. Существует ведь некий стандарт для физических данных жокея или борца сумо, и, подобно тому как жокей борцом не станет, так и сумисту не взгромоздиться на лошадь. И точно так же в ходе исторического отбора были забракованы неудачные, излишне характерные внешние черты вождей, только мешающие проведению универсальной политики. Высокий рост де Голля, массивность Черчилля – эти избыточно характерные данные не требуются нынче. Подобное выпячивание внешних данных требуется для экстатических призывов, для того чтобы толпа запоминала своего главаря. Однако время экстатических призывов миновало. Как и в габаритах огурцов, продающихся в рамках общего рынка, на политиков был введен единый средний стандарт: рост, вес, ширина улыбки, угол оттопыривания ушей, расстояние между глазами. Этот типаж – так сложилось – оказался наиболее приспособлен для воплощения современной политики. Лидеры просвещенных стран общими стараниями подтянулись, подогнались под этот стандарт. Да что там цивилизованная Европа, уже и азиатские вожди приспособились к принятым меркам. До поры только русский президент – корявый крикун с мясистой головой – выламывался из общих стандартов, и это всех смущало: ну как с таким дело иметь? Ни экстерьера, ни дизайна – ничего пристойного нет. Это примерно то же самое, как если бы в музей современного искусства принесли палехские ложки и коромысла: они, может, кого и умиляют, но ведь это, с позволения сказать, деревенская самодеятельность, рядом со Шнабелем ее показать совестно. А с этим пьяницей – да в приличные люди? Уже и присмотрели ему пристойную замену: чтобы человек был непьющий, чтобы послушный и четкий был, чтобы костюмчик сидел гладко, чтобы говорил без запинки и не икая, чтобы было и у нас все, как у людей, как в хороших домах принято.
Пришло время, и крикливый пьяница сдал свои права аккуратному человеку, отлитому по среднеевропейскому стандарту: близко посаженные глаза, оттопыренные уши, залысины со лба. Российский сценарий наконец довели до ума, добились пристойного качества политического интерьера. Пора было, давно пора! Пьяница вдруг словно бы пробудился с похмелья, спохватился, да и сдал дела, выгреб из комодов да ящиков папки с документами – и вывалил все на стол. Ухожу. Мол, разбирайтесь сами с этой нудятиной. Но даже и уйти цивилизованно не сумел, чуть было все не напортил. Есть такие люди, которым красота и гармония – звук пустой, воспитание и дизайн им не указ, вот и он внес в отлаженную процедуру передачи власти ноту алкогольной задушевности, этакого провинциального надрыва. Облапив преемника за плечи, он произнес трагическим голосом: «Берегите Россию!» И сказал он это так, словно действительно существовала еще некая страна, которую стоило беречь, словно жившие на суглинках и супесях люди и впрямь представляли какой-то интерес, словно судьбы, жизни, болезни этих людей принимались в расчет, словно некая разница существовала между двумя заурядными фактами: живут еще эти никому не интересные люди, или уже все умерли. И те жители России, кто слушал эти слова в телевизионной передаче, возбудились несказанно: на миг поверили, что они и впрямь для кого-то еще интересны, и кто-то их побережет, и кто-то забеспокоится, когда их будут гнать и убивать. Но это они понапрасну возбудились. Перемен в отношении к ним не просматривалось, а если и прошла в телепередаче драматическая реплика – так что ж с того? Даже и у лучших дизайнеров бывают неудачные детали: бант не так завяжут, пуговицу не там пришьют.
Хорошо, преемник не подкачал: придержал пьяницу за плечи, сдержанно покивал. Мол, договорились, поберегу страну. Дескать, как же, именно это как раз у меня на повестке дня. Сперва там всякая текучка, газопровод, недвижимость, то-се, а после обеда вот в аккурат это самое намечено. Поберегу. И выразил он это тактично, без аффектации, без мелодраматизма – просто, по-солдатски.
Здесь уместно отметить, что некоторые сограждане испугались прихода нового президента. Их пугало, что аккуратный человек с близко посаженными глазами был полковником госбезопасности – сотрудником того самого страшного ГБ, которым их всю жизнь стращали. Он ходил по коридорам Кремля строевым шагом, и, глядя на его походку, люди впечатлительные брались за сердце.
– Как же так, – говорили эти перепуганные люди, – мы боролись-боролись за демократию, тирана разоблачали, репрессированных поминали, и вот, здрасьте, – дожили! Полковника ГБ поставили править страной! Ехали и приехали! Это как понимать? Результат демократии – власть полковника госбезопасности? Это что – демократия? Нет, вы скажите?
– А вы не волнуйтесь, – отвечали им люди уравновешенные, – он ведь не сам пришел. Его назначили. Понимаете, назначили его люди самых-самых демократических убеждений, даже демократичнее нас с вами. Те самые храбрые демократы, борцы с тоталитаризмом – вот именно они и назначили. Так надо, значит. Ведь надо поставить во главе страны чиновника, чтобы: а) не пил; б) защищал завоевания демократии, то есть то, что уже украли, – все ваше; в) не давал больше воровать, а то ведь все к черту разворуют. В демократическом государстве, – говорили сведущие люди, – важно вовремя остановиться. Ведь все тащат в разные стороны, того и гляди, совсем ничего в стране не останется. Куда ни посмотришь – ничего нет: все сперли. Неправильно это. В открытом обществе, как на войне, – три дня на разграбление города, а потом комендантский час. Нахапал сколько мог – и хватит, порядок знай. Надо и о стране наконец подумать. Этого президента демократы вроде как сторожа наняли чтобы он добро сторожил.
– Ничего себе сторож, – ахали боязливые, – да он всех посадит, вот увидите, и будет сторожить. Ох, наплачемся мы.
– Вы неправы, – отвечали им, – кого он посадит? Что с того, что он полковник? Военных тоже нельзя судить однозначно, мерить одной меркой не годится. Вы посмотрите на генерала Франко – как все его боялись, – а куда он Испанию привел? Цветущая страна. Или на Грецию поглядите, на Латинскую Америку.
– Не надо, не хотим мы туда глядеть, – отмахивались напуганные. Они и так все чаще и чаще слышали о Латинской Америке и недоумевали, к чему бы это? Да и военное звание нового лидера напоминало им о греческих полковниках, о френче советского тирана, и о генерале Пиночете. Именно Пиночет и склонялся чаще всего в салонных разговорах, и людей впечатлительных это пугало – чего же хорошего в Латинской Америке? Инакомыслящих сажали, совсем как у нас.
– Ну не надо, не надо! Равнять не будем! Эк вы сказанули! Ну посадили там двести-триста крикунов, потом выпустили, а вы уже по своей истерической привычке и раскричались. Это в вас советская пропаганда говорит, голубчик Пиночет вывел страну из глубокого экономического кризиса, он Чили спас. Латинская Америка фактически воспроизвела испанскую модель – от необдуманной революции, через военную диктатуру – к капиталистическому процветанию. Так-то. Крайне нам такой вот Пиночет необходим. А еще лучше – Франко.
IV
Сказ о русском Пиночете действительно уже некоторое время тешил разум людей ответственных. Прижился этот образ тем более легко, что в проклятые годы коммунистической диктатуры советское правительство поддерживало неудачника Альенде, а свободомыслящие люди отдали свои сердца и симпатии грозному генералу, борцу с коммунизмом. И как бы ни бранили Пиночета иные западные левые, русский демократ только улыбался с пониманием: это вам легко говорить, что Альенде неплох, а вот мы-то знаем, что такое социализм. Тут не токмо что Пиночета или Корнилова, тут и Аттилу впору звать, чтобы порядок навел. С тех пор миновали годы, генерал благополучно старился на пенсии, попытки обвинить его в репрессиях провалились, и он навсегда остался героем для русской интеллигенции. Люди пообразованнее цитировали известное высказывание Борхеса – «я предпочитаю ясный меч», люди же, руководствующиеся интуицией, заявляли, что для сохранения страны необходима твердая рука. Ну не такая, как у тех ужасных тиранов из прошлого, но умеренно твердая, этакая цивилизованно жесткая рука. И не надо, не надо бояться, что он кого-то там посадит или что-то такое там придушит. В рамках цивилизованной демократической рыночной системы и придушить полезно. Именно Балабосу и Дупелю, то есть людям, непосредственно определяющим экономическую политику, и пришла в голову мысль о том, что пора наконец зафиксировать количество наворованного и ввести твердые законы. А делить без конца одну и ту же страну – неразумно: страна, конечно, велика, но на всех даже ее не хватит, а стало быть, нужен порядок. Эту, в сущности, простую мысль высказал Диме Кротову в частной беседе спикер парламента Герман Басманов. Дима, потомственный интеллигент, испытывал противоречивые чувства. Образ антикоммуниста Пиночета ему импонировал, однако его пугало слово «диктатура». Сомнениями он поделился с Басмановым.
– Дурачок ты, Димка, – сказал Басманов, – ну что ты боишься ГБ, как маленький. Подумаешь, черта нашел. Думаешь, ГБ только тем и занималось, что инакомыслящих ловило? Глупости не говори. Государство, Димочка, нуждается в репрессивном аппарате. Если оно государство, конечно, а не собрание трепачей и безответственных алкоголиков. А иначе ведь законы выполнять не станут. Ворья-то вокруг сколько, ты глянь. Ну Дупель, ладно, он мужчина государственный. А ты посмотри на всех этих Левкоевых, ведь если их за руку не схватить, мы с тобой по миру пойдем.
– Пиночет ведь возродил чилийскую экономику, – сказал Дима Кротов неуверенно, – правда?
– Еще бы! И как еще возродил! Расцвела экономика, – и Басманов стал рассказывать о прогрессивном значении латиноамериканских режимов, о том, как удержали они страны на краю экономической пропасти. Рассказал он и о так называемых кастрюльных бунтах, поднятых домохозяйками против незадачливого социалистического президента Альенде. – Развалил медную промышленность наш активист-демократ, – ехидно сказал Басманов, – а без медного экспорта, Димочка, какая же может быть демократия? Грех один. Вот и вышли тетки и бабки с кастрюльками на улицу – мол, пусто в моей медной кастрюльке, и давай дубасить в кастрюльки. И лопнула демократия. Ты учись, Димочка, бери уроки у истории.
Не отметил Басманов лишь того, что экспорт меди был остановлен не бездарной политикой Альенде, но его внешними партнерами, прекратившими закупки. Не рассказал он о заграничных счетах Пиночета, распродавшего Чили и составившего несметное состояние. Не рассказал он и о стадионах, на которых запирали людей. Не упомянул он, впрочем, и о рутинной практике латиноамериканских режимов: о том, как солдаты вставляли женщинам штык во влагалище; как распахивали люки самолетов над Параной, чтобы высыпать в устье океана неугодных режиму; о том, как чистили город эскадроны смерти; как без вести пропадали и никогда не находились люди. Вместо этого он сказал:
– Речь шла, разумеется, не о репрессиях, но всего лишь о том, чтобы привести страну в надлежащий вид, помыть, причесать. Ходит страна растрепанной, а к ней приглашают визажиста: мол, приведи лахудру в порядок. Вот и нам бы с тобой такого дизайнера-визажистa. И экономику подправит, и перед людьми не стыдно.
– Конструктивно, – сказал Дима Кротов, – без дизайнера не обойтись, – и он одернул пиджак от Ямамото и поправил шейный платок
Новый Пиночет, или как его там ни называй, был востребован скорее как стилист, нежели как диктатор. И действительно, в руководстве появился стиль, не уступающий по красоте и точности западным правительствам. Сдержанная изысканная эстетика, точная и четкая режиссура, экономный конструктивный дизайн – вот характеристика новой политики. Скажем, в прежние времена встречался немецкий или английский лидер с российским, и злость брала телезрителя, наблюдающего, как идут они друг навстречу другу. Западный лидер, тот обыкновенно идет, как фотомодель по подиуму: И пиджачок у него на одну пуговицу застегнут, и манжеты сверкают, и булавка в галстуке правильная, и часы со вкусом подобраны – посмотреть приятно. А русский олух прет, как трактор по бездорожью: в пиджак застегнут до ушей, ботинки скрипят, рожа красная, с утра литровую огрел, и оттого глаза мутные – смотришь и гадаешь, дойдет до трибуны или по пути грохнется. Не то теперь, не то. Летели навстречу друг другу два изысканных, легких силуэта, щелкали штиблеты, порхали улыбки – смотришь на такую встречу и радуешься: нет, не хуже! Ну нисколько не хуже наш полковник ихнего майора! Сходное чувство возникает и на выставках современного искусства. Прежде зритель с душевной болью отмечал, что в просвещенном мире показывают легкий полет фантазии, небрежные линии и свободные мазки – а у нас сплошь казарменная эстетика, унылые сельские поля, блеклые лица комбайнеров. А нынче вот уж нисколько не приходится краснеть! И тут и там совершенно одинаковые линии и пятна, все у нас теперь как у людей: они – инсталляцию, и мы – инсталляцию, они минимализм – и мы еще более минимальный минимализм.
Повторюсь, внешние параметры лидеров формировались по тем же законам, по каким формировались приоритеты в искусстве и философии. Собственно говоря, та форма политики, что сделалась универсальной, сама была своего рода современным искусством или продолжением современного искусства. Это была Contemporary Art Politics.
И критика у нее была соответственная.
V
– Современным быть? Но современным – кому? Этому жулику? Увольте. А в искусстве? Дутову? Шнабелю? Ле Жикизду? Так ведь им же неинтересно быть современным, – вот что говорил обычно Павел Леониду Голенищеву.
– А ты хочешь быть современным Микеланджело, я полагаю.
– Да, хочу.
– Опоздал, милый. Нет больше Микеланджело, и современным ему ты никак быть не можешь.
– А куда же он делся? – спрашивал Павел.
– А он стал историей.
– А история куда делась?
– Она движется, милый мой мальчик, движется.
– А мне кажется, – говорил Павел, – что человек, кому хочет, тому и современен. Это как друзей заводить или книжки в библиотеке выбирать. Нравится Дутов – и пожалуйста. А мне – Микеланджело. У тебя своя компания, у меня – своя.
– Нет, дорогой, время не выбирают. В нем живут и работают.
Леонид говорил, изгибая бровь, поглаживая бороду. Подобно многим значительным московским людям Леонид самой внешностью своей создавал произведение искусства. То он выбривал усы и отпускал шкиперскую бородку а la Солженицын. То он брился наголо и отпускал густую бороду подобно чеченским повстанцам. То он вовсе сбривал бороду, но, напротив, отращивал густые прустовские усы, и вид имел при этом загадочный. Сегодня борода была тициановской. Всякий раз облик его был неким высказыванием, посланием миру, тем, что в английском языке называют словом message.
VI
– Бутафория. Все бутафория, – так аттестовал современный ему мир старый Рихтер и ошибался в своей оценке. Что ни говори, а ракеты «земля-воздух», нефтяные скважины, вновь отстроенное здание парламента – были настоящими.
– А вот и ошибаетесь, Соломон, – сказал Татарников, которому бы все спорить, – бутафория была в девятнадцатом веке, когда русские дворяне французский язык учили, – вот это самая настоящая бутафория. Население в дерьме по уши, а они в Версаль играют. А сейчас – это знаете что? Я вам скажу. Сейчас время дизайна. Дизайн – это по вашей части, Соломон. Это ведь исторический проект – вместо истории.
Высказывание историка (человека, малосведущего в искусстве) удивительно корреспондировало с высказыванием мудрого Якова Шайзенштейна, который на публичных прениях заявил: «Версаче – Ван Гог современности». Просто Татарников пошел несколько дальше.
– Дизайн, – сказал Татарников Рихтеру, – есть форма существования привилегированных ворюг, которая становится для масс выражением прекрасных абстракций. И ваши проекты истории – ровно то же самое.
VII
«Ах, – сетовал Борис Кузин, указывая на портрет нового британского премьера, – скоро ли наше общество сможет выдвинуть такого же лидера – воспитанного, молодого, образованного джентльмена?» И впрямь, посмотреть на фотографию – дух захватывает, как точно, как адекватно выражает она мечту о прогрессе. Английский премьер горел глазами, улыбался во все свои сорок зубов. Именно эта фирменная улыбка и провела его через кастинг, сделала премьером, человеком, воплощающим будущее своей страны. Все идет отлично, убеждал широкий зубастый рот, все идет по плану: лучше прежнего и даже еще лучше. Моложе, прогрессивней, напористей! Молодой жизнерадостный деятель, он легко переиграл своего оппонента-консерватора, действующего премьер-министра, аккуратного невысокого человека, похожего на печального кролика. Печальный кролик не умел заразить поступательной энергией, не способен был улыбаться от уха до уха, да и сорока зубов у него не было. Указывая на оппонента пальцем во время дебатов в палате общин, сороказубый претендент весело кричал: weak! weak! weak! И депутаты понимали: действительно, кролик-то наш слабоват – нет в нем оптимистической энергии, этакой бодрой напористости, и зубов явно маловато. Не тянет кролик на лидера. Новый премьер ходил легким пружинистым шагом: волна волос откинута назад, огромные уши подставлены ветру, лоб нахмурен, как и надлежит лбу вождя, а рот, главное его оружие, растянут в улыбке. Вот таким он и был мил сердцу англичан – образ молодящейся, полной надежд страны. Новый лейборист – так назвал он себя. Им был найден очень верный термин. И впрямь, это был лейборизм, нисколько не похожий на обычный: премьеру было решительно все равно, в какой партии быть, лишь бы быть на ее верху. Важна не политика сама по себе, но то, как ты оперируешь политикой, как ты ее преподносишь. В полном согласии с основным принципом постмодернизма: «важен не товар, но менеджмент» – создавался новый стиль руководства. Абсолютно безразлично, какую партию представлять, важно – чтобы победившую. В то время, когда он входил в политику, лидирующие места в партии консерваторов были разобраны, и, таким образом, решение примкнуть к лейбористам напрашивалось само. Новый лейборизм усовершенствовал партийные принципы: разногласий с тори он практически не имел, но, напротив, старался уничтожить границы между взглядами тори и лейбористов. Новый премьер разработал удивительный по действенности метод борьбы с политической оппозицией: чтобы не иметь политических конкурентов, надо самому выполнять то, что сделали бы твои противники, но только под другим флагом. Нечего и говорить, как дезорганизует это врага. Врагу попросту нечего больше делать, он может сложить оружие. Если бы, например, во время Столетней войны английские войска развернулись и сами стали наносить удары по своим укреплениям, это, несомненно, поставило бы французов в тупик. То-то бы они растерялись. Весь запал печально известной Жанны в миг бы испарился, если бы Черный Толбот самолично стал громить ряды британских лучников. Уникальная политическая стратегия была вызвана простым и внятным соображением: надо всегда оставаться у власти. Власть сама по себе нужнее, нежели смехотворное деление на партии. Важны не убеждения, но то, как ты оповещаешь о своих убеждениях, не поступки как таковые, но то, что ты произносишь во время поступков, важно не то, насколько честно ты жил, но то, насколько тщательно ты был одет при жизни.
Иные скажут: да это же обыкновенное политическое трюкачество, они всегда так. А вот и нет, не обычное, и вовсе они не всегда так. Прежде Талейран, хитря и комбинируя, вовсе не считал хитрость и менеджмент – целью. Если бы Сталину дали возможность прибрать к рукам Финляндию без политических трюков, а де Голлю предоставили возможность идти к Четвертой республике менее извилистым путем – они бы только обрадовались. Но отними у современного политика менеджмент – что у него останется? Какие такие реальные прямые шаги захочет он произвести? В каком, интересно, направлении? Если длить сравнение времени с течением воды в реке – то он современен какому фрагменту реки – вверх по течению или вниз? Нет, не вверх и не вниз – а туда, где рыбы больше, вот куда устремлены его благородные амбиции.
Эту, во всех отношениях разумную политическую инновацию усвоили и лидеры других цивилизованных стран; в короткое время в мире была создана прогрессивная универсальная политика, пригодная практически для любых убеждений и взглядов, подходящая любой личности – как эластичный безразмерный носок. Пользоваться такой политикой следовало вне зависимости от убеждений, и даже напротив – убеждения слегка мешали: при их отсутствии носок налезал на что угодно, растягиваясь и сжимаясь до любых размеров, но убеждение могло помешать, оно топорщилось бы, как нарыв или мозоль. В сущности, новая политика была выше ориентаций и взглядов какой-либо одной партии, одного парламентария.
Поди разбери, в чем разница между политическими взглядами демократической партии, возглавляемой Тушинским, и демократической партии, возглавляемой Димой Кротовым? Нипочем ведь не разберешь. А дебаты идут! Трудно найти столь непримиримых оппонентов. Стиль, стиль совершенно разный! А стиль, как сказал один французский мыслитель, – это человек. А стало быть, и партия. Взять хотя бы, как появляется на трибуне Владислав Григорьевич Тушинский. И сравнить с манерой Димы Кротова – небо и земля! Тушинский ходил вялой походкой, вразвалку; рыхлое тело его, одетое в мешковатый костюм, воздвигалось над трибуной подобно куче старья, вываленного в ломбарде на прилавок. Дима же Кротов, одетый в приталенные костюмы итальянских модельеров, взлетал на трибуну, парил над ней, словно птица. Речь Тушинского изобиловала всеми возможными речевыми дефектами: он шепелявил, картавил, причмокивал и мямлил. Кроме того, он не смотрел на публику, а читал по бумажке. Собственно, то была типичная манера интеллигентов-шестидесятников, которые и в речи своей были столь же небрежны, как в одежде. Дима же Кротов говорил гладко, ударения делал правильные, а сказав нужное слово, делал паузу и обводил глазами зал. И скажите после этого: есть ли разница между программами обеих партий? Разительная! Радикальная! Тушинский бубнил себе под нос приказы и декларации; Дима же Кротов никакой дидактики не допускал: просто вступал в диалог с аудиторией, спрашивал, а как считает собрание? И что же вы думаете, в результате – рознится их электорат? Еще как! Учитель начальной школы из Саратова, тот, пожалуй, пойдет голосовать за Тушинского. Он и сам такой же мешковатый и неопрятный, костюмов от Эмерджилио Зенья не носит, всю жизнь читает Солженицына и пьет горькую. Вот ему как раз, да его жене, библиотекарю, партия Тушинского – самое место. А вот если ты столичный житель с запросами, если целишь провести каникулы на Ибице, если интересуешься искусством второго авангарда, если тебя унижает, как некогда поэта Мандельштама, фабрика «Москвошвей», – вот тогда тебе по пути с партией Кротова. Трудно найти две партии с более противоречивыми взглядами, с более контрастной позицией. И что с того, что контуры их убеждений примерно совпадают? Да, правильно, в целом они против коммунистической чумы и тоталитаризма, за свободу и демократическое развитие. Но вот чем заполнены эти контуры, что составляет самую суть упомянутых убеждений – это и есть главное, это куда важнее, чем просто высказанное убеждение. Подумаешь убеждение! Кто его только не имеет нынче! Но вот сделать так, чтобы убеждение гармонично совпало с работой модельера и дизайнера – совсем непросто. Одно дело – оппонировать тоталитаризму, когда сам носишь костюм эпохи «Москвошвея», но совсем другое – если ты одет от Эмерджилио Зенья.
Именно этот принцип – а точнее: зов и шум времени – и лег в основу издательской практики нового общества. Спору нет, изданий много: тут и «Бизнесмен», и «Актуальная мысль», и «Дверь в Европу», и «Европейский вестник», и «Колокол». Но пишут во всех газетах примерно одни и те же люди – а где, скажете, вы наберете других? Что, есть в России второй Яша Шайзенштейн, другая найдется где Роза Кранц? И не надейтесь, нет таких больше! И однако отличаться издания обязаны, мы все-таки на свободном рынке, а не в застенке тоталитаризма, где каждый печатный листок повторяет другой. И первая роль в столь важной миссии, как плюрализм мнений, как бы странно это ни показалось человеку несведущему, волею судеб достается дизайнеру – т. е. тому, кто придумывает, как подать читателю материал. Безразлично, что скажет политик (мы все примерно представляем, что он может сказать), но бесконечно важно, как он одет. Глядя на то, как повязал сегодня галстук президент страны, можно понять, что ждет население. Безразлично, что нарисует художник (мы все примерно знаем, что он уже ничего не рисует), но важно, как он представит свои произведения. Зал, освещение, реклама, название выставки – вот что волнует сердца; а то, что мастер умеет только пятна на холст ляпать – дело совсем не важное. Тот же самый принцип, но выраженный десятикратно сильнее, властвует в периодических изданиях. Информация, помещенная в двух разных газетах, не сильно отличается – однако стиль, вот главное различие! Именно стиль и делает высказывание – высказыванием! Например, редакция «Бизнесмена» полюбила слегка ироничный тон, ту легкую снисходительную усмешечку, что трогает уголки губ человека осведомленного в беседе с неучем. Так, пересказывая то же самое событие, которое в серьезном ключе излагала «Актуальная мысль», «Бизнесмен» мягко иронизировал и тем самым показывал, что стоит выше обсуждаемой проблемы. А вы говорите! Буквально две запятые, незначительная смена интонации – и пожалуйста! Совершенно другая информация! Был взрыв в метро или не было – вопрос двадцать пятый, но вот как рассказать про взрыв: возбудить обывателя – или успокоить?
В газете «Бизнесмен», несмотря на известные трения, наметившиеся меж владельцами – между Василием Бариновым и Михаилом Дупелем соответственно, – атмосфера царила праздничная; творческая, рабочая, веселая атмосфера – журналисты порхали с этажа на этаж, сыпали шутками. И было от чего взыграть духу сотрудников редакции – в последние недели издание коренным образом поменяло стиль оформления, освежило дизайн газеты. Он и был неплох, этот стиль (да куда там неплох, блистателен он был, в пример его прочим изданиям ставили, вот что!), а стал просто исключительно хорош. Просто не бывает такого! Как на одном дыхании, словно поцелованный музой полиграфии, выполнил новое оформление дизайнер Курицын. Ах, недооценивают иные люди значение оформления печатной продукции, недооценивают – а зря! Есть еще такие люди, что дерут нос перед дизайнерами, – дескать, содержание главнее. Совершенно напрасно они это делают, сами потом жалеть станут. Вот выходит, скажем, журнал «Актуальная мысль» (бывший «Коммунист») и выходит без всякого приличного оформления: макет издания сляпан, как при царе Горохе, ни тебе фантазии, ни задора; шрифт подобран без всякого вкуса – что было в типографии, тем и набирают, бедные; полоса набора выбрана случайная, бумага убогая, – сиротское издание, одним словом. Берешь в руки этакий журнал и недоумеваешь: это что – тетрадь агронома с Поволжья? Или бухгалтерский отчет колхоза «Путь Ильича»? И что с того, что перья преломляют в этом издании люди значительные? Что с того, что именно этот орган опубликовал знаменитый «Прорыв в цивилизацию» Кузина? Опус Кузина изданию совершенно не помог, а вот убогость оформления сыграла свою негативную роль в судьбе кузинского «Прорыва». И между прочим, сам автор виноват, никто больше. Это ведь он сам, Кузин собственной персоной, самонадеянно восклицал: мне, дескать, все равно, мне, мол, без разницы – где печатать мой труд! Хоть, говорит, в школьной стенгазете, хоть, говорит, на туалетной бумаге. Ну вот и напечатал без малого что на туалетной бумаге. «Строго между нами, – говорил дизайнер „Бизнесмена“ Валя Курицын своим коллегам, – я считаю, именно потому Кузин и не прогремел, как рассчитывал, что напечатался черт-те где. Ну что это за издание – курам на смех. В руки взять противно. Бумага желтая, шрифт слепой. А макет? Горе, а не макет. Вот Дима Кротов колонку у нас печатает по вторникам и вся страна Димочку любит. Какой мы портрет его дали, а? Рамочку чуть сдвинули влево, линеечкой отбили – любо-дорого! Так подали, что и читать не обязательно! А шрифт я какой подобрал – сухо, сдержанно, мужественно. Стиль – это главное». И прав был Курицын! Совершенно справедливо указывал на роль полиграфии вообще и полиграфического дизайна в частности! Вот, представьте, полюбили вы женщину, а она приходит к вам на свидание в стоптанных туфлях, платье в горошек, и волосы растрепаны. Что, понравится вам такая? А если она придет в наряде от Ямамото, да накрашенная, да волосы этак продуманно уложены, – ведь вся жизнь ваша по-другому сложится.