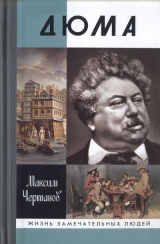
Текст книги "Дюма"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц)
Следующий рассказ – «Лоретта, или Свидание»: 1812 год, в деревне немка подобрала раненого француза, выходила, полюбила; он вернулся на фронт, уговорились встретиться после войны на кладбище. Прошел год, разгром под Москвой, армия бежит, в той же деревне, на кладбище, – бой, герой вновь ранен; оседая наземь, скользкой от крови рукой он хватается за камень и слепнущими глазами читает на нем имя возлюбленной. Джек Лондон сказал: «Какое счастье, что для людей, близких к отчаянию, существует утешительный Дюма». Да уж, утешение: хороших людей убивают, плохие здравствуют. Чуть более оптимистичен рассказ «Мари»: брошенная девушка пыталась утопиться, прохожий ее спас, соблазнителя убил на дуэли. Отметим, что во всех трех новеллах (в их первой редакции) нет «фирменных диалогов Дюма» – в них вообще мало диалогов, и все они написаны на заимствованный сюжет («Лоретту» Дюма прочел в книге, «Мари» услыхал от знакомого). Печатать рассказы никто не взялся. Дюма прочел их в доме земляка, типографа Сетье, хозяйка умолила мужа войти с автором в долю: каждый вносит 300 франков и получает половину прибыли. Книжка «Современные рассказы» вышла в издательстве «Сансон» 27 мая 1826 года тиражом в тысячу экземпляров, а покупателей нашлось лишь четверо. Но один из этих четверых был Этьен Араго, который вновь поместил в «Фигаро» доброжелательную рецензию, указав на недостатки: фразы сложноваты, а мысли простоваты…
Если никто не хочет нас публиковать, попробуем сами: Дюма с Левеном купили за бесценок разорившуюся газету, переименовали ее в «Психею» – «газету мод, литературы, театра и изящных искусств»: в первом, апрельском номере был помещен «Раненый орел», посвященный не военным подвигам Наполеона, а его Гражданскому кодексу, одной из первых систем гражданского права, необыкновенно прогрессивной для своего времени (он с поправками действует во Франции и поныне) – равенство всех перед законом, свобода совести и вероисповедания, гражданский брак, развод и даже авторское право. Кодекс был так удобен, и все к нему так привыкли, что Карл X не посмел отменить его целиком, но пытался делать это постатейно; Дюма защищал его. Подобные стихотворения «на злобу дня» публиковались в каждом номере «Психеи», всего было опубликовано 19 стихотворений Дюма. Газета имела успех: сам Делавинь там печатался, входящий в силу Гюго дал два стихотворения. На работе Александр этой деятельностью не хвалился, но там пронюхали, Удар ругался, Орлеанский отнесся благосклонно и, когда под его патронажем выходил альбом живописи «Литографированная галерея» с поэтическими комментариями, передал Дюма, что он может что-нибудь написать; тот выбрал художника Монвуазена, сам потом говорил, что стихи вышли – дрянь, но как упражнение полезны. Летом 1826 года театр «Порт-Сен-Мартен» взял «Свадьбу и похороны», пьеса была сыграна 21 ноября и выдержала 40 представлений. «С этого момента я принял решение… я должен был преуспеть или повеситься. К сожалению, я рисковал не одним собой; бедная мама была также втянута в эту игру».
«Психея» была неплоха, но не окупалась; в январе 1827 года, чтобы не платить налоги, Дюма и Левен газету ликвидировали и еще с тремя компаньонами основали новую – «Сильф», регистрировали ее под новым названием в конце каждого налогового года и так протянули до лета 1830 года. На работе ворчали все сильнее, Александр надерзил Удару, тот нажаловался Девиолену, знавшему, по какому месту бить: «Когда я вернулся домой после составления портфеля, я нашел маму в слезах. Девиолен послал за нею, рассказал ей, что произошло между Ударом и мною, и сказал, что весь день в конторе обсуждали мое преступление… Как раз в тот период бедная мама, которая всегда боялась, что меня уволят – а я был близок к тому, чтобы оправдать ее опасения, – испытала очередное крушение надежд». Огюст Лафарг, юноша, что первым заразил Александра стремлением к чему-то большему, чем мещанская жизнь, бросил работу, занялся литературой, наделал долгов и умер. «Напрасно я говорил маме, что Лафарг не имел способностей, что он не боролся, а сдался без борьбы; напрасно убеждал ее, что Лафарг не обладал и долей моей энергии и настойчивости; факт был тот, что он голодал, страдал и умер в лишениях».
Другой ровесник Дюма, Фредерик Сулье, тоже взялся писать пьесы, но он владел лесопилкой, и литература не мешала его бизнесу; он пытался переложить «Ромео и Джульетту», не сумел, искал соавторов. С Александром они – «так как ни один из нас не чувствовал в себе сил создать что-нибудь хоть сколько-нибудь оригинальное» – сочинили пьесу по роману Скотта «Пуритане». Скотт был в моде, ставился в каждом театре; надеялись, что пьесу «Шотландские пуритане» оценит Тальма. «Но в нас обоих было слишком много индивидуальности, и мы беспрестанно ссорились. За два или три месяца бесплодных трудов мы нисколько не продвинулись… Но я извлек пользу из этой борьбы; я чувствовал, как во мне прибавляется сил, и, как у слепого, чье зрение восстанавливается, мой кругозор, казалось, расширялся с каждым днем». Он перевел «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера – «чтобы учиться, а не для заработка», написал трагедию на античный сюжет «Гракхи»; друзья сказали, что пьесы о политике, даже если их действие происходит в 127 году до нашей эры, никто не возьмет: любое упоминание о том, что где-нибудь был плохой царь, герцог или консул, цензура считает злостным намеком на Карла X.
Мать (которую беспрестанно осаждал мерзавец Девиолен) говорила, плача, что другим клеркам повышают зарплату; надо повиниться перед Ударом… Александр повинился, просил о повышении и в феврале 1827-го получил его – 1800 франков в год, с переводом в отдел благотворительности. Работа нравилась – обходить бедных, узнавать, кому чего надо, и оклад скоро повысили до 2000 франков в год, – но мать считала ее позорной, а Девиолен внушал ей, что это наказание. Она повеселела, когда кроме Девиоленов появились другие знакомые. В Париже жил художник Гийом Летьер, знакомый отца, Александр долго уламывал мать к нему пойти, та наконец решилась, приняли их хорошо; Александр сдружился с Эженом Делакруа, стал читать о живописи. У Летьера жила воспитанница Мари Мелани д’Эрвильи, ухаживать за ней Александр не пытался, зато обсуждал медицину, которой она тоже интересовалась. Пока было неясно, для чего медицина могла ему пригодиться – он никогда не хотел стать доктором, – но он по ней с ума сходил и знакомства заводил преимущественно с врачами: знаменитым гомеопатом Кабаррю, увлекшим его своими идеями, молодым медиком, а впоследствии химиком и биологом Франсуа Распаем, врачом Луи Вероном, военным доктором Эженом Сю (тогда еще не писателем), его кузеном хирургом Фердинандом Лангле.
Жизнь докторов и ученых при Карле была несладкой. Как напишет много лет спустя Дюма в романе «Парижские могикане», «партия священников завладела настоящим и прошлым и уже потянулась расставить свои вехи в будущем». Карл сформировал еще более реакционное, чем у Людовика, министерство, куда вошли два епископа; палата, как взбесившийся принтер, штамповала один закон за другим: запретить, запретить, запретить, причем принимаемые законы наделялись обратной силой. Главное – запретить читать и писать: «закон [о печати] 1822 года, и так несправедливый и суровый, был объявлен недостаточным; Карл X… приказал придумать такой закон, который бы подразумевал негласную цензуру и был бы более обременителен для издателей, чем для писателей. На сей раз вдохновители этого закона хотели сразу покончить и с мыслью, и со средством ее выражения. Так, например, одной из статей этого закона предписывалось все рукописи в 20 страниц и более подавать за 5–10 дней до публикации. Если эта формальность не выполнялась, тираж шел под нож, а издателя приговаривали к штрафу в 3000 франков. Так издатели становились цензорами публикуемых произведений. Ответственность ложилась также на владельцев газет: штрафы были непомерные и доходили до пяти, десяти, даже двадцати тысяч франков!» (Пресса станет дороже – покупать ее будут меньше.) Законопроект представили в палату в начале 1827-го; правительственная газета «Вестник» назвала его «законом справедливости и любви» (знал ли это Оруэлл?). Из мемуаров Дюма: «Король, выступая перед депутатами, сказал: „Я обычно не обращал внимания на прессу, но с появлением привычки печатать политические статьи начались злоупотребления, которые требуют наказания. Пришла пора положить конец скандалам. Я за свободу печати, но ее надо охранять от излишеств“».
Палата голосовала «за», но столкнулась с недовольством. Поскольку для целой отрасли затронута была не только свобода, но и колбаса, восстали издатели Франции, возмутилась всегда послушная академия. «В конечном счете этот закон, закон ненависти и мести, начал приносить свои плоды. С первых же дней его обсуждения бумажные фабрики, типографии прекратили работу; перестали поступать заказы, и книготорговля оказалась в плачевном состоянии… никто больше не осмеливался заниматься рискованным ремеслом, сулившим не только потери и банкротство, но еще и штрафы, грабежи, насилие и тюремное заключение. Самое нелепое и несправедливое во всем этом было то, что кабинет министров, единственный вдохновитель проявлявшихся волнений и недовольства, под этим предлогом добивался принятия законов, способных скорее раздражить, нежели успокоить умы; именно прессу кабинет министров обвинял в том состоянии дел, в котором только он один был повинен, и у министров не было других аргументов для своих противников, кроме того, что они предъявили трем уволенным академикам: „Вы враги правительства!“».
Верхняя палата (сенат), которая обычно ничем не занималась и о которой короли вспоминали, когда нужно было сманеврировать, предложила внести в закон поправки, и правительство его отозвало (хотя чиновники и писатели, протестовавшие против него, были оштрафованы на крупные суммы). «Восторг вспыхнул в Париже, жители вышли на улицы, поздравляя друг друга, типографские подмастерья бегали с криками „Да здравствует король“, и все махали белыми флажками. Но обезумевшее правительство послало войска, были выстрелы, были раненые, и стало ясно: отзывом „закона любви“ мы обязаны не уму короля, а его испугу». Ждали парада Национальной гвардии 29 апреля: что-то будет? Национальная гвардия Парижа при монархии формировалась из зажиточных горожан-добровольцев от двадцати до шестидесяти лет, приобретавших обмундирование на свои средства; король назначал главнокомандующего и полковников, офицеров ниже чином выбирали гвардейцы. Ее функция – помогать королевской гвардии (полиции), если случатся беспорядки, в остальное время – декоративная, что-то вроде казачества, но городского и сохранившего революционные традиции, а потому способного на фрондерство. На параде Карла встретили криками «Долой Виллеля!» (премьера). В тот же вечер он гвардию запретил. «Но с этого часа дальновидные глаза могли различить приближение туч, из которых прольется гроза 1830-го».
Глава вторая
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН
Приличному человеку, впрочем, не было нужды беспокоиться. Если по закону о призывах к возмущению кому-то отрубили голову, так то, наверное, были опасные смутьяны; закон о святотатстве, не желая быть посмешищем Европы, не применяли, Париж хорошел, культурная жизнь продолжалась, и, обругав в беседе с другом «взбесившийся принтер», горожанин в хорошем настроении отправлялся в театр. Главным был Французский театр, основанный в 1680 году, закрытый в революцию и возрожденный Наполеоном; вопреки его второму имени «Комеди Франсез» играли там преимущественно трагедии (Корнель, Расин), делая исключение для юмористов-классиков, Мольера например. Главные звезды: Тальма, Фермин (Жан Бекерель, 1787–1859) и мадемуазель Марс (Анн Франсуаз Буте Сальвета, 1779–1847), до шестидесяти лет игравшая девушек. В театре «Порт-Сен-Мартен» шли комедии, мелодрамы, звезды были молодые, например Мари Дорваль (Мари Тома Делоне, 1798–1849), с двадцати лет вдова с двумя детьми; маленькая, с неправильными чертами лица и хриплым голосом, стихов и аффектированных манер не любила, на сцене держалась «как в жизни»; Дюма видел ее в «Вампире». С ней играли красавцы Фредерик Леметр (1800–1876) и Пьер Бокаж (Пьер Тузе, 1799–1863). Были еще театр «Одеон» на грани банкротства и мелкие театры типа «Амбигю комик». Все они не шли ни в какое сравнение с Французским театром. Но, чтобы туда попасть, драматург должен был соблюдать определенные правила.
Господствовал классицизм: пьеса пишется александрийским стихом (вроде нашего шестистопного ямба), состоит из пяти актов, соблюдено единство действия, места и времени, актеры не бегают, не дерутся, а встанут и декламируют, обязательна мораль: как долг берет верх над чувством. В 1822-м приезжала английская труппа играть Шекспира – ее освистали, вообще относились к Шекспиру плохо. Почему? Французский театр: ясность, точность, изящество; Шекспир: грубость, двусмысленность, бестолковость; «Гамлета» Вольтер назвал «плодом воображения пьяного дикаря». Французы также не любят фантастики, ведьмы и мертвецы им не по нраву. Поэтому пьеса Дюси, где призрак был сном Гамлета и с ума никто не сходил, шла во Французском театре 82 года подряд. Плохи были и английские актеры: кричали, носились по сцене, говорили прозой. Но вкусы менялись: когда в сентябре 1827-го Шекспира привезла английская труппа со звездами Эдмундом Кином и Гарриет Смитсон, ее встречали куда лучше; помог Вальтер Скотт, благодаря которому французы признали, что англичане не совсем чокнутые. Дюма: «Ветер поменялся на западный и принес театральную революцию». Гастроли открылись 7 сентября комедией Шеридана, на нее Александр не попал, но, отстояв полночи в очереди, взял билет на «Гамлета». Играли на английском, он языка не знал, но текст выучил заранее по переводу. «Сцена безумия, сцена на кладбище меня наэлектризовали. Только тогда я понял, какой может быть драма, и из руин моих прежних слабых попыток, разрушенных этим открытием как ударом, в моей голове начало складываться видение нового мира… Впервые я видел на сцене подлинные страсти…»
Он ходил на все лекции и выставки; приятель, Этьен Кордье-Делану (1806–1854), позвал послушать Матье де Вильнава (1762–1846), из чьей книги взят сюжет «Бланш»; он выступал в Пале-Рояле (многие его помещения сдавались в аренду) в рамках лектория «Атеней искусств». В 1839 году Дюма описал себя как слушателя: «Я никогда не мог дослушать до конца ни одного оратора или проповедника. В их речи всегда есть какой-то угол, который я задеваю, и моя мысль вынуждена сделать остановку, в то время как оратор продолжает говорить. После этого я, вполне естественно, рассматриваю предмет уже со своей точки зрения и тихонько начинаю произносить свою речь или свою проповедь, в то время как говорящий делает это громко…» О чем говорил в тот вечер Вильнав, он забыл, думая о его книге и о своей, о том, что Каррье, с которого он писал Дельмара, после очередного переворота сам расстался с головой, и «всё – зал, зрители, трибуна – изменилось: зал Атенея стал залом Конвента; мирные слушатели превратились в яростных мстителей, и вместо медоточивых периодов красноречивого профессора гремело общественное обвинение, требуя смерти и сожалея, что у Каррье только одна жизнь и ее недостаточно, чтобы заплатить за пятнадцать тысяч прерванных им жизней. И я увидел Каррье с его мрачным взглядом, полным угроз обвинителю, я услышал, как он своим пронзительным голосом кричит бывшим коллегам: „Почему упрекают меня сегодня за то, что вы мне приказывали вчера? Ведь, обвиняя меня, Конвент обвиняет себя; приговор мне – это приговор всем вам, подумайте об этом. Все вы подвергнетесь той же каре, к какой приговорят меня. Если я виновен, то виновно всё здесь; да, всё, всё, всё, вплоть до колокольчика председателя!..“».
Делану представил друга Вильнаву и его семье, в тот же вечер Вильнавы пригласили его в гости, и он влюбился в их дочь, тридцатилетнюю Мелани Вальдор, жену военного, мать двухлетней дочки. Изящная шатенка, образованная, возвышенная, пишет стихи, муж служит далеко (и она его не любит); живет с родителями и хозяйничает в литературном салоне отца. Почти все биографы датируют знакомство с Вильнавами июнем 1827 года (так утверждала Мелани), но, вероятно, ошибаются; Дюма писал, что это произошло во время гастролей англичан, да и «Атеней искусств» летом не работал. Первое письмо Александра Мелани датировано 7 сентября (большинство не датированы, и каждый исследователь относит их куда захочет), и это свидетельствует в пользу версии, что встреча состоялась в сентябре: не в его характере было ждать три месяца и не писать, а вот Мелани было невыгодно признаться, что она так скоро пала, – отсюда указание на июнь. «Забудьте мое вчерашнее безумие и мою откровенность, решительность, с которой вы отвергли мысль, что наша дружба может стать чем-то большим, почти излечила меня», – писал он 7 сентября, а уже 12-го: «Теперь я обладаю твоим доверием, я получил твои признания, у меня есть ты!.. Я буду везде, где будешь ты, я могу появляться во всех ваших салонах, эти равнодушные глупцы и не заметят, что я прихожу только ради тебя. Но теперь ты не будешь задыхаться, меня не будет бросать в дрожь, теперь нам обоим надо жить». 22 сентября они стали любовниками, видеться сложно, зато переписка бурная, она терзалась, он утешал: «Давай будем наслаждаться любовью в нашем с тобой маленьком мире для двоих, не будем обращаться мыслями к внешнему миру, где радость смешана с болью». Заметим, что письма Дюма, особенно женщинам – редкий случай для писателя, – не дают представления о его индивидуальности, словно составлены по шаблону: такое впечатление, что к переписке (исключение – письма детям) он относился как к рутине, которую должно совершать по установленным правилам. «Мелани, моя Мелани, я тебя люблю как безумный… тысячи поцелуев горят на твоих губах…»
Она хотела писать, он радовался. Никогда ему не будут нравиться домохозяйки – только женщины, занятые литературой или театром. Он печатал ее стихотворения в «Сильфе», один раз свое подписал ее именем. Она поддерживала в нем стремление к успеху, и салон Вильнавов ему помогал: новых знаний набраться, в «тусовку» попасть. Ее отец знал всех и вся, владел бесценной коллекцией книг, рукописей; человек, правда, был тяжелый, и с ним Александр не сошелся. Но в тот период Вильнав уже редко заходил в гостиную, салоном заведовала Мелани, знакомившая друга с занятными людьми: старая герцогиня де Сальм, первая француженка, учившаяся в лицее, наполеоновский генерал де Сегюр, бывший послом при дворе Екатерины II (рассказывал о России), художники, политики, ученые. Врач Мелани (все дамы из общества были чем-нибудь больны) Пьер Валеран де ла Фоссе сам держал салон, Александр у него бывал, там встретил знакомую по дому Летьера Мари д’Эрвильи, вышедшую за доктора Хайнемана и тоже ставшую врачом: над ней посмеивались, но Александру нравилось, что женщина при деле. 9 ноября на выставке он увидел скульптуру Фелисье де Фаво, изображавшую шведскую королеву Христину с любовником. У него бывало, что картина, скульптура или музыка вызывали желание облечь их в слова, он полез в справочник «Всеобщая биография» и узнал, что Христина Августа (1626–1689), вынужденно отрекшаяся от трона и претендовавшая на ряд европейских престолов, в 1654 году в Фонтенбло приказала убить своего конюшего (а фактически – посланника во Франции) Мональдески. Французы решили не связываться и отпустили ее в Рим. Современники считали, что она убила Мональдески из страсти, нынешние историки полагают, что это была месть за политическое предательство. Дюма решил, что было и то и другое.
Он боялся не справиться, предложил соавторство Сулье, тот сказал, что сам уже пишет «Христину». Дюма отступать не захотел, свою пьесу назвал «Христина в Фонтенбло»: будет единство действия, пять актов, александрийский стих. Он применил метод, который станет использовать всегда: продумывал диалог в уме, рассказывал кому-нибудь, потом записывал. Редко кто может так работать, но его исключительная память позволяла. Но прежде чем писать, нужно много читать; он набросал лишь один акт к январю, когда его перевели из собеса в архив. Это считалось ссылкой, но ему нравилось: Бише, заведующий архивом, засадил новичка за каталог, а обнаружив, что тот выполнил месячный объем работы за три дня, сказал, что больше работы нет и можно заняться чем угодно. «Теперь мои вечера были свободны, и я как следует взялся за Христину… Я верил в свои способности, чего не было раньше, и смело кинулся в неизвестное. Но в то же время я не скрывал от себя трудностей профессии, которой посвятил жизнь; я знал, что она более всякой другой требует углубленных и специальных занятий, что, прежде чем начать экспериментировать с живым, нужно долго изучать мертвое». Стал читать Шекспира, Мольера, Шиллера и «препарировать» их: «Через некоторое время я понял, как они заставляли работать нервы и мускулы, какие разновидности плоти они создавали, чтобы облечь ею скелет, как должна циркулировать кровь, проникая до самого сердца, каким восхитительным механизмом они приводят в движение нервы и мускулы… Я рассчитывал, что одновременно с работой смогу завершить и мое драматическое образование. Но это – ошибка, работа однажды может быть закончена, но образование никогда!»
Через два месяца «Христина» близилась к финалу, но Удар зашел в архив, увидел, что сотрудник пишет стихи, и перевел его в Департамент леса, в хозотдел: в комнате шесть клерков, шум, болтовня, анекдоты. В отдельной каморке хранились канцтовары и был лишний стол, Александр его занял, клерки заявили, что так не положено, ссора, драка, начальник отдела сказал, что новенький отстраняется от работы, а когда Девиолен вернется из командировки, ему доложат. «Мне сказали, что мое намерение сесть за тот стол – чудовищно». Он пошел к Удару – тот его прогнал, дома рассказал матери – она помчалась к жене Девиолена, та «не могла понять, как клерк может иметь какие-либо амбиции, кроме как стать клерком первого класса, как клерк первого класса может желать чего-либо, кроме как сделаться помощником старшего клерка, как помощник старшего клерка может стремиться к чему-либо, кроме как быть старшим клерком, и т. д.», но обещала вступиться. Александр написал объяснительную, приехал Девиолен и после скандала разрешил сидеть в каморке. В марте 1828 года «Христина» была окончена. «Я был так же смущен этим событием, как девушка, которая родила незаконного ребенка. Что делать с моим созданием, рожденным вне институтов и академий: задушить, как его старших братьев и сестер? Если бы хоть Тальма был жив! Но он умер, и я не знал никого…»
Знакомый суфлер посоветовал пойти к барону Исидору Тейлору – археологу, меценату, королевскому куратору Французского театра (там не было директора, актеры были пайщиками труппы). Как к нему попасть? Тейлор работал с Нодье, Александр вспомнил, как пять лет назад познакомился с последним, написал умоляющее письмо, тот припомнил (в Париже было не много мулатов, расхаживающих по театрам) и с Тейлором свел. «Христина» барону понравилась, он рекомендовал ее театральному комитету, 30 апреля – читка, понравилось всем «основоположникам»: свежо, но прилично и строго по форме. Но нужны поправки («герой не застрелился, а закололся», «вместо жены должна быть мать» и т. п.), их сделает заслуженный драматург Пикар. Тот сказал, что пьеса безнадежна, Тейлор настаивал, и «Христина» была принята с условием, что актер Самсон доработает ее вместе с автором. «К счастью, после этого разговора я Самсона больше и в глаза не видел, говорю к счастью, потому что все эти скандалы привели к тому, что я пьесу всю переписал и это пошло ей на пользу». Еще две читки, приняли, но 30 мая отказала цензура, усмотрев намек на современность. К тому времени до Орлеанского дошли слухи, что его сотрудник написал пьесу, вероятно хорошую, раз ее взяли во Французский театр; он по своим каналам нажал на цензурное ведомство, и 13 июня «Христину» разрешили к постановке; королева – мадемуазель Марс, Мональдески – Фирмен.
Нужно понять, как был устроен театр того времени. До середины XIX века режиссеров в современном понимании не было. «Концепции» спектакля не существовало, классика ставилась по канонам, остальное – «как написано», мизансцены, трактовка роли – как актер захочет. Теоретически ставил пьесу сам автор. Но если он был молод или нетверд характером, верх над ним брали «звезды» и «основоположники»; если же сопротивлялся, получалась беспрерывная ругань. Дюма был кроток, таким садились на шею, Марс требовала переписать ее реплики, он возмутился, она перестала ходить на репетиции, другие актеры капризничали. Но в этом бедламе обнаружился неожиданный плюс – служебные романы. Первой возлюбленной, как считают большинство биографов, стала актриса-травести Луиза Депрео, за ней – Виржини Бурбье, будут и еще – не без счету, как впоследствии гласила молва и как утверждал он сам, но десятка два наберется; большей части этих романов подходит слово «интрижка», хотя письма были так же пылки, как к Мелани, которой он писал в тот период: «Ах! Как бы я хотел, чтоб у тебя не было ни семьи, ни состояния, заменить тебе семью и состояние и весь мир, быть всем для тебя, как ты все для меня, жить или умереть свободно, не вызывая ни слез, ни улыбок общества, быть чужими этому обществу, странниками; но все это мечта, мираж…»
Пока репетировали «Христину», он нашел в «Истории Франции» Луи Анкетиля новый сюжет. Король Генрих III (середина XVI века), как считалось, был гомосексуален и имел множество «миньонов», один из которых, Поль Сен-Мегре, был любовником жены герцога де Гиза, оппозиционера. Узнав об этом, Гиз, сам неверный муж, жену не любивший, предложил ей выбрать способ смерти – яд или кинжал. Она выпила яд, а потом муж признался, что это бульон. Но любовника убил; по тогдашним понятиям он был вправе, и даже король не мог ему предъявлять претензии. Александр поселился в библиотеке, стал копать, обнаружил у этого дела политическую подоплеку, а в «Журналах правления Генриха III и Генриха IV» Пьера де л’Этуаля нашел эпизод из той же эпохи; граф де Монсоро заставил неверную жену вызвать любовника на свидание, где его убили. Прекрасное дополнение к основной истории. Отличные характеры, особенно де Гиз – «настоящий мужик», любимец народа, готовый на все, чтобы стать королем. Писать решил по-новому, как уже пытались писать Мериме и Гюго, только что опубликовавший пьесу «Кромвель»: действие в разных местах, вместо стихов – проза.
Действие пьесы длится два дня – 20 и 21 июля 1578 года. Первый акт: мастерская Руджери, астролога Екатерины Медичи, антураж колдовской, а разговор политический: королева хочет, чтобы ее сын Генрих избавился и от Гиза (конкурента), и от Сен-Мегре (шалопая); почти весь акт главные герои не появляются, зато зритель сразу узнает все их взаимоотношения. Екатерина подстроила свидание Сен-Мегре с женой Гиза, а тот нашел (привет Шекспиру) ее платок в комнате Сен-Мегре. Второй акт: Лувр, Генрих с фаворитами острит и щебечет, вдруг является – прямо с войны, в помятых латах – де Гиз, составляя контраст с этим цветником. Гиз убеждает короля создать партию «Католическая лига» и сделать его главой партии. Король раздумывает, а тем временем Сен-Мегре «достает» Гиза, итог – дуэль, назначенная на завтра. Третий акт открывается комической сценой в комнатах Гизов: паж герцогини расхваливает ей Сен-Мегре, в которого сам влюблен. Как в предыдущем акте, влетает мрачный Гиз; жену – тут Дюма историю переделал по-своему – принуждает выбрать не из двух способов смерти, а между смертью (яд) и жизнью (замани любовника в ловушку, я все прощу); она предпочитает смерть, пытается выхватить у мужа стакан с ядом, но тот так грубо, что она кричит от боли, выкручивает ей руки (вещь абсолютно немыслимая в классическом театре) и заставляет писать записку о свидании. Акт четвертый: Лувр, король умоляет Сен-Мегре быть осторожнее на дуэли и дает ему талисман, хранящий «от огня и железа», а тому не до короля с его докучной любовью, он рвется на свидание с женщиной. Финальный акт: на свидании герцогиня признается любовнику, что погубила его, и устраивает ему бегство через окно. Она ждет; входит довольный муж. Ему кричат снизу (там – двадцать убийц), что Сен-Мегре еще жив (действует талисман), и он бросает убийцам платок жены, чтобы жертву задушили (от этого талисман не хранит). От оружия, принадлежащего вам, смерть будет приятнее, с жестокой улыбкой говорит герцог жене…
Александр назвал пьесу «Генрих III и его двор», читал отрывки друзьям, всем нравилось. Внезапный удар: Французский театр принял «Христину» драматурга Бро, обещали, что дойдет черед и до его «Христины», он не поверил, но духом не пал, так как уже был поглощен новой работой. «Я написал с тех пор пятьдесят драм, и ни одна не была лучше „Генриха III“, которого я написал в 26 лет». Шлифовал персонажей: Гиз не такой уж «правильный», он не только жесток и хитер, но и подловат: дуэль с Сен-Мегре, искусным бойцом, его пугала, и он нанял киллеров; женщина – как в жизни: она готова выпить яд, но сдается под угрозой побоев. Пьеса окончена в августе 1828 года, первое чтение у Вильнавов, актер Фирмен предложил устроить читку для основоположников и основоположниц – мадемуазель Марс будет отстаивать пьесу, где есть для нее роль (Екатерины? Как бы не так – молодой герцогини); так и вышло. 17 сентября театр принял пьесу без поправок, но произошла утечка информации, 20-го в «Театральном курьере» Шарль Морис написал, что Французский театр сошел с ума, намереваясь ставить «вредную и безнравственную» пьесу с намеками. Где намек, ведь Карл X не был ни гомосексуален, ни слабоволен, как Генрих? А вот где: в XVI веке короля хотел сместить сильный оппозиционер и сейчас хочет (Орлеанский); тогда на Генрихе закончилась династия (Валуа) и теперь может закончиться (Бурбоны); тогда король в конце концов убил Гиза и сам был убит, сейчас, понятно, такого быть не может, но…
Дюма ответил в той же газете, что ни на что не намекал, просто рассказал об историческом факте (врал: он и вся труппа хотели, чтобы актеры были загримированы немножко под Карла и Орлеанского). Цензура пьесу пропустила. Но на репетициях опять пошли скандалы, точь-в-точь по Булгакову: пьеса так хороша, что все основоположники хотят играть, а ролей нет. Марс пажом видела актрису Менжо, а Дюма – свою любовницу Депрео; она требовала, чтобы Генриха играл актер Арман, а Дюма хотел актера Мишло, потому что Арман был геем и в его исполнении Генрих выглядел бы карикатурно. В итоге Армана отстранили, Марс обиделась. «Временами мне казалось, что я схожу с ума, и у меня появлялось искушение все бросить». Отлучки на репетиции повлекли неприятности на работе: Дюма вызвали на ковер и, как герцогине Гиз, предложили выбор: прекратить прогулы или взять отпуск за свой счет. Он выбрал отпуск, но на что жить? Фирмен привел его к банкиру Жану Лаффиту, другу Орлеанского, тот выдал ссуду в три тысячи франков. Мать так и не смогла понять, кто же это дает ее сыну такие деньги и почему.








