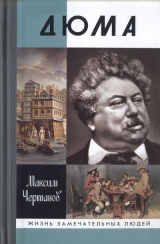
Текст книги "Дюма"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
«Отверженные»: «Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну… Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет… Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость». Дюма: «Кто стрелял? Невозможно ответить, мы сами этого не знали. Это вечный вопрос, который история задавала множество раз без шанса получить точный ответ…» Вообще настроен он был не романтически – и чувствовал себя паршиво, и все было непохоже на происходившее два года назад. Толпа была злее, шутки (если то были шутки) – циничнее: он слышал, как студенты предлагали убить Лафайета и сказать, что это сделано по приказу короля.
Конная полиция стояла терпеливо под градом камней, несколько полицейских были ранены, послали за подмогой, второй отряд попал под огонь и, не разобравшись, врезался в группу безобидных людей. Женщины визжат, толпа – врассыпную, всюду вой, стрельба; кричат «К оружию!», разбивают фонари, толпа под натиском полиции хлынула из центра к пригородам, гроб Ламарка, всеми забытый, стоял перед Пантеоном. Спутники Дюма испарились. Площадь Бастилии занята войсками, бульвары пусты. Он пошел на улицу Менильмонтан, где жили Тома и Бастид. Возле дома баррикада, один человек ее охраняет, остальные ушли поесть. Где вообще все?! Александр повернул к театру «Порт-Сен-Мартен», наткнулся на отряд Национальной гвардии, там знакомый парень в него целится. «Я подумал, что это шутка, и шел дальше… вдруг пуля просвистела у моего уха». Вбежал в здание театра: вечером должна идти «Нельская башня», Арель в отчаянии. Александр бесился из-за знакомого, что в него стрелял, хотел застрелить его, потребовал у Ареля оружие (из реквизита), тот не дал. Поднялся на второй этаж, сел у окна. Мальчик кинул камень в солдата, мать отвесила ему оплеуху. «Я опустил голову. „Женщины не с нами в сей раз, – сказал я; – мы пропали!“»
В театр ворвалась группа людей, выпросили у Ареля 20 ружей, обещали вернуть по окончании революции, то есть завтра. У Александра опять проблема с одеждой, в форме Национальной гвардии ходить опасно, никто не знает, на чьей она стороне, выстрелят не те, так эти. Послали на квартиру гонца, тот принес обычный костюм. Александр пошел к Лаффиту: там совещаются оппозиционные депутаты, возле дома толпятся зеваки, рассказывают, что повстанцы заняли на правом берегу Арсенал, мэрию, оружейный завод, на левом – казармы, тюрьму Сен-Пелажи, пороховой погреб. Баррикады всюду, сочувствующие приносят на них еду и деньги. И не понять, кто руководит. Шарль Жанно, национальный гвардеец, перешедший на сторону повстанцев и оборонявший главные баррикады – на углу улиц Сен-Мерри и Мобюэ, – в мемуарах перечислял своих случайных соратников: молодые рабочие, студенты из Политеха и юридического, несколько офицеров, просто какие-то люди, которым «все осточертело», польские и итальянские беженцы. Историки оценивают состав повстанцев: 34 процента – лавочники и чиновники, 66 процентов – рабочие, преимущественно строители, у которых в те дни проходила забастовка. Кого на сей раз почти не было, так это «креативного класса»: он был представлен лишь несколькими сотнями студентов. Будут ли войска и полиция переходить на сторону восставших? Правительство объявило сбор Национальной гвардии с опаской, но гвардия была на его стороне. Гюго: «Какой-нибудь кабатчик… чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир».
У Лаффита ждали Лафайета, наконец он появился, больной и усталый, отделался заявлениями, что он «с народом». «Лаффит сказал, что мы должны объявить о смешении короля и назначить временное правительство, и спросил Лафайета, подпишет ли он обращение? Да или нет?». Тот сказал «да», но остальные промолчали. Лаффит сказал, что было бы хорошо, если бы был Этьен Араго, он бы что-нибудь придумал, а так… «Я понял, что никто не собирается ничего делать и ночь пройдет в дискуссиях. Я ушел: это было легко, потому что я был маловажной персоной и никто, наверное, даже не заметил моего отсутствия… У меня не было оружия. От лихорадки я едва держался на ногах. Я поймал кабриолет и поехал домой…» Поднимаясь по лестнице, он упал, его подобрали Белль и горничная. Биографы не верят. Струсил и притворился больным. Всегда-то он врет.
Утром 6 июня он узнал от соседей: всех арестовывают, кругом обыски, баррикады уничтожили еще до полуночи (артобстрел, потом зачистка), держится одна большая баррикада на Сен-Мерри, человек пятьсот. Король вернулся из Сен-Клу. Александр поехал к Этьену Араго, того нет, родители волнуются – не ночевал. Вскоре он явился, мрачный, спросил, на какой баррикаде провел ночь Дюма, тот стыдливо ответил, что болел. Сам Араго, по его словам, был на той баррикаде, что у дома Бастида и Тома. (Подтверждения этим словам историки не нашли.) Поехали в «Национальную». Сен-Мерри еще держится. Араго послал Дюма за новостями к Лаффиту. Во дворе толпища, внутрь не попасть. Встретил знакомого, астронома Савари, стояли, ждали. Через час вышел Франсуа Араго, сказал, что депутаты решили послать к королю делегацию, чтобы «выступить с осуждением вчерашних беспорядков. Это было встречено ужасом и презрением… Лафайет также отказался идти к королю. Ему ехидно сказали, что он недавно называл Орлеанского лучшим из республиканцев…» Луи Блан, «История десяти лет»: «Выйдя во двор, Араго встретил там Савари и Александра Дюма… те продолжали свои страстные речи, полные горечи, утверждая, что Париж только и ждал сигнала к восстанию…» Наконец депутаты объявили, что делегацию пошлют, но не с осуждением восстания, а с просьбой о милости к его участникам. Дюма пошел в кафе, ждал. Услышал: «Да здравствует король!» Проехал королевский кортеж, сопровождаемый гвардейцами и толпой, которая выла: «Долой республиканцев!» Что толку винить депутатов? Он поплелся домой и лег спать.
После проезда кортежа маршал Себастиани получил приказ уничтожить баррикаду на Сен-Мерри. (Именно там был убит Гаврош.) Артиллерия била по жилым домам. Раненых сбрасывали с крыш. Добивали в квартирах. Общее количество потерь за два дня: Национальная гвардия – 18 убитых, 104 раненых; регулярная армия – 32 убитых, 170 раненых; полиция – 20 убитых, 52 раненых. Со стороны горожан, по оценкам историков, убито было от 80 до 100 человек и ранено от 200 до 300 человек. Погуляли… Франсуа Араго, Лаффит и Барро пришли к королю, сказали: все случилось из-за реакционных законов и несправедливых судов. Король ответил, что реакционных законов и несправедливых судов в стране нет, а есть только безответственные оппозиционеры, мечтающие о терроре. Переговоры? Их вести не с кем и не о чем. Мятеж подавлен. Экстремисты получат по заслугам.
В городе объявили осадное положение, арестовали 1500 человек. Гюго написал: «Не срывают в мае фрукты, что спеют в июле. Будем ждать. Провозглашение республики во Франции и Европе увенчает наши седины. Но нельзя, чтобы безумцы запятнали наше знамя кровью». Дюма сел дописывать «Сына эмигранта» и тут получил записку от Этьена Араго: могут посадить. Вообще набор арестованных был странный: в тюрьму угодили легитимисты Шатобриан и не снявший шляпу Фиц-Джеймс, а Кавеньяк с Араго остались на свободе; основную массу составили люди случайные. Александр отнесся к предостережению серьезно: «Я был в форме артиллериста на похоронах, я участвовал в раздаче оружия в Порт-Сен-Мартене…» Шопп и Циммерман считают, что опасность ему не грозила – просто трус. Однако в мемуарах он приводит документ, найденный в архивах Пале-Рояля в 1848 году – донесение полицейского агента Бине от 2 декабря 1831-го. Шпик следил за бывшим полицейским Вере, которого подозревали в нелояльности, и записал, кто к нему ходит, в частности «г-н Александр Дюма… республиканец в полном смысле слова…». Вроде ничего особенного, но арестовали же почтенного Шатобриана… Еще до мятежа арестовывали за статью в газете или появление не в той одежде, а теперь хватали всех, кто был 6 июня на площади Бастилии. Легко презирать, когда живешь во времени и в месте, где подобное непредставимо. Бастид, к примеру, бежал в Лондон, и никто его трусом не называет.
Александр еще колебался, но 9 июня прочел в «желтой» газете, что его взяли на баррикаде и уже расстреляли; жаль талантливого драматурга. «В первый раз газеты написали обо мне что-то хорошее». Он получил у Ареля аванс за «Сына эмигранта», еще три тысячи франков занял, подал документы на загранпаспорт для себя и Белль, заключил с «Обозрением двух миров» договор на путевые заметки. 10 июня Каррель в «Национальной» обвинил полицию в том, что она спровоцировала беспорядки, напав на безоружную толпу, но правительство было иного мнения. Уже 18-го состоялись первые суды (военные, ускоренные) по «делу 6 июня». Приговоры были так же странны, как и аресты. Шатобриан и Фиц-Джеймс отделались пятнадцатью сутками, это ладно, но Дюшапель, зачинщик мятежа, был выпущен через месяц. Художник Мишель Жоффруа был приговорен к казни за то, что нес красный флаг (как после выяснилось, его вообще спутали с другим человеком). Его защитник Одийон Барро подал апелляцию в Верховный суд и выиграл, дело передали в суд присяжных, Жоффруа получил два года ни за что, но все лучше, чем расстрел. 21 июля Александр и Белль уехали в Швейцарию. «Путешествовать – значит жить во всей полноте этого слова, забыть прошлое и будущее ради настоящего… искать в земле никем не тронутые залежи золота, а в воздухе – никем не виданные чудеса…» Он ведь еще не бывал за границей. Как там? Не везде же так гадко правители правят, а люди живут, как у нас?
Глава пятая
СМЕРТЬ МУШКЕТЕРА
Девиз «Один за всех и все за одного» родился в XIII веке, когда швейцарские общины заключили союз против австрийской династии Габсбургов, завоевали независимость и стали конфедерацией. Конституция, парламент, свобода печати – рай эмигрантов… Вояж Дюма продолжался три месяца по маршруту (путешественники забирались также на территорию Франции, Австрии, Германии и Италии) Монтре – Шалон – Лион – Женева – Лозанна – Бекс – Мартиньи – перевал Сен-Бернар – Аоста – Шамбери – Экс-ле-Бен – Женева – Лозанна – Фрайбург – Берн – ледник Розенлау – Интерлакен – перевал Жемми – Луэш – Чертов мост – Люцерн – Цюрих – Оберсдорф – Констанц и был описан в серии очерков «Путевые впечатления: Швейцария». Рассказчик оказался на редкость добросовестным: не пропустил ни одной библиотеки, осмотрел могилы и дома-музеи знаменитостей; если писал о какой-нибудь войне – ехал на место битвы, чтобы проверить топографию (там ли стоит мост, как пишут в книгах, может, не справа, а слева, это важно); видел соляные копи – писал очерк о соледобыче; попал в горы – изложил геологические теории их происхождения, услыхал о школе для слепоглухонемых детей – побывал на уроках, описал технику преподавания…
«Швейцария» – первоклассный путеводитель. «Дневная плата за человека, лошадь и коляску – 10 франков; но, так как в эту же сумму обходится обратный путь порожняком, нужно рассчитывать на 20 франков, добавив к ним „trinkgeld“ (чаевые) для извозчика…» Женева: «3000 ее рабочих насыщают украшениями всю Европу; в их руках меняют свою форму 74 000 унций золота и 50 000 унций серебра в год, и их зарплата достигает 25 000 000 франков». Кухня, политика, география, лингвистика, промышленность, архитектура, легенды, вставные новеллы – все сливается в плавно текущее повествование. «Хорошенький городок Аоста не принадлежит, по мнению его жителей, ни к Савойе, ни к Пьемонту; они утверждают, что их территория входила некогда в состав той части империи Карла Великого, которую унаследовали Стралингенские сеньоры. В самом деле, хотя горожане и несут воинскую повинность, они освобождены от всяких налогов и сохранили за собой право охоты на близлежащих землях; во всем же остальном они подчиняются королю Сардинии… Помимо отвратительного местного диалекта – по-моему, он не что иное, как испорченный савойский язык, – характер городка чисто итальянский; внутри зданий обои и деревянная обшивка стен заменены фресковой живописью, а трактирщики неизменно подают вам на ужин какое-то месиво и нечто вроде сбитых сливок, высокопарно величая это макаронами… На архитектуре городской церкви отразился характер веков, когда ее строили и реставрировали. Портал ее выдержан в римском стиле, несколько видоизмененном под итальянским влиянием; окна стрельчатые и, вероятно, относятся к началу XIV века… Первое, что мы услышали, остановившись на городской площади, был возглас: „Да здравствует Генрих V!“ Я высунул голову из окошка кареты, решив, что в стране, управляемой столь нетерпимым правительством, не премину увидеть арест легитимиста, рискнувшего публично выразить свое мнение. Я ошибся: ни один из десяти-двенадцати карабинеров, которые расхаживали по площади, не сделал ни малейшего движения, чтобы схватить виновного».
Интересные встречи случились под конец путешествия. В конце сентября в Люцерне Дюма посетил эмигрировавшего после ареста Шатобриана (тот о нем слышал, но знакомы они не были). Поговорили о политике, классик назвал революцию 1830 года «грязной» и заявил, что хочет видеть на престоле сына герцогини Беррийской; Александр убежал, чтобы «не портить мое почти религиозное чувство к великому человеку». А в октябре в замке Арененберг близ Констанца его приняла Ортензия де Богарне, падчерица и невестка Наполеона, экс-королева Голландии, и у них состоялся разговор, который Дюма привел в мемуарах и в реальность которого слабо верят, ибо Ортензия его не подтвердила (но и не опровергла).
Она спросила, республиканец ли он. Ответ: есть четыре типа республиканцев. «Одни говорят о рубке голов и разделе собственности; они невежественны и безумны… они бессмысленны; никто их не боится, потому что они устарели. Луи Филипп делает вид, что дрожит от страха перед ними, и был бы очень раздражен, если бы они не существовали… Они – колчан, из которого он берет свои стрелы». Вторые «хотели бы для Франции швейцарской конституции, не учитывая ее особенностей… утописты, кабинетные теоретики». Для третьих «их убеждения – это модный галстук, это крикуны и клоуны, они провоцируют восстания, но боятся принять в них участие, возводят баррикады, а умирать на них предоставляют другим, компрометируют других и прячутся, словно скомпрометировали их». И четвертые – «благородное братство, которое распространяется на каждую страну, которая страдает; они пролили кровь в Бельгии, Италии и Польше и возвратились, чтобы быть убитыми… пуритане и мученики, их единственный недостаток – молодость… Мое сочувствие всецело с ними. Но… в течение целого года я был погружен в прошлое и теперь вижу, что революция 1830-го заставила нас продвинуться – хоть на шаг – от аристократической монархии к буржуазной, и эта монархия – этап, который надо прожить, прежде чем дойти до народовластия. Отныне, сударыня, не делая ничего, дабы приблизиться к власти, от которой я отдалился, я перестал быть ее врагом и спокойно наблюдаю за развитием периода, конец которого надеюсь увидеть; аплодирую хорошему, протестую против дурного, то и другое – без энтузиазма и без ненависти». (Где он там нашел, чему аплодировать? Ну вот, например, Гизо в роли министра просвещения ввел бесплатное начальное образование.)
Экс-королева якобы спросила Дюма, что он посоветует ее 24-летнему сыну, племяннику Наполеона, если тот хочет прийти к власти. Шарль Луи Бонапарт, проведший юность в эмиграции, слыл демократом и одновременно «крутым парнем» и успел в 1831 году отметиться участием в заговоре итальянца Менотти, желавшего освободить Рим от светской власти пап; восстание провалилось, юноша бежал во Францию, был оттуда выслан; его старший брат умер, юный сын Наполеона – тоже, и Луи остался единственной надеждой бонапартистов. Он опубликовал брошюру, в которой говорилось, что Франции нужна «империя с республиканскими принципами»; удивительно, но на подобную ахинею всегда клюют умные люди, как, например, Каррель. Дюма ответил: «Я советовал бы ему… просить отмены изгнания, купить землю во Франции, избраться депутатом, попытаться получить большинство в палате и воспользоваться этим для того, чтобы низложить Луи Филиппа и быть избранным королем». Сам он хотел видеть королем Фердинанда и из Райхенау, где тот учился в школе, послал ему письмо: «Вы – тот, кто с трона, на который однажды взойдет, будет одной рукой касаться дряхлой монархии, а другой – юной республики».
За три дня в замке он начитался французских газет: сформировано новое правительство, председатель – Никола де Сульт; Тьер – чудны дела твои, Господи! – министр внутренних дел. Завершались процессы по «делу 6 июня»: ко всеобщему изумлению, было вынесено 82 обвинительных приговора, семь – смертных (во Франции за политику не казнили с времен Людовика XVIII). «Я шел, видя перед собой кровавые сцены июля, слыша крики и выстрелы, шел, как тяжелобольной, поднявшийся с постели и бредущий в бреду в сопровождении призраков смерти». Он описал два самых громких приговора: Лепаж, 24-летний грузчик, приговорен к казни за «подстрекательство», хотя он едва мог связать два слова; Кюни, тридцатилетнего повара, казнят, так как полицейский сказал, будто он в него выстрелил. (Луи Филипп не был маньяком: он заменил казни тюремными сроками, некоторые, правда, в тюрьме умерли, но кто-то дожил и до помилования.) В то же время Жан Батист Пейрон, человек с флагом, вместо которого чуть не казнили Жоффруа, был признан невменяемым и получил месяц тюрьмы. Если невменяемый, за что же месяц? Наверное, полицейский провокатор. А главная часть процесса еще идет – судят бойцов баррикады Сен-Мерри, министр юстиции Феликс Барт, в 1830-м бегавший по баррикадам адвокат-правозащитник, требует смерти повстанцам. «Революцию 1830 года сделали те самые люди, которые двумя годами позже будут убиты. Их стали называть иначе, потому что они не изменили принципам; были героями, стали мятежниками. Только предатели всех мастей ни при какой власти мятежниками не бывают».
Новых арестов не было, «креативный класс» никто не трогал, Дюма решил возвращаться. Нужен заработок. «Муж вдовы» во Французском театре идет отлично, но «Сын эмигранта», поставленный 28 августа в «Порт-Сен-Мартене», снят после первого представления, газеты ругают Ареля и автора за «несвоевременную постановку»; кровавые сцены, «Марсельезу» поют, разве можно в такие-то дни! Он приехал в Париж 20 октября и сразу попал на процесс Сен-Мерри. 22 обвиняемых утверждали, что полиция загнала их в ловушку и они были вынуждены отстреливаться, но один, Шарль Жанно, заявил, что шел на баррикаду сознательно, как и два года назад, когда правительство спровоцировало войну против народа. Адвокаты хорошо поработали, подняли шум, 15 человек оправдали, Жанно и еще семеро получили сроки; Жанно умер от туберкулеза в 1837 году. 6 ноября в Нанте взяли герцогиню Беррийскую, восхваляли за это Тьера, а 22-го он (автор революционных прокламаций, участник переворота, интеллигент-либерал) запретил пьесу Гюго «Король забавляется» (намеки!) и объявил о возвращении цензуры. Гюго подал в суд, Дюма на процессе не был (отношения между ними испортились из-за ссоры Иды Ферье с подругой Гюго Жюльеттой Друэ), но речь коллеги воспроизвел в мемуарах. «Мы находимся в одном из тех периодов общей усталости, когда в обществе становятся возможными все виды деспотизма… одни измотаны, другие бежали, многим требуется передышка… в обществе разливается странный страх перед всем, что движется, говорит и думает… правительство извлекает незаслуженную выгоду из этой передышки, этого страха перед новыми революциями… Если этот дикий закон будет принят, у нас отнимут все права. Сегодня суд отнимет мою свободу поэта; завтра жандармы отнимут мою свободу гражданина; сегодня они затыкают мне рот, а завтра они поставят меня по стойке смирно; сегодня осадное положение введут в литературе, завтра – в обществе… Но было бы ошибкой думать, что люди стали безразличны к свободе, – они просто устали. И однажды всем беззакониям будет предъявлен счет…»
Гюго проиграл процесс. Но суды присяжных порой решали дело в пользу свободы слова. Дюма вспоминает процесс газеты «Корсар», «которая написала о 6 июня с нашей точки зрения и была обвинена в призывах к восстанию»; главного редактора оправдали, а несколько дней спустя по аналогичному обвинению оправдали газету «Трибуна». Зато в очередной раз отправили под суд «Общество друзей народа», все по той же 291-й статье – больше двадцати не собираться, за нарушение – от трех месяцев до двух лет. Обвиняемые заявили, что их 19, присяжные сочли, что их было больше двадцати и собирались они незаконно, и… оправдали. («Общество» распалось на ряд организаций, самой влиятельной стала «Лига прав человека»: Араго, Луи Блан, Бланки, Кавеньяк и восходящая звезда политической адвокатуры Александр Ледрю-Роллен.)
Дюма читал отчеты о процессах, сам на них ходил редко. «Люди стали больны от политики и я тоже…» Карьера шла под откос, друзья ругали за «Сына эмигранта». «Как будто я написал что-то непристойное… газеты меня уничтожили… директора театров меня не узнавали при встрече… Я решил на время бросить театр. Кроме того, я хотел закончить „Галлию и Францию“. Я был профаном в истории, я хотел изучать историю, чтобы учить других, но больше учился сам… но таким образом я получил преимущество: я двигался по истории случайно, как человек, заблудившийся в лесу: он потерялся, да, но он натыкается на неизвестные вещи, пропасти, куда никто не спускался, и горы, которые никто не измерил…» От нашествия Аттилы до Наполеона все безумно интересно, и так мало из этого интересного знает публика, не читавшая труды историков: «Я понял, что должен сделать для Франции то, что Вальтер Скотт сделал для Шотландии: красочное, живописное и драматическое описание…» Он опубликовал отрывки в «Обозрении двух миров» в конце 1832 года – они прошли незамеченными, друзья смеялись над его замыслом, и он отвлекся на «Швейцарию». В начале 1833-го ездил на охоту в имение поэта-сатирика Огюста Бартелеми, вернулся – начала публиковаться «Швейцария», приняли ее мило, и газеты перестали его ругать. Вообще всем было не до него: из-за герцогини Беррийской «Париж превратился в водоворот страстей».
Говорили, что арестованная больна, врачи обнаружили беременность (мужа не имелось). Тьер позволил утечку информации, монархические и республиканские газеты перессорились – можно ли компрометировать даму? – и началась эпидемия журналистских дуэлей. Арман Каррель раскритиковал герцогиню – его вызвали 12 человек. Дюма предложил взять нескольких на себя, хотя повод считал смехотворным. Каррель ему отказал, а 2 февраля был на одной из дуэлей тяжело ранен. Газеты подняли шум уже из-за Карреля, журналист Ботерн потребовал, чтобы вместо раненого дрались другие республиканцы, в частности Дюма, тот выбрал журналиста Бошена, легитимиста, но приятеля, писал ему: «Наши партии настолько глупы, что принуждают нас драться, ну что ж…» Вызов не состоялся – Тьер арестовал нескольких журналистов с обеих сторон, и дуэли прекратились. Дюма отнесся к суду над герцогиней практически: он пробился к арестовавшему ее генералу Демонкуру и, предложив соавторство, написал с его слов брошюру «Вандея и Мадам»: представил героиню по-своему благородным человеком, ее победителя – тоже. Брошюру опубликовало издательство «Каньон и Канель», обеим сторонам понравилось, а Демонкур «подарил» соавтору своего приживала – итальянца Рускони, тот прожил у Дюма 25 лет и стал первым в череде «помощников», большинство из которых ничего не делали.
Больные от политики люди желали развлечений. Луи Филипп 18 февраля дал бал в Тюильри, оппозиционеров не пригласил, те стали сами устраивать балы – моду ввел художник Ашиль Девериа; Дюма тоже решил дать бал. Он мог себе это позволить: его знал «весь Париж», он был завсегдатаем салона Нодье и журналистской тусовки в «Кафе де Пари» (Эжен Сю, Жюль Жанен, Нестор Рокплан); его называли в числе светских львов. Он снял пустую квартиру напротив своей, Делакруа расписал стены, бал состоялся 30 марта, пришли 300 человек, в их числе де Мюссе, Россини, мадемуазель Марс, мадемуазель Жорж, Фредерик Леметр, Эжен Сю, Одийон Барро, даже Лафайет заглянул. Тьер не пришел, хотя был приглашен. Не было ни Кавеньяка, ни Араго, ни Карреля – Дюма к ним охладел, они – к нему. Герцогиня Беррийская 10 мая родила дочь, а Дюма завел необычное знакомство.
Использовать гильотину предложил в 1792 году врач Гильотен (подобное орудие казни употреблялось и в других странах). До этого сжигали заживо, четвертовали, лишь состоятельным людям и аристократам рубили головы мечом или топором. Революция положила под нож все сословия. Не только гуманный по тем временам, но дешевый и надежный способ. Косой нож весом в 40–100 килограммов поднимают на три метра, удерживая веревкой, голову жертвы помещают в углубление, веревка отпускается, и нож падает, перерезая шею, палач показывает голову зрителям (бытовало мнение, в том числе среди ученых, что отрубленная голова некоторое время видела и мыслила), казненный глядит толпе в глаза. 25 апреля 1792 года на Гревской площади гильотина впервые была испробована на воре Пелетье и разочаровала зевак: не мучился. Потом она переехала на площадь Республики, где и произошло большинство казней в эпоху террора. (Публичные казни на гильотине происходили во Франции до 1939 года, когда отрубили голову серийному убийце Вейдману, потом из-за скандалов в прессе стали казнить в тюрьмах. Последнее гильотинирование состоялось в Марселе в 1977-м, за четыре года до отмены смертной казни.) Уже при жизни Дюма казнили очень редко, и гильотину в действии он никогда не видел, но (или поэтому) был одержим ею; палач представлялся ему сверхъестественным существом, и он был убежден, что отрубленная голова какое-то время живет.
Источники расходятся во мнении относительно того, с каким палачом из династии Сансонов познакомился Дюма. Шарль Анри Сансон (1739–1806), в молодости колесовавший осужденных, потом гильотинировал их, включая Людовика XVI, Шарлотту Корде и Дантона; его сын Анри Сансон (1767–1840) казнил королеву Марию Антуанетту и главного прокурора террора Фукье-Тенвиля, в 1830-х жил в Париже на пенсии. Внук Шарля Анри, Анри Клеман (1799–1889), последний в династии, был палачом Парижа до 1847 года и, чтобы удовлетворять страсть к игре и пьянству, завел дома платный музей гильотины и аптеку. Дюма в мемуарах называет палача, с которым общался, сыном Шарля Анри, но приводит имя внука и упоминает аптеку, так что, похоже, имеется в виду последний Сансон; с другой стороны, палач рассказал ему подробности казни Людовика, что внук вряд ли мог сделать. Было неясно, куда пойдут эти сведения, но для историка лишних знаний не бывает.
Пока же нужны деньги. Мать больна, Иду не удается устроить в театр, и она требует подарков, Белль – тоже. Катрин ежемесячно получает алименты – тысячу франков – и просит купить ей патент на книготорговлю. Платить нужно сиделкам матери, кормилице дочери. Александр написал с Буржуа мелодраму «Анжела» о карьеристе, добивающемся успеха при помощи «лестницы из женщин», как у Мопассана в «Милом друге», но Дюма, верный себе, убил героя и его убийцу. Роль героини он писал для Иды и уговорил Ареля взять и пьесу, и актрису. Одновременно он продолжал «Швейцарию» и «Галлию и Францию»; в тот период у него выработалась привычка работать над разными текстами параллельно, что под силу только очень организованному писателю: отводил каждому произведению бумагу своего цвета и определенные часы дня. В тот же период он написал несколько хороших рассказов. «Бал-маскарад» напечатал журнал «Рассказчик»: мужчина знакомится с замужней женщиной под маской, потом ее ищет, но она – догадайтесь-ка! – мертва и на балу была мертвой: месть из могилы за измену мужа. Новелла «Дети Мадонны» опубликована в сборнике «Сто один рассказ»: неаполитанский разбойник в 1799 году прятался в лесах с женой и младенцем, ребенок заплакал, отец разбил ему голову о дерево, жена смолчала, а на следующий день принесла властям голову мужа в фартуке и получила награду; это шедевр малой формы в духе Мериме или Стендаля, сухой и страшный, как «Бланш». Еще очерк «Как я стал драматургом» в «Обозрении двух миров», в общем, работы полно, притом что год выдался скандальный – сплошные ссоры и дуэли.
Критик Гюстав Планше, воевавший с романтиками, писал: «Г-ну Дюма, который дебютировал не далее как в 1829 году, угрожает быстрое забвение… Дюма не привык думать, у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями; вот почему Дюма кинулся ниспровергать традиции, не соразмерив ценности памятника, на который посягает». Планше был любовником Жорж Санд; 19 июня на обеде в «Обозрении двух миров» Дюма ядовито высказался об отношениях Санд с Мари Дорваль, в которую та была влюблена, и оскорбленная писательница вызвала его на дуэль. Сие не анекдот, сохранились документы, относящиеся к этой истории: переписка Сент-Бёва, Бюло, Мериме, доктора Биксио, которого Дюма обычно брал в секунданты, и самих участников: 20 июня Дюма писал Санд, предлагая выставить вместо себя Планше, тот вызов принял, но просил отсрочки по болезни, Дюма ответил, что готов отказаться от вызова, если Планше напишет, что не является любовником Санд и «не должен отвечать ни за ее прежние высказывания, ни за то, что она скажет впредь». Такое письмо от Планше он получил, и дело замяли; любопытно, что на его отношениях с Санд история сказалась наилучшим образом и они стали приятелями.
В июле он отдал в издательство «Кане и Гюйо» «Галлию и Францию», доведенную до смерти короля Карла IV Красивого (1328 год) и последовавшей за этим Столетней войны, а фрагменты, относящиеся к поздним временам, напечатало «Обозрение двух миров» под заглавием «Революции во Франции». О революции 1793 года: «Была революция, но не было республики; слово было принято из-за ненависти к монархии, не из-за сходства вещей… Робеспьер нанес монархии глубокую рану, но не смертельную. Когда Бурбоны возвратились в 1814-м, монархия тотчас обрела прежнюю поддержку». И 1830-го: «Чудесная революция, которая достигла только то, чего должна была достигнуть, и убила только то, что должна была убить, – дух монархии»; ее считают чем-то новым и с ужасом открещиваются от признания ее родства с той, великой революцией, но она – ее родная дочь. А поскольку дух монархии убит, то после Луи Филиппа королей не будет. О Наполеоне: «По моему мнению, на протяжении всей истории Провидением были избраны три человека, чтобы осуществить возрождение человечества, – Цезарь, Карл Великий и Наполеон. Цезарь, язычник, подготовил Христианство; Карл Великий, варвар, – Культуру; Наполеон, деспот, – Свободу… Когда 18 брюмера Наполеон захватил Францию, она еще не оправилась от потрясений гражданской войны. Бросаясь из крайности в крайность, в одном из своих порывов она настолько вырвалась вперед, что другие народы остались далеко позади… Франция обезумела от свободы, и, по мнению остальных монархов, ее следовало обуздать, чтобы вылечить. В это время на сцене появился Наполеон, движимый деспотизмом и военным гением… отстававший от стремлений Франции, но опережавший стремления Европы; человек, тормозивший внутреннее развитие, но стимулировавший развитие внешнее. Безумные монархи объявили ему войну! Тогда Наполеон обратился к самому чистому, умному, прогрессивному, что было во Франции, он создал армии и наводнил ими Европу. Эти армии несли смерть королям и дыхание жизни народам. Повсюду, где идеи Франции пускали корни, Свобода шла вперед семимильными шагами, ветер подхватывал революции, как семена, брошенные сеятелем». Но после похода в Россию «миссия Наполеона завершилась, наступил миг его падения, ибо теперь его поражение было столь же необходимо для свободы, как прежде было необходимо его возвышение».








