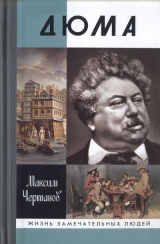
Текст книги "Дюма"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Дюма в те дни заканчивал одну из лучших своих вещей – «Женщину с бархаткой на шее» (публикация с 22 сентября по 27 октября). Поль Лакруа утверждал, что повесть написана «на основе его заметок», в его архиве нашли заметки – несколько строк. По другой версии, это адаптация рассказа Вашингтона Ирвинга «Случай с немецким студентом»: герой приехал в 1793 году в Париж и ночью пришел на Гревскую площадь: «Пересекая площадь, Вольфганг попятился от страха, очутившись рядом с гильотиной. Это была вершина царства ужаса – зловещее орудие смерти стояло наготове с эшафотом, постоянно омываемым кровью сильных и отважных. В тот самый день на гильотине здорово потрудились, устроив кровавую баню, и вот она, стоя в зловещем убранстве посреди молчаливого, спящего города, ожидала новых жертв». У гильотины он увидел женщину, чье лицо ему раньше грезилось, с бархаткой на шее, привел к себе, уложил спать, а наутро обнаружил труп, голова которого отделена от шеи; он – пациент психлечебницы, так что все, возможно, ему почудилось. У Дюма сюжет тот же, однако он говорил, что получил его от Нодье; возможно, именно Нодье читал Ирвинга. Но в любом случае рассказ Ирвинга – две страницы, два персонажа и одна сюжетная линия, повесть Дюма – 150 страниц, 15 персонажей и четыре сюжетные линии, так что можно говорить о заимствовании идеи, но не более.
Стилистику, по признанию Дюма, подсказал любимый Гофман, и он же – герой повести. Юным он приехал в Париж: «Это было время, когда французы писали особенно плохо, но это было и то самое время, когда они писали особенно много. Все новоиспеченные должностные лица полагали, что им надлежит бросить свои домашние дела или ремесла, чтобы подписывать паспорта, составлять описание примет, выдавать визы, давать рекомендации – одним словом, делать все, что приличествует патриоту». Пошел в библиотеку – «услышал, что французская нация, рассматривая науку и литературу как источники коррупции и безразличия к гражданскому долгу, закрыла все учреждения, где составляли заговоры мнимые ученые и мнимые литераторы, закрыла исключительно из чувства гуманности, чтобы избавить себя от труда отправить этих бедняг на гильотину. Впрочем, и при тиране библиотека была открыта только два раза в неделю». Пошел в музей – «услышал, что владелец его позавчера был гильотинирован. Он дошел до Люксембургского дворца, но тот был превращен в тюрьму…».
Гофман видит только ужасы и казни, но наконец ему удается попасть в театр, и там его внимание привлекает загадочный тип: «Этому человеку можно было дать лет пятьдесят, но с тем же основанием можно было дать и тридцать. Ему могло быть и восемьдесят – ничего неправдоподобного в этом не было бы. Но ему могло быть всего-навсего двенадцать, и это было бы не так уж невероятно. Казалось, он появился на свет таким, каким он был теперь. Вне всякого сомнения, моложе, чем сейчас, он никогда не был, и вполне возможно, что родился он более старым, чем был теперь. Человек, прикоснувшийся к нему, вероятно, испытал бы такое ощущение, словно прикоснулся к змее или же к покойнику. Время от времени он еще шире разевал рот – так проявлялось у него наслаждение меломана, – и три одинаковые маленькие складки описывали полукруг у краев его губ по обе стороны рта и застывали минут на пять, а затем постепенно исчезали: так упавший в воду камень образует круги, что все ширятся и ширятся до тех пор, пока окончательно не сольются с поверхностью воды». Это существо называет себя доктором и у него странная табакерка. На сцену выходит актриса, на ее шее – бархатка с застежкой в форме гильотины: «…куда бы ни двигалась Арсена… глаза ее не отрывались от глаз доктора, и меж их взглядами установилась видимая связь. Более того: Гофман явственно различал, как лучи, бросаемые застежкой бархатки Арсены, и лучи, бросаемые черепом на табакерке доктора, встречаются на полдороге по прямой линии, соприкасаются друг с другом, сверкают, сияют, мечут снопы белых, красных, золотых искр». И тут же в зале Дантон, и Гофману говорят, что он любовник Арсены.
«Всю ночь, весь следующий день, следующую ночь и день, последовавший за ней, Гофман видел только одну или, вернее, две фигуры: то была фантастическая танцовщица, и то был не менее фантастический доктор. Меж этими существами была столь тесная связь, что Гофман не воспринимал одного без другого. И то не оркестр грохотал у него в ушах во время этого наваждения, когда ему представлялась Арсена, без устали носившаяся по сцене, – нет, то тихонько напевал доктор, то тихонько постукивали по эбеновой табакерке его пальцы; время от времени перед глазами Гофмана сверкала молния, ослепляя его каскадами искр: то было скрещение двух лучей, один из них тянулся от табакерки доктора, другой – от бархатки танцовщицы; то была симпатическая связь бриллиантовой гильотины с бриллиантовым черепом…» Он снова идет в театр, там «доктор» ему говорит, что Арсену, приревновав, забрал ее любовник и что никакой табакерки и бархатки не было, ничего не было: «Ваше сердце мертво, с ваших глаз спала пелена, и вы видите грубое сукно, красные колпаки, грязные руки и сальные волосы. Наконец-то вы видите людей и предметы такими, какие они есть». Но Гофман весь во власти галлюцинаций. Вновь встречает «доктора» – «казалось, что стоит только прикоснуться к нему, как уходишь из реальной жизни и попадаешь в царство мечты, лишаешься свободной воли и разума и превращаешься в игрушку того мира, что существует для него и не существует для других» – и тот приводит его к Арсене. Грубая проза: она требует денег. Он закладывает медальон невесты, выигрывает в карты, бежит к Арсене – та скрылась после ареста Дантона. Он бродит по городу: «…оголенные деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, что в бреду встали с постели, а их исхудавшие руки и ноги трясутся от лихорадки», машинально приходит к гильотине: «ночной ветер высушил ее влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно». У гильотины – Арсена, он ведет ее в отель и показывает деньги. «Она погрузила свои побелевшие руки в груду металла. Руки молодой девушки ушли в нее до самых локтей. Эта женщина, для которой золото было жизнью, прикоснувшись к золоту, казалось, вновь обрела жизнь.
– Мое! – повторяла она. – Мое! – Она произносила эти слова дрожащим, металлическим голосом, странным образом сливавшимся со звяканьем луидоров».
Она пьет, но не ест; выпавший из камина уголек обжег ее босую ногу, а она не поморщилась. Гофман играет на фортепиано, она танцует вальс «Желание» Бетховена: «…он возник и зазвучал под его пальцами как выражение его мыслей. Изменила ритм и Арсена: сначала она делала фуэте на одном месте, потом мало-помалу круг, который она описывала, стал расширяться и она приблизилась к Гофману. Гофман, задыхаясь, чувствовал, что она подходит, что она приближается; он понимал, что, сделав последний круг, она коснется его и тогда ему тоже придется встать и закружиться. Его охватили желание и ужас. Наконец, оказавшись рядом с ним, Арсена протянула руку и коснулась его кончиками пальцев. Гофман вскрикнул, подскочил так, словно по нему пробежала электрическая искра, бросился вслед за танцовщицей, догнал ее, заключил в объятия, продолжая напевать про себя переставшую звучать на фортепьяно мелодию, прижимая к себе это тело, которое вновь обрело свою гибкость, впивая блеск ее глаз, дыхание ее уст, и, впивая их, он пожирал глазами эту шею, эти плечи, эти руки, танцуя с ней в комнате, где уже нечем было дышать и воздух стал раскаленным; и это пламя, охватившее все существо обоих танцующих, задыхающихся в обморочном бреду, в конце концов швырнуло их на кровать, которая их поджидала». Утром на его руке лежит «какая-то безжизненная масса»; появляется «доктор»: «Ах, так это вы, молодой человек, выкупили ее тело, чтобы оно не сгнило в общей могиле…» (А потом Гофман узнает, что в ночь, когда он совокупился с трупом, его невеста умерла.)
Следующую повесть, «Женитьбы папаши Олифуса», Дюма писал с Полем Бокажем: рыбак женился на русалке. (Вся мистика была потом собрана в сборник «Тысяча и один призрак».) 1 октября Исторический театр поставил инсценировку «Женской войны», хвалили, а сборов не было. «Порт-Сен-Мартен» взял отклоненную Французским театром в 1842 году переделку Шекспира «Завещание Цезаря», премьера 20 октября, там же на следующий день – «Коннетабль Бурбон», соавторы – Эжен Гранже и Ксавье де Монтепан; обе пьесы Дюма не подписал, только взял деньги. Для своего театра он купил уже ставившуюся и провалившуюся пьесу Луи Лефевра, переделал в драму «Граф Германн»: смертельно больной влюблен в женщину, которую любит и его племянник, и принимает яд, чтобы не мешать молодым; ему помогает зловещий доктор, которому интересно наблюдать агонию самоубийцы. Премьера 22 ноября, странную и мрачную вещь никто особо не оценил, правда, на спектакле был президент, но автор к нему в ложу, как полагалось, не пришел. Осенью Луи Наполеон поменял более-менее либеральное правительство Барро на марионеточное Альфонса Отпуля. Префект парижской полиции Карлье основал «Общество 10 декабря», провозгласившее «охрану религии и семьи» и борьбу с «безнравственностью, вредными изданиями и крамольниками», его члены с дубинками нападали на собрания «крамольников»; Гюго вышел из «партии порядка»; 1 декабря Ипполит Остейн оставил пост директора Исторического театра.
Почему театр терпел крах? Во-первых, он был не в Париже. Во-вторых, постановки были дороги, из-за этого не хватало денег платить актерам, те разбегались, на их место приходили другие, похуже, это отвращало зрителей. В-третьих, Дюма сам часто отдавал пьесы другим театрам. В-четвертых, он писал наскоро и небрежно. В-пятых, он все больше выходил из моды. Графиня Даш: «Дюма „Антони“, „Генриха III“, „Христины“ – возвышенный, сентиментальный, страстный, живущий за пределами этого мира, создавший иной в облаках, – писал их в пору, когда его глаза сияли; он предавался мечтам, он выражал чувства. Вот почему нынешняя молодежь заявляет, что его театр устарел. Она отказалась от изъявлений любви и не ищет подвигов; сцены страсти кажутся ей странными. Они были искренними, когда он писал их, но не сейчас, когда мы предпочитаем более простое выражение чувств, и было бы неправильно гнаться за ушедшим временем… Это, наверное, правильно, это более мудро, более безопасно и меньше вводит в заблуждение, но это менее благородно, менее опьяняюще».
В моде были водевили, и Дюма умел их писать, хотя не очень любил: одноактная комедия «Зеленая шаль» с Эженом Ню в театре «Жимназ» 15 декабря прошла на ура. Сезон в Историческом театре завершился «Бурей в стакане воды» Леона Гозлана. 12 января 1850 года в «Бражелоне» была поставлена последняя точка. «Главный редактор „Века“ обратился к моему собрату Скрибу: он решил, что со мной покончено, больше ничего хорошего я не напишу и пора искать другого. Я дерзко попросил за свои фельетоны и за передачу авторских прав на пять лет по 5 тысяч франков за год: это показалось слишком много». Но у «Века» были основания считать, что он исписался. Перье вымаливал у Маке последнюю главу романа: «Ради всего святого, нельзя же просто так бросить д’Артаньяна, который на протяжении трех книг играл главную роль!» Бедный, бедный д’Артаньян…
Дюма с Маке в это время уже начали роман «Черный тюльпан»; сперва Дюма любовно разрабатывал «цветочную» интригу, но, поссорившись с «Веком», потерял интерес и к этой вещи и в записках требовал у Маке по 200–300 страниц зараз, минимально их правя; текст вышел в издательстве Бодри. Дюма больше занимала новая пьеса – «Урбен Грандье»: он описывал эту историю в «Знаменитых преступлениях». Грандье – священник, в XVII веке обвиненный в дьяволопоклонничестве и сожженный по приговору церковного суда; современные исследователи считают, что он пал жертвой политических интриг. «Двадцать лет спустя»:
«– Так-то оно так, но мне сдается, что еще очень недавно покойный кардинал приказал сжечь Урбена Грандье. Уж я-то знаю об этом: сам стоял на часах у костра и видел, как его жарили.
– Эх, милый мой! Урбен Грандье был не колдун, а ученый, – это совсем другое дело. Урбен Грандье будущего не предсказывал. Он знал прошлое, а это иной раз бывает гораздо хуже».
Корпел Дюма над пьесой основательно, что подтверждает переписка Беатрис Пирсон с Жюлем Жаненом: она, взяв на себя роль секретаря, то и дело просит достать редкие исторические труды, «без которых г-н Дюма не может работать». Была и другая важная работа. В конце 1849 года в Париж приехал Мельхиор Пачеко-и-Обес (1809–1855), поэт из Уругвая, ставший военным. Крохотный Уругвай, страну беглецов из Европы, в XIX веке присоединяли то к одному, то к другому государству, в 1828-м он был объявлен независимой республикой, но на него начал покушаться аргентинский диктатор Рохас, с 1843-го взявший Монтевидео в блокаду; уругвайцы держались стоически. В 1845-м Англия и Франция (в Уругвае жило много французов и англичан) потребовали от Рохаса оставить соседа в покое, получив отказ, разбили аргентинский флот, но дальше не пошли, и блокада продолжалась. Пачеко-и-Обес был отправлен во Францию с миссией добиться военной помощи. Он выступил в парламенте, горько упрекал, ничего не добился, но произвел впечатление, о нем говорили газеты, литераторы были с ним в переписке; Дюма с помощью Беатрис Пирсон (переводчика) с ним познакомился, 9 января принимал его в «Монте-Кристо» и предложил написать об уругвайцах книгу – «Монтевидео, или Новая Троя».
Он сделал все, чтобы вызвать сострадание. Аргентина – чужое, Америка; Уругвай – наше, Европа. «Житель Монтевидео еще не успел забыть, чей он сын, внук или правнук, у него есть ощущение своей новой национальности, но он помнит традиции старой Европы, к цивилизованности которой он стремится, тогда как житель Буэнос-Айреса отдаляется от нее каждый день, стремясь к варварству». И как не помочь такому маленькому и храброму! Текст начал публиковаться в «Месяце», а после его закрытия вышел в издательстве «Шез и Сье» за счет Дюма; некоторые фрагменты вошли также в книгу «Мемуары Гарибальди» и роман «Парижане и провинциалы». Франция не помогла Уругваю, помогла Бразилия, но потом пошла череда переворотов, длившаяся 100 лет; Пачеко-и-Обес умер в бедности. «Бедный, как Цинцинат, он, как и Ламартин, ворочал миллионами; но он был одним из тех поэтов с открытой душой, у которых деньги уплывают сквозь пальцы. Прибыв в Париж с ответственной миссией, он был поднят на смех мелкими газетенками. Насмешки дошли до оскорблений. Он потребовал удовлетворения, ему в этом отказали. Он обратился в полицию и, хотя плохо говорил по-французски, решил сам защищаться в суде… Основным поводом насмешек, которым он подвергался, были малость его республики и ничтожность его дела. Он отвечал на них так: „Величие самоотверженности не измеряется величием того, что отстаивают“…»
Исторический театр 19 января 1850 года поставил «Генриха III», пьеса ударная, но даже на нее не шли. Руководитель труппы Французского театра Арсен Уссе предложил написать для представления «Любви-целительницы» Мольера три интермедии, приняли их прохладно, но деньги Дюма заработал. Президент был на премьере и с ним не поздоровался. Несколькими днями ранее Дюма писал в «Месяце», что его зря называют «членом президентского штаба» – он в штабах не работает. Болтали, что новый Наполеон не намерен после четырехлетнего срока уходить и скоро отменит конституцию. «Месяц», 1 февраля: «Разве можете Вы, мудрый человек, грезить об Империи; разве можете Вы, образованный человек, забыть, что за 18 брюмера были Маренго и Аустерлиц… О нет, Вы не можете, Вы, с Вашим безвестным, но честным прошлым, совершить государственный переворот! Нет, Франция верит Вам, и это доверие не будет обмануто». То был последний номер «Месяца» – он разорился.
15 марта приняли реформу, предложенную бывшим министром образования Фаллу: при министре и в каждом департаменте создадут советы епископов, надзирающие за школами, светское образование отменяется. «Партия священников завладела настоящим и прошлым и уже потянулась расставить свои вехи в будущем…» «Многие родители, встревоженные тем, что образование полностью подпадает под влияние монахов… забирали детей из пансионов и коллежей и, насколько это было возможно, пытались воспитывать их дома». Дюма переехал на новую квартиру, скромную, авеню Фрошо, 7, с дочерью, которая совершенно его простила и заботилась о нем. Написал пьесу-гротеск «24 февраля» на основе одноименной пьесы немца Ф. Вернера: сын хозяина гостиницы убил отца, потом его сын задушил сестренку, потом его зарезали родители, и все это происходило 24 февраля; спустя годы приехал Дюма – 24 февраля – и, увидев во дворе мальчика с ножом, отнял его; вышел хозяин, жизнерадостный, не понимая, в чем дело; Дюма произнес страшные слова «24 февраля», на что хозяин ответил; «Этот проклятущий драматург своей мерзопакостной пьеской превратил порядочный дом в притон разбойников!» Представление в театре «Готэ» 30 марта неожиданно имело успех и принесло много денег. В этот же день Исторический театр ставил «Урбена Грандье» – нет успеха, хотя пьеса хорошая… Женскую роль играла Изабель Констан (1834–1900); автор влюбился.
«Ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело – ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет… За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви: первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью… мой ангел, отдаюсь в твои руки. Охраняй меня. Простри надо мной твои белые крылья. Огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния и которые отравляют жизнь человека на долгие годы… Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. Ни одна женщина – даже мадемуазель Марс – не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года…» (В 1855 году Дюма написал брошюру о Констан для серии «Артистическая галерея».) При этом он не бросил ни Пирсон, ни Гиди…
В апреле довыборы в парламент, прошло неожиданно много левых, правительство тут же внесло новый закон, повышавший ценз оседлости с шести месяцев до трех лет и лишавший избирательного права людей, осужденных за политику: права голоса лишались более трех миллионов человек, особенно молодежи и рабочих из больших городов; некоторые округа Парижа потеряли 80 процентов избирателей. Гюго выступал против. Дюма – Гюго 9 мая: «Вы представляете там всеобщий разум (интеллигенцию), так скажите им от имени разума, что они безрассудны, что предпринятые ими шаги безумны… Неужели прошлое ничему не научило этих людей и они не в состоянии предвидеть будущее?.. Почему они все время пускают в ход законы, армии, генералов, диктаторов, когда им нужен только капитан, который бы мог вести судно по ветру?» Гюго произнес пламенную речь, но закон был принят; президент заявил, что он ни при чем, это депутаты сами.
Новый управляющий Историческим театром Макс де Ревель попал под суд за мошенничество, министр внутренних дел назначил временных управляющих – графа Долона и актера Долиньи. 12 июня – бенефис Пирсон, Дюма слал умоляющие письма директорам всех театров, прося у кого актрису, у кого оркестр – свои разбегались из-за невыплаты жалованья. В тот же день ставился водевиль «Сломанные соломинки» Жюля Верна, которого представили Дюма летом 1848 года. Если Гюго показался юноше «холодным и напыщенным», то Дюма отнесся к нему по-отечески, принимал в «Монте-Кристо», предлагал заменить Маке, получив отказ, не разозлился, а поощрял писать; две первые пьесы Верна он отверг, третью отдал Дюма-младшему на правку, и она выдержала 12 представлений (позднее он устроил Верна литературным секретарем в Лирический театр). Сам он сделал с Гранже и Монтепаном инсценировку романа последнего «Рыцари ландскнехты», поставили 4 мая в «Амбигю», для Исторического театра инсценировал свою повесть «Полина». Еще раз пытался избраться депутатом от Пуант-а-Питр, набрал (в июне) втрое меньше голосов, чем в прошлый раз. «Черный тюльпан» плохо расходился: никого не интересовали голландские дела. С академией – кончено, с депутатством – кончено, с театром, кажется, тоже, романы не пишутся. Маке злится, президент обманул надежды, в стране тошнотно, почти нечем дышать, и все видят – будет хуже, а сделать ничего нельзя – «все заранее одобряют всё, что сделает правительство, словно дух, который время от времени вдохновляет народы на свершения, рассеялся в небе…». А на Жюля Верна Дюма произвел впечатление «человека-праздника»: пышные обеды, шум, хохот, дым коромыслом, бешеная энергия. Притворялся? Нет, наверное: ведь Изабель Констан его полюбила (или сделала вид), а ему уже под 50, последняя любовь, остальное – пустяки…
Они с Маке тем летом запланировали роман «Анж Питу» – сиквел «Ожерелья королевы» и приквел «Мезон-Ружа», который должен заполнить в революционном цикле лакуну с 1785 по 1793 год. Сделать это тем легче, что выходит труд Мишле – на нем можно базироваться. Но в этот период с соавторством происходило что-то непонятное. Известно из переписки, что Дюма и Маке вместе составили план, что был такой Анж Питу – журналист, контрреволюционер, что Маке хотел ехать изучать его детство и юность, так что, вероятно, он и предложил этого героя и сюжет. Однако роман начал публиковаться только зимой и был о другом человеке, ничего общего не имевшем с реальным Питу, а его детство было «списано» с детства Дюма, о котором Маке ничего не знал. Летом же Дюма писал и публиковал (в «Событии» с 28 июня по 18 октября 1850 года) другой роман, созданный без соавторов (во всяком случае, никто никогда не заявлял, что участвовал в его написании), – «Адская бездна». Можно предположить, что сперва хотели писать «Анжа Питу» по замыслу Маке, но тот отказался от поездки, так как был не урегулирован денежный вопрос, произошла ссора, тогда Дюма за несколько дней по своим воспоминаниям написал первую часть и, не умея придумать фабулу, роман временно бросил; кто-то подсказал ему (или он где-то вычитал) сюжет «Адской бездны», и он все лето и осень занимался ею, а к зиме помирился с Маке, и они продолжили «Анжа Питу» вместе.
Давненько он не писал больших вещей один: что же такое «Адская бездна», хуже ли, чем романы, сделанные с Маке? Материал у него был собран давно, когда с Нервалем изучали немецкие тайные общества. Действие происходит в Германии с мая 1810-го по май 1812 года: студенты Юлиус и Самуил Гельб – братья, но не знают об этом: мать Самуила, бедную еврейку, соблазнили и бросили; потом отец-ученый раскаялся, взял его к себе воспитывать наравне с законным сыном, но поздно: Самуил ожесточился. Как и Бальзамо, он хочет всемирной революции, но если для Бальзамо социальное переустройство – цель, то для Самуила – средство личной власти; Бальзамо – сверхчеловек, Гельб – ничтожество, возомнившее себя сверхчеловеком. До Ницше, до Достоевского Дюма сформулировал их кредо: «…если человек есть Бог, он наделен всеми правами Бога, ведь это очевидно. Он волен поступать как ему угодно, не зная иных пределов, кроме предела собственных сил. К гению неприменимы иные мерки, кроме меры его же гения. Щепетильность, угрызения совести – все это ни к чему. Наполеон, которого мы сейчас проклинаем и которого будем обожествлять лет через десять, если не раньше, знает или чувствует это, отсюда его величие. По отношению к стаду посредственностей гений имеет все права и пастуха, и мясника…» Для Самуила всё – наука, любовь – средства: «Благодаря нашим изысканиям и открытиям мы могли бы сеять смерть, возбуждать любовь, насылать безумие, воспламенять или гасить сознание… Любовь – это власть. Стать полновластным господином другого человеческого существа…» Самуил изнасиловал девушку, опоив наркотиком, жену брата заставил отдаться ему, угрожая не вылечить ее ребенка, ребенок все равно умер, а женщина беременна от насильника – как же трудно Дюма было придумать какой-нибудь новый сюжетный ход! Самуил покушался на Наполеона, убил по ошибке не того и бежал из страны.
От его дальнейших приключений автор отвлекался на другие дела: инсценировка рассказа «Корсиканские братья» в Историческом театре 1 августа 1850 года, рассказа «Охота на шастра» – 3 августа; обе вещи музыкальны, кинематографичны, зрители видели на сцене море, бурю, корабли, но не оценили: увы, пьесы Дюма либо отставали от времени, либо опережали его. Комедия «Гулливер» по мотивам Свифта – не опубликована и не поставлена. Маке предлагал (не в первый раз) инсценировать «Графиню Монсоро», но Дюма отвечал: «…при всем желании я не знаю, как выпутаться из „Монсоро“. Не знаю, какая должна быть развязка…»
Для издательства «Кадо» он писал историческую хронику «Людовик XVI и Революция» и ее продолжение «Драма 93-го года: Сцены революционной жизни» – когда успевал? Обработал и издал мемуары актера Тальма, полученные от его наследников. Еще не все: договорился с Жирарденом, что тот будет публиковать его собственные мемуары, и работал над ними; а мемуары – не отвлеченная болтовня, а масса фактов, дат, цифр, политической аналитики, работа серьезная. Любовь Изабель, видимо, придавала нечеловеческие силы. При этом не мог или не хотел порвать с двумя другими любовницами и завел еще четвертую, немку Анну Бауэр (1823–1884), жену австрийского коммерсанта. Пирсон уехала на гастроли в Гавр, Дюма обещал приехать, сдержал ли слово – неизвестно. Бауэр забеременела и решила рожать. Все это надо было как-то разруливать, и он решился: оставил квартиру дочери, а сам с 12 августа поселился на улице Бомарше, 96, сняв для себя и Изабель смежные квартиры на любимом четвертом этаже (с ним также поселился новый секретарь Эдмон Вейо). Изабель – болезненная, слабая (или очень хитрая), он относился к ней как к ребенку, поил с ложечки, нанял врача: «Это хрупкий цветок, который все может убить: и мороз, и жара, и даже любовь…»
Дела кругом безрадостные. 23 июля депутаты приняли закон о печати, увеличив до 50 тысяч франков залог для газет, запретив расклеивать их в общественных местах, расширив список «преступлений печати» и обложив романы с продолжениями гербовым сбором – один сантим с экземпляра газеты (что повлекло уменьшение гонораров авторам), и о театре, восстановив предварительную цензуру (тотчас сняли директора театра «Одеон» Бокажа за «антиправительственную пропаганду»), и ушли на каникулы. Законы были внесены администрацией президента, но тот все свалил на палату. Он с ней не ладил: много оппозиции, решения зачастую принимались с разницей в несколько голосов, положение ненадежное. Летом Луи Наполеон совершал тур по стране, выступал перед крестьянами и рабочими («креативный класс» в расчет не брал), ругал палату, жаловался, что у него мало полномочий, говорил, что его друг – «простой народ», а не зажравшиеся парижане, и предрекал, что после него президентом выберут какого-нибудь олигарха; чтобы этого не случилось, надо президенту баллотироваться на два срока, и не по четыре года, а по пять лет, а если его, Луи Наполеона, перевыберут, он вернет всеобщее избирательное право, которое палата урезала без его ведома. Провинциалы кричали: «Да здравствует император!»…
22 августа 1850 года хоронили Бальзака, а 26-го в замке Клермонт в Англии умер Луи Филипп Орлеанский. «Я не любил его ни как человека, ни как короля, и, если бы я имел нескромность поверить на минуту, что король Луи Филипп мог питать по отношению ко мне какое-то чувство, доброе или недоброе, я сказал бы, что меня он любил ничуть не больше». Но быть на похоронах надо. 27-го Дюма выехал в «гнусную страну, где вечно холодно, где туман считается хорошей погодой, дождь – туманом, а поток – дождем, где солнце похоже на луну, а луна на сыр», как называл Англию д’Артаньян. Поездку описал в романе «Ашборнский пастор»: семья покойного приняла его скверно, потом он отправился в гости к лорду Генри Холланду, дипломату, в чьем замке гостила масса великих людей, включая кумира Дюма: «лежа в постели, в которой спал Байрон, я читал „Мемуары Байрона“…» Вернулся – в театре все хуже некуда.
На 23 сентября назначена премьера пьесы «Капитан Лажоньер» (отредактированная «Дочь регента»), роль, на которую рассчитывала Пирсон, отдана Изабель, с Пирсон был скандал и разрыв. Из писем Дюма к ней, предположительно датируемых октябрем 1850 года: «Вы вольны поступать как Вам угодно. Только Вы и сами понимаете, что нам неприятно было бы встречаться на репетициях. Откажитесь от роли, а жалованье Вам будет выплачено независимо от того, будете Вы играть или нет»; «Хотите ли Вы, чтобы я попытался устроить Вам гастроли в России?» Но Пирсон в Россию не захотела, а подала в суд на управляющих театром, требуя выплатить неустойку. (С 1851 года она поступила в «Порт-Сен-Мартен», Дюма добивался у дирекции, чтобы она не играла в его пьесах, ему отказали; в 1854-м она стала подругой Флобера.) Пирсон подбила еще четверых актеров подать в суд, 6–7 сентября вся труппа устроила забастовку, граф Долон, вложивший в театр собственные средства, вышел из дела, Долиньи остался и раздавал обещания. «Лажоньера» кое-как сыграли, а 12 октября прошла 39-я и последняя постановка Исторического театра – старая пьеса Дюма «Поль Джонс». 16-го актеры отказались играть. (Театр еще раз открыли 27 октября, чтобы дать благотворительный спектакль в пользу работников сцены.)[21]21
Исторический театр затем был открыт хлопотами драматурга Адольфа д’Эннери под названием Лирический театр, тоже прогорел, под именем Театр Сен-Жермен работал в 1864–1902 годах, здание снесли в 1921-м, а в 1989-м в Сен-Жермене открылся «Театр Александра Дюма».
[Закрыть]
Дюма писал Маке, что актерам надо заплатить шесть тысяч франков, он нашел только три тысячи, умолял занять у кого-нибудь. Маке отказал. Впоследствии он писал своему биографу Симону, что связывал с театром все надежды на благосостояние, но Дюма «дурно управлял» и помочь было нельзя. Дюма в отчаянии представил в министерство коммерции проект объединения под его руководством трех «пришедших в упадок» театров: «Порт-Сен-Мартен», «Амбигю» и Исторического, обещая, что театры будут «придерживаться одного направления во всем, что касается истории, морали и религии, целиком соответствующего пожеланиям правительства». Ответа не последовало. Театр стоял мертвый и пустой, тянулся суд.








