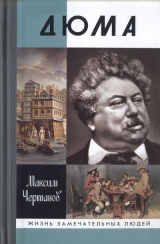
Текст книги "Дюма"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
12 февраля король распустил очередной парламент. Зря искал добра от добра – на выборах 2 марта и 6 июля оппозиция получила перевес: у нее 240 депутатов, у орлеанистов – 200. Тогда король разогнал правительство и вместо Моле назначил Сульта; Бланки и Барбес 12 мая попытались «вывести людей», вывели 300 человек, атаковали Дворец правосудия, 200 погибших, Бланки бежал (его считали провокатором, и с тех пор они с Барбесом стали врагами), Барбеса приговорили к казни, Гюго и Жорж Санд умолили Фердинанда Орлеанского вступиться, Гюго даже в стихах короля просил, и казнь заменили на пожизненное заключение. Дюма в мемуарах упоминал о заступничестве Гюго как о «достойном поступке», но сам не вмешался. Люди, подобные Барбесу, его бесили: за неудавшимся «восстанием» – новые репрессии против печати. Он давно решил: мы пойдем другим путем. Депутатство. Скоро уже пора. У него был хороший период: деньги пошли, критики хвалили. Для закрепления статуса недоставало академического кресла.
Французская академия, основанная в 1635 году герцогом Ришелье «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки», состоит из сорока «бессмертных» членов, избранных коллегами; на званых обедах они занимают более почетные места, чем министры. Чтобы стать «бессмертным», надо ждать, пока какой-нибудь «бессмертный» умрет. Избирали обычно уже старых, и помирали они достаточно часто – есть на что надеяться. Правда, у молодежи, романтиков и вообще всех, кто выделялся, шансов было немного. В 1824 году Гюго пытался избраться – провалили, потом еще дважды. В сентябре 1839-го умер «бессмертный» историк Мишо, Беранже вновь выдвинул Гюго; Бальзак, только что избранный президентом Союза писателей, после переговоров с Гюго снял свою кандидатуру. Соперники – драматург Бонжур, юрист-легитимист Беррье и историк-орлеанист Вату. Дюма в этой комбинации места не нашлось, но он пытался интриговать, прося Бюло: «Напишите обо мне в „Обозрении“ в связи с выборами в Академию и выразите, пожалуйста, удивление, как это могло получиться, что я не выставил свою кандидатуру…» Бюло удивление выразил, кандидатуру Дюма все равно никто не предложил, но разговоры о нем пошли; весь ноябрь и декабрь в газетах печатались карикатуры на претендентов в бессмертные, самая известная – «Большие академические скачки с препятствиями» Гранвиля: закрытая дверь академии, перед ней толпятся Бальзак, которого с боков подпирают «дамы бальзаковского возраста», Гюго с Нотр-Дам на голове, де Виньи от нетерпения прыгает, Дюма стоит спиной к академии и к Бальзаку.
Нам хочется видеть знаменитостей смелыми, отчаянными, молодыми, но они такие же люди, как мы, и хотят быть взрослыми, скучными, материально обеспеченными. О Дюма пишут как о «большом ребенке», вечно юном душою (Вильмесан: «Он был ребенком со всеми капризами и глупостями, свойственными ребяческому возрасту, несносным ребенком»), но Гонкуры видели его другим: «Дюма – самый благоразумный на свете человек, никаких страстей, регулярно спит с женщинами, но никого не любит, так как любовь вредит здоровью и отнимает время; не женится, потому что это хлопотно; сердце бьется, как заведенные часы, и вся жизнь разграфлена, как нотная бумага. Законченный эгоист, с самыми буржуазными представлениями о счастье, без волнения, без увлечений…» Эти строки относятся к 56-летнему Дюма, но нынешний 37-летний, еще худой, еще порывистый Александр был готов на все, чтобы стать «солидным», – даже жениться. Графиня Даш сказала, какая жена была ему нужна: «Достаточно тактичная, чтобы прощать его шутки, делать домашний очаг приятным для него и, главное, не мешать ему работать; такая женщина была бы счастлива с ним… Она должна с юмором относиться ко всем его секретам и никогда не устраивать сцен…» Но такой женщины у него не было, а Ида Ферье была. Почему нет? Она нервировала и дергала его, но меньше, чем предыдущие любовницы; она не могла иметь детей, а его это устраивало. В январе 1840 года они поехали к Доманжу в его имение, посовещались, и он благословил Иду и дал приданое: драгоценности и столовое серебро на 20 тысяч франков и 100 тысяч наличными.
Кроме Доманжа, никто не был рад этому браку. Яростно протестовал сын, чей характер к пятнадцати годам уже оформился. Все отмечали его поразительное внешнее сходство с отцом и диаметральное несходство душ. Графиня Даш: «Крайняя сдержанность Александра [младшего] – следствие полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него – фонарь, горящий на краю пропасти. Дюма-сын прежде всего человек долга. Он выполняет его во всем… Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного Дюма-отцу. Он холоден внешне и, возможно, охладел душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей». Д. В. Григорович (1859): «Прежде еще говорили мне, что Дюма-отец и Дюма-сын – совершеннейшие антиподы по характеру. Я убедился в этом, как только вошел в комнаты сына. Все сразу говорило, что здесь живет человек, щедро наделенный изящным вкусом, но прежде всего – человек положительный, бережливый, влюбленный в порядок. Наружность сына напоминает отца; но вместе с тем с первого взгляда не остается сомнения в разнице характера того и другого. Насколько фигура отца постоянно вся в движении и лицо его носит отпечаток страстей и неугомонных огненных порывов, – настолько сын кажется спокойным и даже холодным…» В. А. Соллогуб (1856): «Сын Дюма… наружностью много напоминал отца, но нравственно ни в чем не походил на него. Сдержанный до скрытности, осторожный и серьезный… К отцу своему в то время, что я его знал, он относился почти что враждебно: он не мог ему простить, во-первых, нажитые и прожитые им миллионы, во-вторых, незаконность своего рождения… Он холодно обращался с лизоблюдами отца, насмешливо отзывался обо всем его обиходе, что не мешало ему, однако, просиживая у отца, постоянно иметь маленькую книжечку в кармане, в которую он тщательно вписывал каждое меткое слово…»
Если Мари Александрине, дочери Дюма, одни его любовницы нравились, другие нет, то сын был изначально настроен против любой. Он хотел респектабельного, «правильного» отца. Почему тогда противился браку, который давал респектабельность? Он все-таки был еще ребенком: не мог побороть неприязнь к Иде и, возможно, надеялся, что отец когда-нибудь женится на Катрин Лабе, которая к тому времени содержала читальню и была ничем не хуже актрис. Но дело не только в этом. Казавшийся холодным, Александр Дюма-сын в глубине души, вероятно, был сентиментален (иначе не было бы так сентиментально его творчество), отца, по Достоевскому, «ненавидя любил», страстно жаждал, по крайней мере в юности, его внимания и не желал ни с кем его делить, а отец это отлично видел, раз писал ему в ноябре 1839 года: «Ты отлично знаешь, что если бы ты был гермафродитом и умел готовить, мне не нужна была бы другая хозяйка, кроме тебя. Но, увы, Господь создал тебя иначе. Так что имей раз и навсегда достаточно мудрости, чтобы наши сердца соприкоснулись и всегда преодолевали материальные преграды, встающие меж нами. Ты и только ты всегда будешь первым в моем сердце и моем кошельке, только я тебе даю куда меньше из кошелька, чем из сердца…»
Другим противником брака была Мелани Вальдор, еще на что-то надеявшаяся. Писала Катрин, требовала вмешаться, но та, благоразумная, ответила, что ее это не касается. Тогда Мелани забросала письмами мальчика: «Думаю, твоей матери следует сходить с тобой к свидетелям и рассеять их заблуждения: ведь им говорили, что ты с радостью дал согласие на этот брак! Может быть, так удастся спасти твоего отца». Тот написал отцу (гостившему с Идой у Доманжа) сердитое письмо. Отец в раздражении отвечал: «Если между нами резко прекратились отношения отца и сына, в этом нет моей вины, а есть только твоя: ты приходил в наш дом, тебя все здесь ласково принимали, но тебе внезапно вздумалось, следуя чьему-то совету, перестать здороваться с особой, которую я считаю своей женой, поскольку живу с ней… Напиши мадам Иде, попроси ее стать для тебя тем, кем она стала для твоей сестры, и отныне и навеки ты будешь у нас желанным гостем. Да и лучшее для тебя из всего, что может случиться, – чтобы эта связь продолжалась, поскольку, так как у меня за эти шесть лет не родилось детей, я уверен в том, что у меня их и не будет, и ты останешься моим единственным сыном…»
Расписались в мэрии 5 февраля 1840 года, заключили брачный договор, вклад мужа – авторские права, оцененные в 200 тысяч франков, венчались в церкви Сен-Рош. А 20 февраля – выборы в академию, «бессмертие» обрели бывший премьер-министр Моле и физиолог Пьер Флуранс, а Гюго опять пролетел. Ясно, что если не избрали Гюго, то Дюма и подавно надеяться не на что. Но уже женился – ничего не поделаешь. Новобрачные сохранили за собой две квартиры и общего хозяйства не вели. Он ухаживал за молодыми актрисами. Она жаловалась Доманжу, что в доме нет денег: «Прибавьте к этому сестру, которой открывают счета в магазинах, в которых мы делаем покупки, кузенов, племянников, любовниц и скажите мне, можно ли, если у вас и без того немало долгов, если положение обязывает вас вести достаточно роскошную жизнь, а главное – если вы понятия не имеете о том, что такое порядок, – можно ли, скажите мне, не упасть в бездонную пропасть?» А ведь доходы были. Французский театр отказался возобновить «Генриха IV», но Дюма выиграл суд и получил компенсацию. Написал с Шарлем Лафоном (не ставя свое имя) пьесу «Жарвис, честный человек, или Лондонский торговец» на сюжет, сходный с «Королем Лиром»; постановка в «Жимназ» 3 июня, успех средний, но деньги есть. Написал для «Века» «Юг Франции» и бурлескную новеллу «Охота на шастра». Вышел том «Жизни замечательных людей» о Наполеоне, правда, приняли его прохладно. Марк де Сент-Илер: «Я ожидал, что в этом эпизоде (сражение при Ватерлоо. – М. Ч.) автор употребит всю мощь своего таланта, всю энергию мысли. Но нет…»
В марте 1840 года пало министерство Сульта – палата отказалась утвердить денежные выплаты королевской семье. Снова Тьер, снова надежды – ну, это же Тьер, интеллигентный человек, в прошлые разы он как-то странно себя вел, но теперь… И впрямь, глядите: Кавеньяк вернулся из изгнания, и никто его не сажает, а Луи Блан написал книгу о революции, и ее собирается публиковать успешный издатель Фурне… «Ренессанс» из-за финансовых трудностей закрылся 2 мая (потом открылся, но в 1844 году разорился окончательно). Дюма выбил через Мериме и Ремюза, нового министра внутренних дел, заказ на пьесу для Французского театра и аванс в шесть тысяч франков и решил ехать во Флоренцию – там лучше работать и дешевле жить. Заключил с несколькими газетами договоры на публикацию путевых заметок, 28 мая отбыл с женой в Марсель, 5 июня был во Флоренции. Он заканчивал писать роман, начатый ранней весной, – «Записки учителя фехтования, или 18 месяцев в Санкт-Петербурге».
Это не первое его «русское» произведение. «Ванинка» – рассказ из серии «Знаменитые преступления»: 1800 год, конец царствования Павла I, все начинается с экзекуции в доме «генерала Чермайлова»: «Исполнение же наказания было возложено на кучера Ивана, коего умение орудовать кнутом то возносило, то, если угодно, низводило до уровня палача всякий раз, когда предстояла подобная экзекуция. Все это, впрочем, не лишало его уважения и даже дружбы остальной челяди, совершенно уверенной, что действует он только рукой, а сердце не имеет к сему никакого касательства. Поскольку же и рука и тело принадлежали генералу, тот мог ими пользоваться по своему усмотрению, что никого не удивляло. К тому же Иван делал это не так больно, как делал бы другой на его месте. Будучи человеком незлым, он умудрялся пропускать один-два удара из положенной дюжины. Если же от него требовали неукоснительного счета всех положенных ударов, он старался, чтобы кончик кнута приходился на еловую доску, на которой лежал наказуемый, что избавляло того от лишней боли». Били крепостного парикмахера Григория по жалобе дочери генерала Ванинки, для которой крепостные были «лишь бородатыми скотами, стоявшими, в соответствии с теми чувствами, которые она к ним питала, существенно ниже ее лошадей или собак…». В нее влюбился граф Федор «Ромайлов», но отец хочет выдать ее за тайного советника.
Крепостные у Дюма так же морально изуродованы, как хозяева. Григорий, ненавидящий Ванинку, говорит генералу, что дочь живет с Федором (за донос получает деньги и вольную), генерал идет проверять, никого в спальне не находит, а бедный Федор задохнулся в сундуке, куда его спрятали Ванинка и ее распутная горничная. Лакей Иван помогает избавиться от трупа, шантажирует Ванинку и получает деньги. Тут умирает жених Ванинки, ей разрешено выйти за Ромайлова, и его начинают разыскивать; крепостные тем временем обделывают свои дела.
«– А знаете, – возразил Иван, которому хмель уже ударил в голову, – что бывают холопы, которым живется повольготней, чем их господам. <…>
– Ну, это как посмотреть, – протянул Григорий с сомнением в голосе.
– Отчего же? Наши господа родиться не успеют, глядишь, уже в руках двух-трех буквоедов – француза, немца и англичанина. Любишь не любишь, а живи с ними до семнадцати лет, хочешь не хочешь – выучись с их помощью трем варварским языкам за счет нашего прекрасного русского, который человек и вовсе забывает из-за иностранщины. Если решил чего-то добиться в жизни, иди служить в армию. Станешь подпоручиком, будешь рабом у поручика, станешь поручиком – у капитана, а уж коли дослужишься до капитана, так над тобою майор хозяин… Если ты беден, вечно веди борьбу, чтобы прокормить семью; если богат – следи, чтобы тебя не обкрадывали управляющие и не обманывали мужики. Разве это жизнь? Вот мы, бедняки, помучим мать, когда она нас рожает, и все; остальное – хозяйская забота, хозяин нас кормит, определяет к делу, а уж выучиться ему не составляет труда, если ты не круглый дурак…» Иван расхвастался в кабаке, что Ванинка у него в руках, та отравила всех посетителей кабака и сожгла его, потом исповедалась, поп отказался отпустить грех и разболтал жене, все выплыло наружу; Павел распорядился попа расстричь и сослать в Сибирь, а убийце – ничего. «Ванинка постриглась в монахини и умерла от стыда и отчаяния».
Что за дикая фантазия, скажет читатель и ошибется: Дюма добросовестно следовал источнику – книге дипломата Дюпре де Сен-Мора «Отшельник в России» (1829). Было ли это на самом деле? Видимо да, только относили историю к царствованиям разных монархов. В «Русском архиве» за 1891 год опубликован рассказ А. Корсунова «Трагический случай прошлого века»: автор со слов своего отца поведал, как данное преступление совершила дочь генерала Черткова в эпоху Екатерины II; на этот сюжет написана повесть графа Салияса «Бригадирская внучка». В том же «Русском архиве» в 1892-м – статья Д. Ильченко: «Лет 20 тому назад мы слышали этот рассказ от одной дряхлой старухи К. М. Тимофеевой, которая передавала подробно обстоятельства этого события тоже со слов отца своего, бывшаго помещика Полтавской губернии, служившаго под начальством генерала, в семействе котораго случилось это несчастие… событие, по словам ея, имело место в царствование императора Павла». Ильченко упоминает Дюма и замечает, что тот точно воспроизвел рассказ Тимофеевой, от которой, вероятно, и слышал его Сен-Мор. Дюма придумал лишь диалоги, но и то строго следуя Сен-Мору, который писал про «офранцуживание» русских.
Интерес его к России подогрели несколько человек. Первый – учитель фехтования Огюстен Франсуа Гризье (1791–1865). В 1814–1815 годах он служил в Национальной гвардии, в период Ста дней сражался за Наполеона, потом преподавал фехтование во Франции и Бельгии, в 1819-м уехал в Россию, где жил до 1829-го: по распоряжению великого князя Константина получил должность преподавателя фехтования с чином капитана в Главном военно-инженерном училище, обучал, в частности, декабристов И. А. Анненкова, А. Н. Муравьева, С. П. Трубецкого, был, как считается, знаком с Пушкиным. Возвратился домой, открыл фехтовальную школу, написал книгу «Фехтование и дуэль» (посвятив ее Николаю I) и был популярен в Париже: спортсмен, интеллектуал, либерал – редкое сочетание.
Второй – Шарль Дюран, с которым Дюма теперь виделся регулярно: тот в июне 1839 года перебрался в Париж и основал (с помощью Дюма, водившего его по инстанциям) бонапартистскую газету «Капитолий». Дюран продолжал деятельность, начатую в Бельгии: пытался склонить общественное мнение в пользу России. Отношения между двумя странами были плохи с наполеоновских времен и еще ухудшились после подавления Польского восстания; французы также считали, что Россия хочет отнять у них Константинополь. Дюран уверял Россию, что неприязнь идет на убыль, французы потеряли интерес к Польше и верят в миролюбие Николая. (Его газета была единственной, которая так считала, – он обманывал своих хозяев.) 12 мая 1839 года, в день, когда было подавлено восстание «Времен года», он писал министру просвещения Уварову: «Теории легитимистов забыты; республиканские павианы укрощены… интересы перестают мало-помалу называться мнениями, и все разумные люди превратились в людей деловых… Одним из сюрпризов, наиболее приятных для меня, было видеть, что смешное предубеждение, существовавшее во Франции против того, кто является самым священным в Вашей стране и в Ваших сердцах, если и не вполне уничтожено, то, во всяком случае, в большей мере изжито. Газеты не смеют еще отречься от предубеждения, но у людей уже почти у всех открылись глаза не столько на политику, сколько на личность Вашего великого императора…» Король, писал Дюран, «всегда сожалеет о том, что не может открыто действовать для России» и либеральные журналисты признаются, «что до сих пор очень плохо знали личность Императора». Это надо использовать.
Он напоминал, как в 1836 году в Петербурге принимали французского художника Верне и наградили орденом Станислава 3-й степени, уверял, что богема Парижа мечтает о подобном счастье, и надо бы повторить это с писателем. Каким? «Со старой литературой покончено. В новой подымаются два замечательных человека: Гюго, великий поэт и, по моему мнению, посредственный драматург, и Дюма (Александр) – самая плодовитая драматургическая голова нашего времени, хотя как поэт он уступает Ламартину и Гюго». Дюран сообщал, что Дюма «жаждет низложить к стопам Императора» пьесу «Алхимик» и что это, разумеется, не его, Дюрана, инициатива, а Дюма сам додумался. «Я, радуясь, что французское образованное общество идет по пути, который я имел честь первый указать всем благомыслящим, посмел обещать Александру Дюма адресовать его манускрипт лично Вам, так как близко знаю Ваш благородный характер и высокую просвещенность… Вполне возможно, что Его Величество сочтет своим долгом ответить на почтительное подношение Александра Дюма почетным знаком своего императорского благоволения. В таком случае, Ваше Превосходительство, для того, чтобы нанести парижским полякам удар сокрушительный и необходимый, не было ли бы уместно посоветовать Его Величеству пожаловать орден св. Станислава 2-й степени?» Надо полагать, Дюма, в свою очередь, было сказано, что в России только о нем и думают, а царь обожает французское искусство, целыми днями обласкивает художников и без его пьесы жить не может.
Дюма приготовил экземпляр «Алхимика» и письмо: «Не только к самодержавному властителю великой империи осмеливаюсь я обратить дань своего благоговения, но и к наиболее просвещенному монарху-цивилизатору… Государь, в наш век, столь материалистический, поэт и артист спрашивают себя: остался ли еще на свете хотя бы один покровитель искусства, который воздал бы должное их славному и бескорыстному служению? – и с удивлением и восхищением узнают, что божественному провидению угодно было именно на престол великой империи Севера поместить гения, способного их понять и достойного быть ими понятым. Государь, я позволяю себе с благоговением, в надежде, что мое имя ему небезызвестно, поднести в виде дара мою собственноручную рукопись Его Величеству Императору Всея России. И когда я писал ее, то был воодушевлен надеждой, что император Николай, покровитель науки и литературы, не посмотрит с безразличием на писателя Запада, записавшегося в число первых, наиболее искренних его почитателей». По указанию Дюрана он написал и Уварову: «На мои вопросы г. Дюрану о способе, которым лучше всего можно было бы довести до Его Величества мое подношение, он указал мне на Ваше Превосходительство… Я опускаю из скромности, которая мне, однако, дорого стоит, те подробности, которые дал мне г. Дюран относительно Вашего Превосходительства, как о Вашем покровительстве искусству, так и о Ваших великих трудах и, наконец, об ответственном политическом посте, который занимает министр народного просвещения в великой империи, где литература и наука так прекрасно направлены на путь прогресса…» И подписался с намеком: «Кавалер орденов Бельгийского льва, Почетного легиона, Изабеллы католической».
Дюран и сам писал Уварову, прося лично быть цензором «Алхимика», организовал пересылку рукописи; в начале июня 1839 года пьеса добралась до Петербурга. 8 июня Уваров представил рукопись Николаю с сопроводительным письмом: «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее Государя, то я со своей стороны полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени. (Дюран-то просил 2-ю. – М. Ч.) Почетное место, занимаемое им в ряду новейших писателей Франции, может дать Дюма некоторое право на столь отличный знак внимания Вашего Величества…» Но царь написал на докладе Уварова: «Довольно будет перстня с вензелем». Почему? Во-первых, сама рекомендация Дюрана была не на пользу Дюма: Бенкендорф знал, что шпион – бонапартист и не вполне надежен. Во-вторых, Уваров почему-то забыл, что Николай не любил французских пьес. (Из записок А. М. Каратыгиной: «Государь вообще не любил переводных драм и бывал доволен, когда мы брали в бенефисы свои оригинальные произведения».) Третий промах, который допустил Дюран (и Уваров почему-то тоже): Дюма в России считался неблагонадежным, и его хвалили «не те» люди. Одним из первых его переводчиков (в 1830-х годах его тексты печатались в «Телескопе», «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках») был Белинский; в рецензии на книгу «Современные повести модных писателей» он отмечал: «Выбор пиес не слишком строг, ибо только первая повесть „Маскарад“, которая в кратком, молниеносном очерке заключает глубокую поэтическую мысль и живую картину человеческого сердца и носит в себе яркую печать мощного и энергического таланта знаменитого Александра Дюма, достойна особенно внимания». Герцен в 1836-м писал невесте из ссылки: «Попроси, чтоб тебе достали 16 № „Телескопа“, прочти там повесть „Красная роза“ („Бланш“. – М. Ч.); ты найдешь в Бианке знакомое, родное твоей душе».
Консерваторам, соответственно, Дюма не нравился. Гоголь, «Петербургские записки 1836 года»: «Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканы и другие стали всемирными законодателями!..» В 1837-м Дюма обругал Фаддей Булгарин: «Мы видим бешеного Кина, знаменитого развратника, которого Дюма на этот раз выбрал своим героем. Внимательный наблюдатель может заметить одну странную и совершенно ложную идею, постоянно господствующую во всех драмах Дюма. Избрав своим героем какое-нибудь лицо, которое родится с печатью отвержения на лице, человека, которого порядочное общество весьма справедливо не может допустить в свой круг, он силится представить по этому случаю несправедливость людей, всячески унизить их своим героем, надругаться над обществом его устами. Если метрическое свидетельство ваше в порядке – вы никогда не будете героем Дюма». Когда В. А. Каратыгин перевел «Ричарда Дарлингтона», цензор докладывал: «Пиеса сия принадлежит к новейшим сочинениям французского искусства, следственно, основана на ужасе, и сочинитель достиг своей цели, прибавляя к сему споры при выборах депутатов для английского парламента… Без сомнения, что сия уродливая пиеса не могла быть представлена на театрах в России, но г. Каратыгин старший, который занимался переводом сей драмы, умел устранить все неприличное, как, например, весь пролог и выборы депутатов…»
В довершение конфуза «Алхимик» был посвящен не Николаю, а жене автора. Так что Уварову пришлось объяснить Дюрану и Дюма, что перстень – это даже лучше, чем орден. Подарок послали в Париж с курьером министерства иностранных дел, он затерялся, Дюма не поленился напомнить Уварову и получил перстень 13 ноября 1839 года из рук русского посла графа Палена. «Алхимик» же был поставлен в Александрийском театре 10 января 1840 года в бенефис Каратыгина, но успеха не имел. Часто говорят, что Дюма написал «Учителя фехтования» потому, что обиделся из-за ордена. Но речь все-таки не о десятилетнем ребенке. История с орденом скорее подогрела его любопытство к далекой стране.
Кроме Дюрана и Гризье о русских ему рассказывали драматург Ипполит Оже (жил в России, дружил с декабристом Луниным) и двое собственно русских: Анатолий Николаевич Демидов (1812–1870), который жил в Париже и Флоренции (Дюма был в его имении Сан-Донато), поклонник Наполеона, впоследствии породнившийся с его семьей, и также живший во Флоренции Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1768–1851), отец декабристов, в молодости участвовавший в заговоре против Павла I; вероятно, от него Дюма узнал о декабристах больше, чем от кого-либо. «Ни на одного из своих сыновей я не могу пожаловаться, – говорил он мне, вытирая слезы. Лично он являлся скорее аристократом, нежели либералом». Тема благодатная, и никто еще о ней не писал. Не только во Франции. В России она тем более была под запретом.
Кроме рассказов знакомых, Дюма использовал массу источников – записки адъютанта Наполеона графа де Сегюра, считавшегося специалистом по России, книгу Альфонса Рабба «История Александра I» (1826), «Записки о смерти Павла I» Рене Лепретра (1820); возможно, даже доклад Следственной комиссии по делу декабристов (или, по крайней мере, ему этот доклад пересказал Муравьев). Сюжетной же основой романа, по признанию автора, стали воспоминания Гризье. Не обошлось без упреков: друг Гризье граф д’Орбур писал: «Дюма опубликовал „Полину“ и эти знаменитые „Записки учителя фехтования“, которые Жанен всегда ставил Вам в упрек за то, что Вы их подарили… Я поглотил три тома „Записок“, я следовал за Вами по пути из Парижа в Петербург… Двадцать раз я перечитывал это произведение, написанное Дюма под Вашу диктовку…» Большинство людей не понимают, как делаются книги: «продиктовать» и написать – совсем не одно и то же.
Напомним: жил-был Иван Александрович Анненков (1802–1878), учился в Московском университете, в 1819-м был принят в Кавалергардский полк, в 1824-м вступил в Петербургский филиал Южного общества декабристов, и жила-была Полина Гебль (1800–1876), дочь наполеоновского офицера, модистка в московском торговом доме Дюманси; в 1825-м они полюбили друг друга. После восстания Анненков был осужден к каторге на 20 лет; в 1840-м, когда «Учитель фехтования» печатался в «Парижском обозрении», он уже был женат на Полине и получил разрешение служить в Сибири (канцелярским служителем 4-го разряда в Туринском земском суде); в 1859-м, когда он состоял чиновником особых поручений при нижегородском губернаторе А. Н. Муравьеве (также прошедшем ссылку), они с Дюма встретились. И ему, и его жене роман активно не понравился.
Французам он тоже не понравился, заинтересовав лишь знакомых Гризье; литературоведы не относят его к числу художественных удач. Автор решил в небольшой текст впихнуть все, что знал о России, и получился лишь на треть роман, а на две трети – смесь учебника с путеводителем. Архитектура, обычаи, цены – все дотошно, как в «Швейцарии». «Извозчики в Петербурге – это обыкновенные крепостные, которые за известную сумму денег, называемую оброком, покупают у своих помещиков разрешение попытать счастья в Петербурге. Экипаж их – обыкновенные дроги на четырех колесах, в которых сиденье устроено не поперек, а вдоль, так что сидят на нем верхом, как дети на своих велосипедиках у нас на Елисейских Полях… Что касается самого извозчика, он очень напоминает неаполитанского лаццарони: нет нужды знать русский язык, чтобы объясняться с ним, – с такой проницательностью он угадывает желания седока. Он помещается на облучке между седоком и лошадью, а порядковый номер прикреплен к его спине, дабы недовольный седок мог в любое время его снять. В таких случаях достаточно отнести или отослать номер в полицию, и вы можете быть уверены, что за свою вину извозчик понесет должное наказание». Мило изложено, но французам было не очень интересно: в Россию мало кто ездил туристом.
У нас интереса было куда больше – роман был под запретом, так что читали его все, включая императрицу, – но любви к автору он не прибавил, на него обиделись. О самом Николае Дюма не сказал ничего плохого («человек холодный, суровый, с сильным, властным характером» – так говорили о нем, а оказался куда добрее), но он изложил всю нашу запретную историю: Анна Иоанновна, морившая людей в ледяном доме, убийство Петра III, фаворитство Потемкина, полубезумный Константин Павлович, садистка Настасья Минкина, смерть узников Петропавловской крепости при наводнении, наконец, безумие и убийство Павла I (о чем не разрешалось писать аж до 1905 года): Александр I, брат царя, был соучастником убийства отца. Но и «декабристская» сторона тоже обиделась: Дюма «исказил», «переврал». Из письма И. И. Пущина Н. Д. Фонвизиной (1841): «Матвей Муравьев читал эту книгу и говорит, что негодяй Гризье, которого я немного знал, представил эту уважительную женщину (мать Анненкова. – М. Ч.) не совсем в настоящем виде… Увидев, что книга с бреднями имеет ход по Европе, я должен был сказать Анненковой, что ожидаю это знаменитое сочинение. Тогда и Вы прочтете, а Анненкова напишет к Александру Дюма и потребует, чтоб он ее письмо сделал так же гласным, как и тот вздор, к которому он решился приложить свое перо». Полина Анненкова, «Воспоминания» (1888): «Если я вхожу в подробности моего детства и первой молодости, это для того, чтобы… прекратить толки людей, не знавших правды, которую по отношению ко мне и моей жизни часто искажали, как, например, это сделал Александр Дюма в своей книге „Memoires d’un maotre d’armes“, в которой он говорит обо мне и в которой больше вымысла, чем истины». Достоевский, «Дневник писателя» (1876): «Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец».








