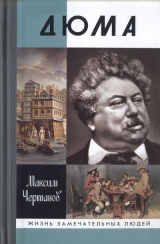
Текст книги "Дюма"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
Здесь Дюма сформулировал свою концепцию истории – провиденциализм: ничто не случайно, высшая сила (Провидение) неуклонно движет историю по пути прогресса. Разумеется, это не его изобретение. Э. М. Драйтова в книге «Повседневная жизнь Дюма и его героев» предполагает, что на него повлиял его знакомый философ Жюль Симон (1814–1896), но в 1830-е годы Симон был мальчиком, а провиденциализм давно был во французской историографии общим местом. Гизо: «Я вижу присутствие Бога в законах, управляющих прогрессом человеческого рода», «европейская цивилизация приближается, если можно так выразиться, к вечной истине, к предначертаниям Провидения». Мишле писал об «универсальной централизации, составляющей прочность и солидарность всего… великой живой причине, каковая есть Провидение». Провиденциалистами были и де Местр, и Шатобриан, и Минье, и Тьери, вот только каждый был уверен, что характер и политические взгляды Провидения совпадают с его собственными: у Гизо оно, доведя дело до Луи Филиппа, должно было остановиться, а когда оно отправилось дальше, то привело его в отчаяние, у Мишле оно могло двигаться по пути обретения человечеством высшей ценности, свободы, почти бесконечно, Провидение Тьера «колебалось вместе с линией партии». Провидение Дюма будет заботиться и о частностях: хорошие люди должны вознаграждаться, плохие – наказываться; и как Наполеон был орудием Провидения в больших делах, так граф Монте-Кристо или палач из Лилля – в малых.
Он дал прогноз на будущее: парламентская революция – постепенное снижение избирательного ценза до введения всеобщего избирательного права; правительство «будет состоять просто из должностных лиц, выбираемых на пятилетний срок», и это будет спокойная форма правления, «ибо те, кто доволен своими представителями, надеется их выбрать снова, а кто нет – надеется сместить». Президент (как назовут избираемого правителя, не важно) «не должен быть богаче своих подданных, чтобы его интересы совпадали с их интересами» – занятная мысль, не реализованная и поныне… Вообще прогнозы Дюма делал регулярно и верно (потому что не гадал, а анализировал): так, за несколько лет до Крымской войны (1853–1856), разобрав геополитические интересы разных стран, предсказал союз Англии, Франции и России, который казался тогда немыслимым.
В сентябре он перевел сына, которого на несколько месяцев забрал из пансиона Вотье и с которым Белль отказывалась справляться (ее письмо Дюма: «В твое отсутствие никто не может с ним сладить… Не помогают ни просьбы, ни угрозы… Ты ставишь между собой и сыном женщину, которая все свои силы направляет на то, чтобы вытеснить тебя из его сердца. И придет время, когда ребенок, исполненный любви к матери, скажет тебе: „Ты разлучил меня с матерью, ты был жесток к ней“. Вот чему его будут учить…»), в коллеж Сен-Виктор, которым руководил его соавтор Проспер Губо. На деньги Лаффита (банкир-идеалист не унимался, пытаясь сделать что-нибудь хорошее, но Дюма его почему-то невзлюбил) Губо создал престижное заведение, выпускники поступали в Сорбонну или лицей Бурбонов (ныне Кондорсе). Но там был жесткий порядок: жить в общежитии, домой (даром что до дома полчаса) – лишь на каникулы. Решили, что дисциплина пойдет мальчишке на пользу, – а он хотел к матери…
А отец поехал развеяться к знакомой семье Перье на охоту, потом – в Авиньон и Гренобль, оттуда писал художнику Полю Юэ, что собирается в Алжир. Работал без выходных, в карете, в поезде, в гостинице, работал вечером, если из-за охоты или экскурсии не выполнил норму днем: заканчивал «Швейцарию». В Алжир не собрался, в октябре вернулся в Париж и прочел манифест, который «Лига прав человека» опубликовала в «Трибуне»: нужна социалистическая республика с абсолютной властью государства, национализированной и плановой промышленностью. «Добиться этого они хотели восстанием. Глупо». Он разошелся с Белль, оставив за ней квартиру на улице Сен-Лазар (их дочь так и жила у кормилицы), сам поселился в гостинице, Ида жила отдельно. Почему не вместе? Предположительно, в тот период он наконец вступил в связь с незаурядной женщиной.
Влюбленность в Мари Дорваль была безответна – «останемся друзьями», «Вы мой милый песик», но теперь в жизни актрисы была сложная ситуация: брак с драматургом Мерлем развалился, с де Виньи отношения тяжелые, Арель не подписал с ней контракт. Она уехала на гастроли в провинцию: Руан (20 августа – 8 сентября), Камбре и Аррас (14 сентября – 7 октября), Гавр (21 октября – 6 ноября), снова Руан (23 декабря – 16 января 1834 года). В каком-то из этих городов она поссорилась с де Виньи, и Дюма приехал к ней – утешить: он вел переговоры с Тьером, который попросил поставить что-нибудь современное в дышавшем на ладан Французском театре, предложил «Антони» и настоял, чтобы Дорваль там играла. В письме актеру Бокажу он похвастал, что Дорваль стала его любовницей. Об этом болтали, но подтвердился факт только в XX веке, когда были опубликованы письма Дорваль. Возможно, у него были на нее далеко идущие планы: женщина, за которой ему пришлось бы тянуться, талантом не уступавшая ему. Все могло быть серьезно…
Вышла из печати «Галлия и Франция», критик Сен-Мишель в «Парижском обозрении» хвалил, остальные назвали компиляцией из Шатобриана и Тьери. Шатобриан ничего не сказал, а Тьери поздравил автора и написал Бюло, что в работе видны «смелость, горячность, поэзия и большой интеллект», но критиков это не смутило. Самую разносную статью напечатал 26 октября в «Литературной Европе» Гранье де Кассаньяк: читается неплохо, но это чистый плагиат, так работать нельзя. 1 ноября – другая статья Кассаньяка в газете «Дебаты»: автор противопоставлял Дюма Гюго (он был протеже Гюго) и писал, что пьесы Дюма были плагиатом с Шиллера, Лопе де Веги и Скотта. Знакомые сказали, что статья написана с ведома Гюго. Дюма – Гюго: «Сегодня мне принесли статью, я смог ее прочесть и должен признать, что не представляю, чтобы при той дружбе, которая связывает Вас с г-ном Бертеном (владельцем газеты. – М. Ч.), Вам не показали статью, где речь идет обо мне… Что я могу сказать Вам, друг мой, кроме того, что никогда не допустил бы… чтобы в газете, где бы я пользовался таким же влиянием, как Вы, – в „Дебатах“, вышла статья, направленная против человека, которого я назвал бы не соперником, но другом». Гюго ответил: статью читал, но дурного в ней не видит, за критику надо благодарить, а не обижаться, и он готов объясниться при встрече. Встреча не состоялась, а Гюго без спросу опубликовал письмо Дюма. Сент-Бёв записывал 17 ноября: «Дюма и Гюго навек поссорились, и хуже всего в этом скандале то, что теряется уважение к поэтам». Большинство коллег были на стороне Дюма: де Виньи писал, что Гюго просто «мочит» конкурента. Ссора имела отклик в самых верхах, Тьер пытался помирить драматургов, чтобы они занялись реанимацией Французского театра, но не вышло.
Ничего не вышло и из связи с Дорваль. Она с раскаянием написала Виньи о своем «падении», Дюма писала, что сожалеет. «Иметь такую тайну, какая появилась между нами, чудовищно! Я отдалась Вам, теперь я не могу Вам писать… Меня утешает лишь то, что Ваша дружба куда больше Вашей любви. Поверьте, Вы относитесь ко мне именно как к другу…» Он сдался Иде и 5 декабря въехал в квартиру, которую та меблировала по своем вкусу (рюшечки, всё под «леопарда») на улице Бле, 30. Взял в помощь Рускони еще «секретаря», Фонтена, этот бездельник пять лет будет его обирать. От Дорваль переезд скрыл – не мог сделать решительный шаг, писал ей, что хочет приехать к ней в Руан. Она согласилась на «последнюю встречу». До сына опять руки не доходили. Ребенок устроен, школа хорошая, чего еще? А ребенку было плохо. Много лет спустя в романе «Дело Клемансо» Дюма-младший описал свои страдания. Матери нескольких учеников были клиентками Катрин, от них узнали, что она не замужем, а он незаконнорожденный. Из письма другу: «Мальчишки оскорбляли меня, радуясь случаю унизить имя, которое прославил мой отец, унизить, пользуясь тем, что моя мать не имела счастья его носить… Один считал себя вправе попрекать меня бедностью, потому что был богат, другой – тем, что моей матери приходится работать, потому что его мать бездельничала, третий – тем, что я сын швеи, потому что сам был благородного происхождения; четвертый – тем, что у меня нет отца, возможно, потому что у него их было два… Этот кошмар, который я описал в „Деле Клемансо“ и о котором не говорил матери, чтобы не причинять ей страдания, длился пять или шесть лет. Я чуть от этого не умер. Я не рос. Я слабел; у меня не было желания ни учиться, ни играть. Я замкнулся в себе…»
28 декабря «Анжела» поставлена в «Порт-Сен-Мартене», писали, что пьеса не хуже «Антони» – романтическая трагедия в современных декорациях, «Литературная газета» назвала Дюма «главой романтической школы» – Гюго не зря опасался соперника. Ипполит Роман в «Обозрении двух миров» поместил очерк о нем: «Слишком либеральный в дружбе, слишком деспотичный в любви, по-женски тщеславный, по-мужски твердый, божественно эгоистичный, до неприличия откровенный, неразборчиво любезный, забывчивый до беспечности, бродяга телом и душой… ускользающий от всех и от себя самого, столько же привлекающий своими недостатками, сколько достоинствами». Читать о себе такое лестно, но бродягой Дюма не был и, как большинство писателей, нуждался в порядке: рабочий кабинет, размеренный труд по расписанию и чтобы кто-то взял на себя бытовые заботы. Он съездил к Дорваль в Руан, опять ни до чего не договорились. Она вернулась в Париж 16 января 1834 года и узнала, что Дюма живет с Идой Ферье, а также, по слухам, завел интрижку с юной актрисой Эжени Соваж. Разрыв произошел в конце января 1834 года в Бордо – «останемся друзьями» – и, что удивительно, вправду остались. В ожидании возобновления «Антони» Дюма написал пьесу для Иды – «Кэтрин Говард», новую редакцию «Длинноволосой Эдит», там были все его постоянные темы: таинственный палач, женщина, принимающая снадобье, чтобы притвориться мертвой, и тому подобное, к истории пятой жены Генриха VIII отношения не имевшее. Именно об этой пьесе Дюма сказал, что «использовал Генриха как гвоздь, чтобы повесить картину»; это высказывание часто относят ко всему его творчеству, а зря. Он отлично видел, где сработал по-настоящему, а где «так себе». Подобную «Кэтрин» псевдоисторическую пьесу «Венецианка» (с участием Буржуа) он отказался подписать.
Палата, куда в 1831 году вроде бы избрали не самых плохих людей, под руководством правительства мигом превратилась во «взбесившийся принтер», который, вернувшись с каникул, энергично взялся печатать законы. Пересмотрели закон «больше двадцати не собираться»: теперь нарушителями считались люди, которые собрались и по двое, если они являются членами кружка, не санкционированного властями; санкцию же могли в любой момент отнять. Оппозиция пыталась добиться, чтобы закон не распространялся на научные и литературные кружки. Чего захотели! Гизо: «Нет ничего легче, как восстановить под видом литературных обществ политические союзы, которые закон хочет уничтожить». Конституция 1830 года восстановила свободу печати, причем в текст ее была внесена статья о том, что «цензура не может быть никогда восстановлена», но к 1834 году цензуру вернули в полном объеме. По конституции полагались выборы в муниципальные советы (мэры и префекты назначались) – жирно вам: в Париже ввели особое административное устройство, поделив его на округа, во главе которых стояли «мэры», назначаемые лично королем, советы превратились в фикцию, а реальная власть принадлежала префекту Сены и префекту полиции. Не только «Национальная», но и умеренное «Обозрение двух миров» негодовало, Бюло писал 29 февраля 1834 года: «Наши министры… придумали закон, который отдает предварительную цензуру в руки полиции, и закон о собраниях, который поставит всю страну под полицейский надзор. Остается только ликвидировать суды присяжных, из-под них уже выводят политические процессы, и принять „закон любви“ и „закон о святотатстве“. После этого депутаты могут уйти на покой, они сделали свое дело».
Поэты любят говорить: «Мы не политики, мы просто за все хорошее», но зачастую они разбираются в политике лучше профессиональных революционеров: и Гюго, к тому времени склонившийся на сторону республиканцев, и «легкомысленный» Дюма не хуже Маркса понимали, что опрокинуть можно шатающийся от старости, но не только что отремонтированный трон, что революции не делаются по мановению руки и что людей нельзя «вывести» на улицы – они выходят сами (по воле Провидения или законов общественного развития, не важно: это по сути одно и то же). Революционеры так не считали. 13 апреля в Париже случились новые беспорядки.
Началось опять с Лиона: там 14 февраля прошла забастовка ткачей, просили повысить зарплату, едва фабриканты пообещали требования «обсудить», сдались, но «Лига прав человека» решила «разжечь», послав в Лион активистов. 9 апреля они вывели некоторое количество людей на площадь, в ответ – войска, опять неизвестно кто начал стрельбу. 10 апреля появились листовки, в которых утверждалось, что король свергнут. Баррикады, стычки, аресты, пассивность горожан, другие города пытались подхватить забастовку, но безуспешно. «Лига» 13 апреля пыталась вытащить на улицу парижан – пришли всего несколько сотен человек. И устали от политики, и жилось неплохо, ткачи, как считалось, с жиру бесятся, зарплату им повысили, и кто виноват, что в их отрасли иностранная конкуренция? Цензура – ну цензура… Все-таки построили десяток небольших баррикад, а в ночь на 15 апреля, одновременно с вводом войск в Лион, парижские баррикады были расстреляны. Как и в прошлый раз, была жуткая бойня на одной из них – на улице Транснонен (ныне Бобура): капитан пехоты был ранен выстрелом из соседнего дома и приказал «ликвидировать» всех мужчин, находящихся в здании. Убили 12 человек и многих ранили, в том числе женщин и детей. 16 апреля были арестованы 164 «заговорщика», а 25 мая король разогнал парламент (и так лояльный) и назначил новые выборы: они состоялись 21 июня, и консерваторы одержали победу. Дюма писал об этом сухо: «…мы пережили беспорядки». Но он совершил два практических поступка. Гусар Брюйан, уроженец Вилле-Котре, был осужден на казнь за попытку поднять восстание в своем полку и убийство офицера в драке, мэр Вилле-Котре обратился к Дюма: бедняга невменяем. Дюма воззвал к Фердинанду: «Я потерял право рекомендовать Вашему Высочеству что бы то ни было, но не потерял права дать Вам возможность сотворить добро». Фердинанд говорить с отцом отказался – не послушает, просил ходатайства от Тьера. Дюма, не вынося Тьера, пошел к Гизо, тот согласился помочь, и дело кончилось помилованием (Фердинанд оплатил содержание Брюйана в больнице). Другой участник беспорядков, во всяком случае назвавшийся таковым, Жюль Леконт, бывший военный и журналист, пришел к Дюма, просил его спрятать и помочь с паспортом и остался у него жить.
28 апреля, когда во Французском театре должен был идти «Антони», Дюма узнал, что депутат Антуан Же в «Конституционной газете» требовал от Тьера запретить «безнравственную и бездарную» пьесу, и Тьер запретил. Дюма пошел к нему на прием, ругался, умолял – безрезультатно, подал в суд на театр, требуя выплатить неустойку. Слушание состоялось 2 июня, в день премьеры «Кэтрин Говард» в «Порт-Сен-Мартене» (умеренно успешной), затем апелляция, и 14 июля Дюма получил шесть тысяч франков. Одновременно был на другом процессе ответчиком: издатель Барба, купивший права на «Христину», подал на Дюма в суд за то, что он продал собрание сочинений издателю Шарпантье. Первую инстанцию Дюма и Шарпантье проиграли, апеллировали и добились смягчения решения: возместить Барба три тысячи франков и заплатить тысячу франков штрафа. (Дюма, как всякий литератор XIX века, судился беспрестанно и, хотя его считают безалаберным человеком, чаще выигрывал или по крайней мере не проигрывал вчистую.) Барба не простил, и с его подачи Морис Альо, редактор газеты «Медведь», 30 июля опубликовал о Дюма статью, злобную и несправедливую: «Ал. Дюма – худший субъект, какого только можно вообразить, беспечный и беззаботный, живущий удовольствиями и праздниками, не знающий счета деньгам, вину и женщинам». Александр вызвал Альо на дуэль, оружием были шпаги, противник оцарапал ему плечо, на сем конфликт закончился. Но он устал от Парижа и хотел уехать.
План: собрать ученых, геологов, скульптора, архитектора и написать «военную, религиозную, философскую, моральную и поэтическую историю народов, сменявших друг друга на берегах Средиземного моря». Вдохновили его барон Тейлор и художник Адриен Доза, побывавшие в Египте, Палестине и Сирии. Но они не написали о египетской кампании Наполеона – надо восполнить пробел. Долго шла переписка с Тейлором, ни до чего не договорились; 10 октября Дюма обратился с проектом к Гизо (подольстился как мог: «Мы собираемся предпринять экспедицию в целях развития искусства и науки в эпоху, когда, как говорят, политика задушила искусство и науку. Тем, кто обвиняет нашу эпоху в том, что она материалистична и враждебна поэзии, мы сказали бы, что по крайней мере у нас есть правительство, которое помогает нам») и опубликовал маршрут: Корсика – Сардиния – материковая Италия – Сицилия – Греция – Турция – Малая Азия – Палестина – Египет – побережье Африки – Испания.
Пока ждал ответа Гизо, в газете «Семейный музей» Гайярде написал, что Дюма украл у него «Нельскую башню». Дюма ответил, Гайярде обвинил его еще и в краже денег, 14 октября Дюма вызвал его на дуэль. 17-го стрелялись, Гайярде промахнулся, Дюма выстрелил в воздух и в тот же день уехал в Руан, где выступал от Союза драматургов на открытии памятника Корнелю. Вернулся и тотчас поссорился с Бальзаком (раньше отношения были просто кислые). Бальзак нарушил условия договора с Бюло, тот подал в суд и инициировал серию статей в газетах о частной жизни Бальзака: незаконно присвоил дворянство, вообще гадкий тип. Литературный Париж, включая Дюма, встал на сторону издателя, а не коллеги – Бальзака не любили, и по сути спора он был не прав. С этого периода Дюма и Бальзак отзывались друг о друге все ядовитее. Ходил анекдот: Бальзак сказал, что возьмется писать пьесы, только если ни на что другое не будет способен, Дюма парировал: «Так начинайте сразу». В мемуарах, однако, он о коллеге высказался мягко и сдержанно: «Его талант, его способ сочинять… настолько отличны от моих собственных, что я здесь плохой судья».
Гизо согласился финансировать путешествие: пять тысяч франков с выплатой в три этапа. Это почти ничего: хватит лишь на поездку по югу Франции, без ученых, только с художником Годфруа Жаденом и «секретарем» Леконтом. По протекции Фердинанда получили рекомендательные письма от военного министра и министра иностранных дел. Выехали 7 ноября: Фонтенбло – Кон – Бурбон-л’Аршамбо – Лион – Вьенн – Баланс – Оранж – Авиньон – Эг-Морт – Арль – Марсель. В Лионе Дюма задержался, все записал о ткачах: иены на ткани, себестоимость, прибыль, зарплата. Местный театр играл «Антони», Адель – актриса Гиацинта Менье, талантливая, замужняя, он влюбился, она дала от ворот поворот, писал ей грустно: «Вы осуществили мою давнюю мечту об особенной любви, любви уединенной, одной из тех привязанностей, к которым обращаются в минуту большого горя или большого счастья», а на следующий год устроил ей работу в Париже. Удивительный мужчина: не обижался, когда ему отказывали, и умел «оставаться друзьями».
Влюбленность вдохновила: в поездке он начал писать пьесу «Дон Жуан де Маранья, или Падение ангела» по мотивам «Душ чистилища» Мериме, вещь необычную, в старинном жанре мистерии – смесь музыки и драмы. В Марселе деньги кончились, Леконт проворовался, и с ним расстались, Гизо не слал вторую часть субсидии, на Новый год вернулись в Париж. Гизо отказал в выплатах, Дюма уговорил издателей Шарлье и Пишо основать акционерное общество, распространили 100 акций по тысяче франков (Ламартин купил одну акцию, Гюго дал 200 франков после отдельной просьбы). Заметки о поездке писать было недосуг, наброски, вероятно, были, но «Новые путевые впечатления: Юг Франции» были опубликованы только в 1840 году в газете «Век», а отдельной книгой вышли у издателя Дюмона в 1841-м. История, архитектура, экономика, сценки, все как в «Швейцарии», но автор придумал прелестную «фишку»: сравнивал каждый город с какой-нибудь музыкальной темой. «Дон Жуана» оставил – не шло, почему-то над некоторыми вещами мог работать только в дороге. Зато свел исторические очерки, печатавшиеся в «Обозрении», в книгу «Изабелла Баварская».
В предисловии к другой книге, написанной в тот же период, «Графиня Солсбери», он объяснял, как будет писать исторические тексты и почему за это взялся: современный читатель «зажат в пространстве между историей… которая представляет собой не что иное, как скучное собрание дат и событий, связанных между собой хронологическим порядком; историческим романом, который, если только он не написан с гениальностью и познаниями Вальтера Скотта, подобен волшебному фонарю, лишенному источника света… и хрониками, источником надежным, глубоким и неиссякаемым, откуда вода, однако, вытекает настолько взбаламученной, что сквозь рябь почти невозможно разглядеть его дно неопытным глазом». Профессиональные историки «превращают историю в скелет, лишенный сердца» (упрек несправедливый по отношению к Тьери или Тьеру), недобросовестные (а других во Франции пока нет, кроме Гюго) исторические беллетристы «делают из нее чучело, лишенное скелета». Как же писать о ней? «Как только вы остановили свой выбор на той или другой эпохе, вам следует тщательно изучить различные интересы, которые движут народом, дворянством и королевской властью; выбрать среди главных персонажей этих трех слоев общества тех, кто принял активное участие в событиях, совершавшихся в то время… разобраться, каковы были характер и темперамент этих персонажей, чтобы… можно было бы наблюдать за развитием у них страстей, ставших причинами великих бедствий и связанных с ними событий, которыми нельзя заинтересовать иначе, как показывая, сколь закономерно они заняли место в хронологических справочниках… Искусство, таким образом, будет использовано лишь для того, чтобы придерживаться нити, которая, извиваясь по всем трем этажам общества, связывает воедино события…»
Вальтер Скотт так и делал – и Дюма откровенно подражал ему, стиль не отличить: «В это воскресенье здесь, на дороге из Сен-Дени в Париж, народу собралось такое множество, будто люди явились сюда по приказу. Дорога была буквально усеяна людьми, они стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно колосья в поле, так что эта масса человеческих тел, настолько плотная, что малейший толчок, испытываемый какой-либо ее частью, мгновенно передавался всем остальным, начинала колыхаться, подобно тому как колышется зреющая нива при легком дуновении ветерка… Вскоре показался отряд сержантов, палками разгонявших толпу, а за ним следовали королева Иоанна и дочь ее, герцогиня Орлеанская, для которых сержанты расчищали путь среди этого людского моря. <…> Наряд этот представлял собой черный на алой подкладке бархатный плащ, по рукавам которого вилась вышитая розовой нитью большая ветка: на ее украшенных золотом стеблях горели изумрудные листья, а среди них сверкали рубиновые и сапфирные розы, по одиннадцать штук на каждом рукаве…»
Изабелла Баварская – жена Карла VI Безумного, который в XV веке развалил страну: после очередной битвы Столетней войны, в которой победили англичане, он объявил наследником короля Англии Генриха V, что означало присоединение Франции к Англии; подбила его на это Изабелла, сам король, как считают историки, был невменяем. Дюма изложил историю толково и ясно, хотя несколько мелодраматично, Изабеллу, «любящую любовью волчицы и в ненависти подобную львице», представил в соответствии с традицией XIX века шлюхой, хотя поздние историки считают, что это клевета, короля жалел: «Как человек, внезапно застигнутый землетрясением… он покорно опустил свою седую голову и, смирившись, ожидал гибели». Сильный трагический финал – ничто так не удавалось Дюма, как финалы, – похороны бедолаги Карла:
«Когда яма была засыпана, главный герольд дю Берри поднялся на холм и провозгласил:
– Да ниспошлет господь бог свое милосердие душе светлейшего принца Карла Шестого, короля Франции, нашего законного и суверенного государя!
Со всех сторон раздались рыдания. Тогда, сделав короткую паузу, дю Берри снова воскликнул:
– Да продлит господь бог дни Генриха Шестого, божьей милостью короля Франции и Англии, нашего суверенного государя!
Едва прозвучали эти слова, королевские стражники подняли вверх булавы с изображением лилий и дважды воскликнули: „Да здравствует король!“
Толпа безмолвствовала: никто не подхватил этого кощунственного возгласа – не встретив отклика, он растаял под мрачными сводами усыпальницы французских королей и в глубине своих могил заставил содрогнуться от ужаса покоившихся друг подле друга усопших государей трех монархий».
Последняя сцена «Бориса Годунова» в издании 1831 года кончалась словами Мосальского: «Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует Царь Димитрий Иванович! Народ безмолвствует». Пушкинистам, конечно, покажется кощунственным даже упоминать имя Дюма на одной странице с великим поэтом. И все же мыслили они в одном направлении и чувствовали сходно…
Книга вышла в издательстве «Дюмон», критика отнеслась снисходительно. Еще вышел сборник «Воспоминания Антони» (переиздавался много раз в разном составе), куда Дюма, кроме старых текстов, включил историю об обезьянах, живших у художника Декана, и проявил себя мастером рассказов о животных. Он принес Декану черепаху по имени Газель. Обезьяна ее увидела: «По выражению доверчивости, с каким Жак приблизился к Газели, легко было увидеть: он с первого взгляда решил, что приключившееся с ней несчастье привело ее в состояние полной беззащитности. И все же, оказавшись всего в полуфуте от monstrum horrendum[13]13
Страшного чудовища (лат.).
[Закрыть], он приостановился, заглянул в повернутое к нему отверстие и стал с притворной беспечностью ходить вокруг черепахи, изучая ее примерно так же, как генерал осматривает город, когда собирается его осаждать. Закончив осмотр, он тихонько протянул руку и кончиком пальца дотронулся до края панциря, но тотчас проворно отскочил и, не сводя глаз с занимавшего его предмета, принялся плясать на ногах и руках, сопровождая эти телодвижения победной песней… Однако танец и песня внезапно оборвались: в голове Жака пронеслась новая идея. Он внимательно посмотрел на черепаху, которой его рука своим прикосновением сообщила колебательное движение, длившееся благодаря сферической форме ее панциря, затем бочком, словно краб, приблизился к ней, а оказавшись рядом, встал, перекинул через нее одну ногу, будто садился верхом на коня, и мгновение смотрел, как черепаха шевелится между его ногами. Наконец он, казалось, совершенно успокоенный глубоким изучением предмета, уселся на это подвижное сиденье и, толкнув его и не отрывая ног от пола, стал весело раскачиваться, почесывая бок и щурясь, что означало для тех, кто его знал, проявление непостижимой радости».
Кордье-Делану попросил доделать свою пьесу «Кромвель и Карл I» для «Порт-Сен-Мартена», Дюма подписываться не стал (работа заняла два дня), пьесу играли 21 мая. Куда тяжелее было с настоящей вещью – «Дон Жуаном». «Я был поглощен идеей, что смогу реализовать мою фантазию лишь с помощью музыки» – каждый день ходил в консерваторию или в церковь слушать орган. 5 мая открылся новый громкий процесс: 164 республиканца обвинялись в мятеже апреля 1834 года (главный обвиняемый, Кавеньяк, скрывался несколько месяцев, был арестован в феврале 1835-го; Этьен Араго отсиделся в Вандее), палата пэров издала оригинальный указ: обвиняемые не имеют права говорить. Ни Гюго, ни Дюма на процесс не ходили. Сколько можно слушать про одно и то же… Наконец удалось собрать деньги на продолжение поездки; 12 мая Дюма, Жаден и – вместо Леконта – Ида Ферье выехали в Лион.
Дальше опять Марсель, замок Иф, Дюма осмотрел камеру, где сидели знаменитости, собрал версии о Железной Маске – для чего-нибудь пригодится, на июнь осели в Тулоне, там он посещал каторгу и дописал «Дон Жуана» на музыку композитора Луи Александра Пиччини: ангелы говорят стихами, остальные – прозой. Труайя пишет, что он эту вещь «кое-как навалял» – но современные критики иного мнения: тонкая вещь, слишком оригинальная, чтобы ее поняли. В конце июня – Ницца, дальше – Италия, то есть ряд отдельных государств со своими порядками. Начали с Генуи, но полиция попросила уехать: у нее есть сведения, что Дюма республиканец, то бишь потенциальный преступник. Оттуда в Ливорно, затем во Флоренцию, столицу Великого герцогства Тосканского, сменившего в 1532 году Флорентийскую республику, правил там герцог Леопольд II, либерал. Родина искусств, чудный климат, красота, свобода, давно отменены пытки и смертная казнь, попы отстранены от образования и почти нет цензуры. Флоренция не щетинилась при виде иностранцев, им легко давали гражданство, они строили фабрики, как Демидов: интернациональный коммерческий и культурный рай, наводненный политэмигрантами. Пробыли там три недели, Дюма собирал материалы о войне гвельфов и гибеллинов (эти магические слова – названия политических партий в XII–XVI веках, первые – за папу римского, вторые – против); написал статью о них и перевел (итальянский он знал хорошо) фрагменты «Божественной комедии», опубликовав их в марте 1836 года в «Обозрении двух миров».
А дома происходили события, достойные романа. 12 июля Кавеньяк и еще 26 обвиняемых по «делу 15 апреля» бежали из неприступной Сан-Пелажи. Организовали это один из их адвокатов Этьен Араго и Арман Барбес, будущий соратник Бланки; Араго и Барбес остались в Париже, Кавеньяк бежал в Англию. (Суд над остальными длился еще девять месяцев, большинство были осуждены на ссылку или тюрьму.) Побег был фантастический, но о нем Дюма не написал – эти люди от него были все дальше. 28 июля на параде Национальной гвардии террорист взорвал бомбу, пытаясь убить Луи Филиппа и его семью, погибли, как обычно бывает, 18 ни в чем не повинных людей, 42 человека были ранены, король отделался царапиной. Террорист, корсиканец Джузеппе Фиески, авантюрист и игрок, заявил, что у него были сообщники Пепин и Мори, республиканцы. Считают, что он их оговорил, есть также версия, что он был полицейским провокатором, но это вряд ли, так как гильотинировали и «сообщников», и его. Подарок королю: во всем винили «Лигу прав человека», все ее осуждали, даже Каррель написал, что в деле «видна рука Кавеньяка». (В 1836-м Каррель брал у Кавеньяка в эмиграции интервью, тот клялся, что ни при чем, скорее всего, так и было, французские революционеры индивидуальным террором не увлекались, у них был один метод – вывести людей на улицу, а там видно будет.)








