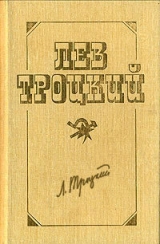
Текст книги "Том 4. Перед историческим рубежом. Политическая хроника"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 57 страниц)
Да, пасуя пред патриотической вакханалией, оппозиция обнаруживает не только полицейский страх, она повинуется смутному голосу классового инстинкта. Но сознательный голос классового интереса требует от нее немедленного и активного участия в политическом размежевании общественных сил. Это противоречие непримиримо, – оно коренится в историческом положении буржуазии. Практический выход из противоречия определяется степенью ее политического разложения. В данном случае степень так высока, что либерализм пришел к необходимости самоустранения… пока что. Из страха пред силами революции он уступает им место.
"Искра" N 60, 25 февраля 1904 г.
Политические письма. Две толпыПатриотическим манифестациям приказано не быть. Полицейские регистраторы уровня патриотических чувств забили тревогу. Их охватило опасение, как бы «патриотизм» не перешел в свою противоположность – жизнь последних лет не раз доставляла им такие «диалектические» сюрпризы! – и они приказали «порыву» прекратиться. И, по-видимому, в высшей степени вовремя…
За широкую толпу пассивных демонстрантов, примыкавших по пути, в силу законов массового сцепления, за эту толпу никак нельзя было ручаться. В ее «патриотических» криках, поскольку они были, точно спертый воздух в отдушину, выливались ее накипевшие по всяким и всяческим поводам чувства. И если б ей был брошен с энергией другой лозунг, она подхватила бы и его. Уже слышался неосмысленный, но несомненно, непатриотический крик: "Социалия, соединяйтесь!" (в Таганроге)… Создавались и подхватывались и другие боевые крики… Опасность нарастала.
Что же касается другой, наиболее «деятельной» и активной части демонстрантов ("все гнусное повылазило из своих углов!" пишет об этой другой части киевский корреспондент), – то ее непринужденное поведение прямо и непосредственно требовало полицейского "призыва к порядку".
Почувствовав возможность расправить руки, эта публика вошла в азарт: останавливала извозчиков, стаскивала проезжих, многих заставляла обращаться в бегство. Те, которым всегда приходилось ломать шапку, теперь получили возможность кричать всем и каждому: "Шапки долой!" Некоторых настигали, сбивали с них шляпы палками, не щадили при этом и женщин. Шляпы исчезали нередко с толпой. В порыве пьяного возбуждения вламывались в частные квартиры и подвергали хозяев патриотическим испытаниям. Врывались в рестораны и трактиры, пили, ели и не платили. Сплошь да рядом, – как пишет московский корреспондент, – уносили с собой из ресторанов – очевидно, на память о патриотических минутах – серебряные ложки. Забирались в театры во время представлений, заставляли играть и петь "Боже, царя храни!" и, уходя, прихватывали с собой чужие вещи. Киевский корреспондент пишет об исчезновении из театра Соловцова семидесяти биноклей… Уносились ридикюли, кошельки… Мирные граждане роптали.
Все это получало слишком скандальный характер, – и патриотам предложено было вернуться к обычным занятиям… По градоначальническому или губернаторскому мановению приостановилась только что вызванная патриотическая волна, которая в своем «величавом» течении успела унести такое количество ложек, биноклей, кошельков…
Да, так широко затеяно, так торжественно возвещено, так шумно обставлено – столько восторга, столько энтузиазма, столько готовности отдать жизнь и достояние – и в результате обогащение уголовной хроники.
И это не случайность, что на патриотический посвист полицейского соловья-разбойника откликнулись в первую голову граждане, готовые приложить руку – по поводу, собственно, Порт-Артурской блокады – к серебряным ложкам. Это не случайность, это точный и категорический ответ, данный обществом царизму, на вопрос: каких волонтеров оно может выдвинуть из себя на активно-патриотические роли? Это ответ на вопрос, какие чувства и инстинкты могут быть пробуждены шовинистическими лозунгами в толпе, нарочитыми людьми для нарочитой цели созванной.
И сама собою просится на сопоставление с толпой, которую царизм на час, на неделю или на месяц вырывает из круга нашего влияния, мысль и чувства которой он дразнит и разжигает бряцающими лозунгами человеконенавистничества, – другая, совсем другая толпа – прошлогодних южно-русских событий, или та, которую Донской Комитет отрывает от варварских ощущений кулачного боя и которую он электризует огненными лозунгами революции и свободы. Эта одухотворенная масса приподнимала каждого из своих членов, и он сам себе казался выше целой головой. "Как чудно было смотреть на них! – писал елисаветградский корреспондент. – Стройные, с головами вверх, шли они без препятствий!" ("Искра" N 46). "Не бойтесь, не бойтесь, – успокаивала перепуганных одесских обывателей толпа, – это вам не Кишинев, мы совсем другого хотим, среди нас нет ни жидов, ни русских, мы все рабочие"… (N 45). "Мы не лавки бьем, мы свободы добиваемся", – говорили участники «антипатриотической» манифестации в Твери (см. корр. в этом N).
Великодушная и благородная, как всякая масса, которая связала себя невидимыми нитями революционной солидарности и почувствовала свою коллективную силу, многотысячная толпа не позволяла себе никаких насилий. "Яблочка не тронули!" – восклицает изумленный обыватель торговой улицы.
Не было пьяных, потому что в такие дни толпа не пьет. Не оскорбляли женщин, потому что в такие дни толпа не оскорбляет. "Казалось, – пишет участник событий, – что живешь удесятеренной жизнью, все было так легко, цель так ясна и близка, в сердце столько бесконечной отваги и самозабвенья!.."
И эти киевские, екатеринославские и бакинские демонстранты – пока только демонстранты – связывают мысль с тем революционным «народом», который умирает на уличных баррикадах… который умирал на них столько раз в разных странах Европы со времени 1789 года[19]19
Со времени Великой Французской Революции. – Ред.
[Закрыть]…
В те большие дни, когда толпа, обычная, серая, продающая и покупающая, забитая и угнетенная толпа покидала молоток и прилавок, ради ружья и баррикады, – уличный воздух становился чище и яснее, грубые и дрянные инстинкты уходили куда-то прочь вместе с мелкими и дрянными заботами, – возвышающий и облагораживающий трепет охватывал все общество до самых его трущобных низов. И – замечательный факт! – чем выше поднимались волны революции, тем меньше было число обычных «преступлений» против «нравственности» и «собственности»… когда революционный вихрь проносился над Европой, полицейские нотабли напряженно следили за барометром преступности. К середине марта 1848 г.* прусский министр усмотрел тревожный признак в уменьшении числа преступлений против собственности… Он не ошибся: 18 марта в крови 183 трупов захлебнулся прусский абсолютизм «божьею милостью». Через месяц после берлинских баррикад президент полиции объявляет публично, что «поведение подмастерьев и рабочих по праву заслуживает всеобщей признательности». С прохожих не сбивали палками шляп, женщины могли безопасно ходить по улицам, и берлинские рестораторы могли быть спокойны за свои серебряные ложки…
Таково нравственное влияние "революционного насилия!" Реакционные поденщики университетской кафедры не раз пытались опорочить революцию, как явление, которое своим историческим смыслом слишком презрительно третирует их грошовые теорийки мирного преуспеяния и во всем благого поспешения… Некоторые из этих ученых людишек утверждали, между прочим, что в числе 183 убитых было несколько "уголовных преступников", выпущенных незадолго до 18 марта из берлинской тюрьмы, – утверждение, ничем не подтвержденное… Но если бы и так! Пошлые, бездарные фальсификаторы – они не понимают, что чем больше они силятся скомпрометировать личный персонал баррикадной армии, тем выше и выше они возносят возрождающую силу самой революции… Жалкие филистеры, они не понимают объективной морали своего утверждения, которое по их замыслу должно служить клеветой на революцию. Эта мораль ясна. Она гласит: смотрите, эти люди, которые в дни "мирного преуспеяния" ютились в щелях преступления и в трущобах порока, которые в дни реакционной разнузданности оскорбляли бы прохожих, вламывались бы в театры, опустошали бы карманы, – сегодня, когда из-под земли вырвались огненные языки революции, нашли лучшим умереть на баррикадах!..
Ровно 23 года спустя после берлинских баррикад, 18 марта 1871 года[20]20
Речь идет о Парижской Коммуне. – Ред.
[Закрыть], революция опять обнаружила свою чудотворную силу. Париж, старый временно потухший вулкан, снова выдохнул из себя волну революционной лавы… Пролетарская коммуна отшвырнула от себя разномастную реакционную сволочь, красу, гордость и силу Второй Империи, – и Париж, международный Вавилон, обновил свою нравственную физиономию… Исчезли кутежи, прекратился пьяный разврат высшего и низшего разряда. Ни одного ночного грабежа, почти ни одной кражи. В первый раз со времени февральской революции 1848 г. улицы Парижа стали безопасны, хотя на них не появлялось ни одного полицейского. Морг пустовал – не было самоубийц, не было таинственных, никем не опознанных трупов.
"Мы не слышим более, – говорит один из членов коммуны, – ни об убийствах, ни о грабежах, ни о насилиях против личности; полиция, как кажется, увлекла за собой в Версаль всех своих консервативных друзей".
А затем? Порок и преступление залили улицы Парижа вместе с победоносными войсками буржуазной реакции. Воровство вернулось вместе с полицией. Разврат и насилие вздохнули свободно, как только увидели, что трехцветное знамя буржуазного шовинизма нагло красуется на том месте, где час тому назад гордо развевалось красное знамя пролетарской коммуны.
Идеализм революции сменился идеализмом «реванша»… Война, этот "элемент порядка, установленного богом", эта школа "мужества и бескорыстия, верности долгу и самоотвержения", по определению военного мясника Мольтке*, война, в течение десятилетий проповедуемая со всех реакционных кровель, заполнила политическую атмосферу Франции, – и в этой атмосфере выросла панама, выросла дрейфусиада*…
На эти большие параллели память толкается сопоставлением протестующей стачечной массы, не трогающей «яблочка», и патриотической толпы, вторгающейся в жилища и сбивающей шляпы с беззащитных женщин. И это не внешняя только связь малого с большим. Потому что волею истории мы с каждым днем подвигаемся от малого к большому. Исторический поток, в состав которого входит и киевская, и ростовская, и бакинская, и тверская стачечная толпа, все ближе и ближе подходит к тому обрыву, за которым могучее течение превращается в революционный водопад…
…Пусть же полицейские псы реакции зорко следят за регистром преступлений; когда они заметят, что в центрах политической жизни, несмотря на возбуждение улицы, не допускающее правильного полицейского надзора, число преступлений становится все ниже и ниже, что оно готово склониться к нулю, тогда – не рискуя ошибиться – они смогут сказать себе: "Это идет революция!"
"Искра" N 61, 5 марта 1904 г.
Политические письма. «Перед катастрофой»Немецкий журналист либерального образа мыслей, без особых литературных или политических «примет», просто средний буржуазный интеллигент, г. Гуго Ганц, посетил в начале этого года Россию, провел в ней три месяца и написал о ней книгу.
Называется эта книга очень выразительно: "Перед катастрофой".
Не нужно думать, что мы имеем тут дело с каким-нибудь серьезным научным трудом. Нет, это просто очень длинный фельетон, составленный из нескольких фельетонов обычного газетного размера. Ожидать от фельетониста буржуазной прессы оригинальных суждений или глубоких взглядов было бы непозволительной наивностью. Проверить и опровергать его обобщения, занимающие среднее место между плохой мыслью и недурным оборотом речи, было бы непозволительной тратой времени. Впрочем, даже и таких чисто фразеологических обобщений в книге г. Ганца очень мало. Это, конечно, только украшает ее.
Книга, как мы сказали, называется "Перед катастрофой". Не нужно, однако, думать, что автор имел в России дело с нигилистами, заговорщиками, динамитчиками – и находится под их непосредственным внушением. Нисколько. На двадцати или тридцати строках, которые посвящены русским революционерам, автор книги в 316 страниц умудряется "Революционную Россию"* сделать органом «Бунда», а «Бунд»* превратить в лассальянскую организацию. Да простит его бог!
Г. Ганц почерпал все свои сведения совсем в других кругах. Во время пребывания на нашей родине он находился в лучшем обществе. «Известнейшие» банковские дельцы, «известнейшие» адвокаты и «известнейшие» литераторы Петербурга и Москвы продефилировали перед немецким журналистом и теперь безыменно дефилируют перед его европейскими читателями. Разумеется, светила петербургского либерализма не могли научить своего гостя большему, чем им самим дано. Во всяком случае, г. Ганц убедился, что "дальше так идти не может".
"Ваше сиятельство, – мы уже сказали, что наш автор имел дело с людьми "лучшего общества", – я вывожу заключение, что в России нельзя повести речь о ничтожнейшем педагогическом или хозяйственном вопросе без того, чтобы не натолкнуться на высшую политику". Это наблюдение является, несомненно, самым ценным из наблюдений г. Ганца. Оно означает, что от всех вопросов, бед и зол современной России все широкие дороги и все узкие тропинки ведут в один и тот же Рим. И это – Рим парламентского режима.
Но г. Ганц не хотел брать этого вывода на веру.
Либеральные князья и графы изобразили перед ним Россию в таком мрачном виде, что он решил для проверки поговорить с графом консервативным. Вот какой у него вышел диалог с "честным консерватором".
– Что вы слышали? спросил граф.
– Что Россия голодает, в то время как правительство показывает избытки в бюджете.
– К сожалению, верно.
– Что интеллигенция в состоянии отчаяния.
– Тоже верно.
– Что можно бояться возрождения терроризма.
– В такой же степени верно.
– Что вся Россия надеется лишь на то, что война будет проиграна, потому что только таким путем может быть положен конец современному режиму.
– Опять-таки верно.
– Что этот режим превысил всякую меру развращенности и может быть сравнен только с преторианским режимом в последние годы Рима*.
– Это еще даже недостаточно верно.
Где же выход? спрашивает каждый раз себя и своих собеседников немецкий журналист. Конституция. А путь к ней? Указание на этот путь мы уже слышали в только что приведенном диалоге. Самодержавие потерпит полное военное поражение, на помощь которому явится колоссальный финансовый крах. Конституция явится естественным финалом. До решительной катастрофы нельзя ждать никаких изменений в нынешних порядках. "Когда мы в первый раз принуждены будем сломать рубль (den Couponkurzen) – а это может произойти скорее, чем мы теперь предполагаем, – в тот день, когда мы уж не будем в состоянии платить наши старые долги при помощи новых, когда наше внутреннее банкротство не сможет оставаться скрытым пред заграницей и пред императором, тогда, может быть, будет приступлено к созыву своего рода Учредительного Собрания (Eine Art Konstituante). Но не ранее".
Это говорит престарелый либеральный князь, бывший "государственный человек". В таком же роде высказывается и другой, полулиберальный князь Х., "бывший некогда доверенным другом царя". Так же высказывается "один из первых адвокатов Петербурга"; далее один "особенно компетентный" в государственных вопросах профессор и, наконец, правильность этих предвидений признает и консервативный граф, который при этом просит своего собеседника помнить, что консерватизм и негодяйство совсем не однозначащие понятия. Консерватор смотрит на конституционное будущее с недоверием, либералы – с признательностью, но неизбежность изменения режима, в результате "всеобщей катастрофы", кажется всем несомненной. Что такое это «катастрофа»? Военный разгром и финансовое банкротство, т.-е. такие объективные, «стихийные» явления, которые своей собственной силой – биржевым «рублем» Европы и квалифицированным «дубьем» Японии – гонят правительство Николая II на конституционную сделку с либеральными, полулиберальными и совсем нелиберальными князьями, графами, банкирами, профессорами и адвокатами. В ожидании конституции с "каким угодно скромным парламентом" (ein noch so bescheidenes Parlament) эти деятели, в земствах, думах, университетах и прессе расписывающиеся в непоколебимо-воинственном патриотизме россов, отходя ко сну, возносят, по сочувственному свидетельству г. Ганца, следующую краткую политическую молитву небесам: "Боже, помоги нам, дабы мы были разбиты" ("Gott hilf uns, damit wir geschlagen werden"). И, как мы думаем, нет ничего вероятнее предположения, что и г. Струве в тот самый день, когда он, по соображениям "политического реализма", выкрикнул: "Да здравствует армия!", шептал потихоньку молитву либеральному богу "философского идеализма": "Помоги нам, дабы мы были разбиты!"[21]21
В своей беседе с профессором г. Ганц выразил удивление тому, как можно желать победы врагу: ведь, на поле сражения умирают братья. Либеральный профессор возразил, что это «справедливо лишь отчасти», ибо на театр военных действий «в первую голову отправлены поляки, евреи и армяне…» Ни более ни менее. Г. профессор мог бы распространить и далее свое либеральное бесстыдство и объяснить собеседнику, что солдаты – это серые мужики и рабочие, а либералы – все люди «хорошего общества». Весьма кстати г. профессор пояснил затем немецкому журналисту, что le russe est liberal jusqu'a 30 ans et apres canaille (русский – разумей: русский «из общества» – либерал до 30 лет, а затем каналья)… мы думаем, что откровенный профессор давно перевалил за эту роковую грань.
[Закрыть].
В скромных расчетах на конституцию "с каким угодно скромным парламентом" активные проявления оппозиционных и революционных сил совершенно не фигурируют. Г. Ганц ничего не слышал от своих собеседников о роли либеральной оппозиции в до-конституционный период, – просто потому, что ничего, кроме приведенной оппозиционной молитвы, они и не могли в тот момент сообщить немецкому журналисту. В возможность народной революции г. Ганц не верит. "Особенно компетентные" в политических вопросах профессора, адвокаты и государственные люди внушили ему в этом отношении полный скептицизм. На всем поле революции г. Ганц видит лишь то, что легче всего видеть либеральным глазом из окошка профессорского кабинета: волнующееся студенчество да пару террористов. Студенчество, конечно, исполнено лучших намерений. Со снисходительностью прозревающего будущее человека г. Ганц даже прощает ему его временные социалистические тяготения. Но он того мнения, что политический энтузиазм слишком ненадежный панцирь против казацкой нагайки. Что такое горсть студенчества в сравнении с колоссальным "скалящим зубы" чудовищем царизма? Ничто! А сверх того?.. Возможны еще, пожалуй, разрозненные и в своей разрозненности бессильные восстания угнетенных наций да мятежи голодных крестьян… и ничего более. Крестьянская революция, правда, может оказаться грознее других по своим размерам, но, по словам "бывшего царского друга", князя Х., эта революция направится не против государственного только режима, но "против всех имущих и образованных вообще, и она начнется с того, что перебьет и перетопит всех нас, здесь находящихся"… Итак, еще раз: для этого "несчастнейшего из народов" одна надежда – военный крах на Востоке, финансовый крах на Западе.
А городской пролетариат? Что о нем говорит немецкий журналист? Несколько мимоходом брошенных слов политического презрения к "маленькой кучке организованных промышленных рабочих" – это все.
О социал-демократии, как руководительнице пролетариата, г. Ганц дает отзыв, представляющий счастливое сочетание буржуазного тупоумия Запада с либерально-народническим тупоумием нашего отечества.
"Марксисты, – пишет наш автор, – органом которых служит "Искра"*, являются доктринерами, как и всюду, клянутся – как, по крайней мере, уверяют ревизионисты – теорией обнищания и хотят, чтобы крестьянин потерял свою землю и полностью пролетаризовался по катехизису. Против них выступил недавно умерший Михайловский, который лучше знал Россию, чем горожане «Искры». В настоящее время марксисты считаются (gelten) уже оттесненными назад".
Характерна для тех либералов, с голоса которых поет г. Ганц, их политическая впечатлительность того "мимолетного типа", который заставляет вспомнить – мы опираемся в данном случае на Успенского – впечатлительность телячьего студня. Дверь откроется, слуга войдет, кто-нибудь откашляется, студень отзывчиво трепещет. Трепетать собственно, казалось бы, нет серьезных оснований. Но таковы уж свойства телячьего студня.
Либеральная впечатлительность определяется тем, что либеральная мысль способна срывать явления лишь с общественной поверхности и притом в их законченной форме. Пока они растут и развиваются в социальных недрах, они ей чужды. Она имеет дело не с законами, а с фактами, не с тенденциями, а с эпизодами. Но явления более капризны, чем создавшие их в тиши социальные силы. Отсюда такая поразительная внезапность в смене либеральных настроений. Чу! Вот рабочие демонстрации появились из подполья… Студенческие беспорядки вылились на улицу… Тр-рах! Разорвалась бомба… «Общество» трепещет, ждет, торжествует… Но еще миг, и все исчезло. Там, внизу, идет какая-то неведомая сложная молекулярная работа, но на поверхности нет ничего, – и «общество» съеживается и никнет долу. Казалось бы, нет причин? Но таковы уж свойства – либерального студня.
Немецкий журналист провел в России первые три месяца настоящего года… Это был момент страшного понижения на бирже либеральных настроений. О революции можно было говорить только с пожиманием плеч… Прошлогодняя волна общественного протеста, взметнувшаяся в "июльские дни" на небывалую высоту, быстро шла на убыль… Январские петербургские съезды, технический и пироговский*, были последними событиями, взнесенными этой волной… Ее должна была сменить другая, может быть, более могучая, как вдруг в политическую жизнь врезалось колоссальное событие, к которому психология революционных масс только должна была еще приспособиться и которое на первых порах позволило реакции организовать шовинистические демонстрации. Г. Ганц имел случай видеть в петербургском Народном Доме, как это делалось. Он описывает, как сухопарый черненький господин вбежал в зал и, видимо для всех, что-то пошептал полицейским, а те – кое-кому из «народа»; как небольшая кучка людей трижды требовала гимна; как публика трижды вставала, чтобы «спокойно и терпеливо» (gelassen und geduldig) выслушать заказанный черненьким господином гимн.
Но факт, во всяком случае, был налицо. Полицейски-патриотические восторги на фоне революционного затишья удручающе действовали на либеральных импрессионистов… Конечно, «общество» и вообще-то несклонно призывать революцию. Но оно начинало уже привыкать к ней, – как первые месяцы войны все перевернули вверх дном. Отсюда эти речи запуганного и в то же время уверенного в своей победе бессилия: мы ничто, но нас все-таки спасут азиатский солдат и европейский банкир. Если б г. Ганц приехал на несколько месяцев раньше или на несколько месяцев позже, он вынес бы другие впечатления насчет шансов и возможностей русской революции. А в марте 1904 г. он увез с собой только голую уверенность в близком крахе абсолютизма, уверенность, которая все более охватывает общественное мнение Западной Европы.
"Искра" N 75, 5 октября 1904 г.








