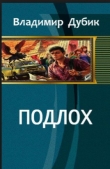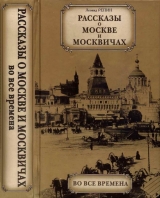
Текст книги "Рассказы о Москве и москвичах во все времена"
Автор книги: Леонид Репин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Завернул в трактир – устроил себе пир!

Отчего в России всегда любили трактир… То ли оттого, что давал он мужичкам возможность хоть на краткое время оторваться от заурядности жизни, от забот отряхнуться, вкусно и сытно поесть за ерунду какую-нибудь, а потом снова кинуться с головой в бурное коловращение жизни. Сам дух трактирный к себе привлекал – гул возбужденных голосов, несущийся со всех сторон, аппетитные запахи привычной еды, громкий смех, неожиданно возникающий и внезапно обрывающийся, взмыленные, неутомимые половые, виртуозно снующие между столами… Здесь всяк равен всякому. Потому что каждый здесь в круге своем. В своей тарелке. Вот что такое – трактир.
Не было, наверное, русского писателя, не любившего в трактир заглянуть. Жизнь там открывалась естественной своей стороной, и всякий поневоле становился ее наблюдателем: дух всеобщего компанейства, когда любой готов был открыть душу любому, оказавшемуся рядом, за столом со стопкой в руке.
Гиляровский, как никто другой, знал московские трактиры, любил по ним побродяжничать, а то и уединиться с блокнотом где-нибудь подле окна. И очень много писал о них.
В конце XIX и в начале XX века трактиров в Москве было видимо-невидимо – тьма! На любой вкус были трактиры. Один из них – в самом центре, в Столешниковом – на том месте, где теперь дом № 6, облюбовали извозчики, другой – возле Савеловского вокзала – сапожники. Существовали и совсем уж простецкие трактиры, куда захаживали даже миллионщики – московские миллионеры и сидели не в кабинетах, хотя и таковые имелись, а в общем зале, среди самого обыкновенного люда, из которого и сами вышли когда-то.
Среди старейших в Москве, чисто русских трактиров Гиляровский в первую очередь называет три только, существовавших еще с первой половины XIX века: «Саратов», трактир Гурина и заведение Егорова. Понятное дело, ни от одного из них и следа не осталось. Даже и домов, где помещались они. Но в свое время славились и почитались, как никакие другие. Даже переходя из рук в руки, меняя хозяев, сохраняли эти заведения свое первостатейное положение. Потому что традиции, налаженную кухню со своими, доморощенными рецептами более всего берегли. Как, к примеру, трактир Ивана Тестова, перекупленный с согласия его хозяина, миллионера Патрикеева, у зазевавшегося Егорова. Слава тестовского трактира забила всех! Особенно любим он был у театральной публики, в очередях стоявшей у входа в него после спектаклей.
Подбор обслуги в трактиры всегда считался делом ответственным, тонким. Так повелось, что набирали в трактирную службу поначалу, с давнего времени, «ярославских водохлебов» и только потом – из окрестных Москве губерний. Половых готовили несколько лет из неумелых мальчишек, привезенных в учебу родителями. И порядок был такой, не обойти: сначала определяли на год в судомойку. Если молодой человек проявлял сметливость, его переводили в кухню – вникать в подачу кушаний. И здесь ему открывали таинство: какое блюдо как называется и что к чему подавать – вино какое, соусы и всякое прочее. Полгода отводилось на постижение этой премудрости. Но и это не все: еще четыре года мальчик бегал в подручных – учился принимать заказы, убирал со стола, накрывал и лишь на пятый год, накопив полдюжины белых рубах из мадаполама, а лучше – дорогого голландского полотна, переводился в половые. К тому времени он уже понимал, что рубашки всегда должны сиять белизной – упаси Бог, пятнышко, и быть тщательно выглаженными.
Пропали трактиры в советское время. Свели их на нет, как пережиток отжившего прошлого. И слово-то само – «трактир» едва ли не ругательством стало считаться. Пока не дошло: трактир в России, в Москве – нечто совершенно особенное, в полном смысле народное заведение. Как, скажем, кафе у французов. Только нечто большее по смыслу и значению.
Ходил-ходил по Москве, правда по центру все, в поисках трактира – только четыре нашел. И ни один из них, по сути дела, на трактир не похож: и в зданиях современных располагаются, и еду в них заморскую подают. Вздохнул бы горестно Владимир Алексеевич Гиляровский и ус в задумчивости меж пальцев потер бы…
И вдруг на Сретенке, по левую руку, если идти от Садового кольца, вижу вывеску: «Трактир «Кураж». Совсем недавно был здесь и ничего такого не увидел. Старый московский дом, крутая мраморная лестница в глубокий подвал, а там – уютный погребок из двух маленьких зальцев, низкие сводчатые потолки, на стенах – фрески, от руки написанные: Сретенские ворота, другие места старой Москвы.
Здесь неожиданная, интересная встреча у меня состоялась. Обслуживала небольшая компания молодых приветливых людей, которой верховодил Сергей Писарев. Как выяснилось, Сергей – прямой потомок старого дворянского рода Писаревых, ведущего свое начало со времен великого князя Василия Васильевича. Немногие из фамильных реликвий удалось в семье сохранить – время было не то, когда почитались дворянские корни, но шпага одного из прадедов Сергея с гербом рода Писаревых уцелела все же.
Сергею давно хотелось открыть в Москве трактир в духе старого времени, где все: интерьер, кухня, даже музыка – было бы истинно русским. Нашли подходящий подвал на Сретенке, заброшенный, наполовину затопленный, и за три месяца превратили в приятнейшее заведение, где не только приятно отдохнуть, но и кормят отменно. «Почему именно «Кураж»?» – спросил я его. «Слово хоть и французское, а отражает русский характер. Так мне кажется».
Мне этот человек понравился. Он молод, любит родной город и очень хочет, чтобы и дети его так же этот город любили. И чтобы все, кто придет в новый московский трактир, наш город любили. Он много для этого сделал.
А моя бабушка, царство ей небесное, говорила «трахтир», вспоминая о былом, и это выходило как-то очень по-домашнему. Так ведь действительно старый добрый трактир был и как бы вторым домом для всякого, кто искал общения или покоя, молчаливого слушателя или отчаянного застольного спорщика. Все уживалось в его задушевной и в то же время компанейской атмосфере, насыщенной бередящими аппетит ароматами, жарким гомоном гуляющих мужичков, звоном стаканов, – да разве скажешь о трактире лучше, чем он мог бы сказать сам о себе…
Рекордное количество трактирных заведений в России пришлось на 1894 год и перевалило за 42 тысячи, а уже на следующий год, когда ввели государственную питейную монополию на продажу крепких напитков, число трактиров сократилось до 39 тысяч с небольшим. Теперь же трактиров в России и вовсе не считано – потому что считать почти нечего. А в Москве, столице нашей, их – раз-два да обчелся.
Да, в упадок пришел в России трактирный промысел. Владимир Сергеевич Михалков, президент Ассоциации «Народный трактир», известнейший российский кулинар, изобретатель в своем изысканно вкусном деле, выглядит человеком вполне здоровым, хотя при этом и отчаянно болеет. За это потерянное трактирное дело и болеет. И прежде всего за возрождение русской национальной кухни. Человек энергичный и склонный к рубленым выражениям, он заверяет: «Если мы потеряем национальную кухню, мы потеряем нацию!»
В самом деле, разве не обидно: во всякой стране есть своя национальная кухня, которая бережно сохраняется, поддерживая здоровье своих сограждан и привлекая любознательные желудки заезжих гостей, а у нас – нет. Даже и во всей Москве вряд ли найти место, где подавали бы исключительно русские яства. Слава Богу, есть хоть люди, которые хранят таинства русской кухни. Сам Михайлов в своих кулинарных произведениях использует только российские коренья и травы, коих у него припасено, по-моему, на все случаи жизни. Даже и чаи он такие делает из трав и прочих отечественных растений.
Возрождение трактирного промысла – предмет особых забот Михайлова. Какой же трактир без подлинно народной кухни? Близкой по духу нашим людям, которые даже и генетически давным-давно сжились с ней.
Эхма… Ходил из трактира в трактир, поистер кошелек свой до дыр…

Притихшая усадьба Толстого

Тишиной и покоем веет от этого дома. Даже трубный глас огромного города не может обеспокоить его, и он, сложенный почти двести лет назад из корабельной сосны, представляется неприступной каменной крепостью, перед которой отступает и само всесильное время.
Страшно не хотелось Льву Николаевичу переезжать в Москву, но супруга его, Софья Андреевна, тяготившаяся деревенской жизнью в Ясной Поляне, непрестанно его уговаривала, неутомимо настаивала – как же дети-то в сельской глуши будут расти? – и Толстой, приглядев продававшийся дом Арнаутова в Хамовническом переулке между Москвой-рекой и Девичьим Полем, решился купить его. Главное, что подтолкнуло Толстого, помимо самого обширного дома, – сад, что примыкал к нему сзади. Сад был роскошный – большой, разросшийся, с липовой аллеей, яблонями и даже с колодцем, о котором говорили, будто вода в нем ничуть не хуже знаменитой мытищинской. Да так ведь и было на самом деле. И то, что в доме не провели электричества, что не было в нем ни водопровода, ни канализации, – все это очень устраивало Льва Николаевича, так ему хотелось, и ничего он переделывать не собирался. Только главный дом надстроил. Осенью 1882 года семья Толстых перебралась в свою городскую усадьбу.
Здесь Толстой, смирившийся с неизбежностью зимней жизни в Москве, пробытовал девятнадцать холодных зим: Можно сказать, и лет, потому что только на лето семья выезжала в Ясную Поляну. Здесь Толстой пережил и краткие мгновения счастья, и трагедию, потеряв под кровом этого теплого дома сына Ванечку, месяца не дожившего до семи лет, – доброго, сердечного мальчика, притом талантливого, которого нельзя не любить было. Но писалось Толстому хорошо в этих покойных стенах – обрадованно о том говорил. Тут написал он «Воскресение», «Крейцерову сонату», «Власть тьмы», рассказов множество. В небольшом кабинете в отдаленном углу дома, за приземистым, просторным столом мореного дуба с резными ножками, где и сейчас лежат, будто он только-только оставил их, две ручки вишневого дерева, стоят чернильный прибор из малахита, простое пресс-папье, два скромных бронзовых подсвечника. Низкий потолок – такой, что и рукой можно коснуться, мягкий кожаный диван и кресла – здесь Лев Николаевич, когда не работал, любил гостей принимать. Уютно и тихо: окна выходят в сад, и город, обложивший усадьбу, даже не вспоминается.
Кто только тут не был! Все люди, составлявшие гордость России, почитали счастьем здесь побывать – как же, быть в Москве и к Толстым не заглянуть! Двери его дома всегда были открыты, и прислуге было приказано всех принимать, хотя приемным днем считался сначала четверг, а потом суббота.
Нынешнее поколение москвичей как-то призабыло о самом существовании городской усадьбы Толстого. Ясная Поляна у всех на слуху, там могила его и там, в конце концов, Лев Николаевич прожил почти шестьдесят лет. Но ведь и здесь осталась часть его жизни, и эти стены согревало его дыхание…
Когда я в первый раз пришел сюда – мальчишкой седьмого класса со школьной экскурсией, – дом оставил меня совершенно холодным. Все в нем: и мебель, и утварь всякая, и мелкие предметы в каждой из шестнадцати комнат – казалось бутафорией, ловкой, умелой подделкой. Просто невозможно, чтобы все настоящее было! И товарищи мои тоже посмеивались, когда нам говорили: «А вот эту скатерть Софья Андреевна сама связала»… Чтобы графиня сама вязала? Нет уж, не надо, не дураки. Но в этом доме все настоящее. Просто тогда мы не были готовы к встрече с великим человеком. Потому и дом мертвым казался. Тогдашнее недоверие вырастало из непонимания. Теперь великий хозяин дома отчего-то показался мне ближе во времени, чем когда я первый раз переступил этот порог. Тогда представлялось, что время Толстого – дальняя старина, а теперь вижу: совсем недавно, почти вровень с нами он жил. Дом поневоле заставляет об этом подумать.
Он обладает необыкновенной притягательной силой. И в самом деле не верится, что в прихожей, темноватой и тесненькой, висит, будто минуту назад повешенная, енотовая дорожная шуба Льва Николаевича. Гиляровский ее описывал: садился Толстой в возок и, прежде чем полог накинуть, аккуратно в шубу запахивался. Поднимаешься по парадной лестнице на второй этаж и сразу же видишь две картины, подаренные Толстому художником Н. Е. Сверчковым, – «Холстомер», молодой и в старости, никому не нужный уже…
Совершенно нет ощущения, что дом давно и навсегда оставлен хозяевами. Так все в нем просто, естественно. Вот две пары обуви – ботинки и сапоги, сшитые самим графом Толстым. Расписка Фета: «Сшиты автором «Война и мир». Заплатил 6 руб.». Работа отменная, не сказать, что рукоделие графа. Тут же, в каморке у кабинета, лежат на полу две небольшие гантельки – разминался ими Лев Николаевич, велосипед, неизгладимо запавший в память мне с детства: уже в старости Толстой учился ездить и очень гордился, что не свалился ни разу.
В светленькой, совсем небольшой комнатенке – объемистый деревянный сундук. Задаю хранителю нескромный вопрос – а что в нем? «Скрытая экспозиция», – не очень охотно мне поясняют. Оказывается, нижнее бельишко Софьи Андреевны, ее песцовые воротники – очень любила, а еще – ее же суконные панталоны, надевавшиеся исключительно зимой, для тепла. Панталоны и прочее решили не доставать, все-таки интимного свойства предметы… Хотя, чего уж там, понятное дело, и у графинь попки зимой замерзали.
Слава Богу, дом, переживший войны, пожары московские, казалось бы ничего не щадившие, уцелел и сохранился в том виде, в каком Толстые его оставили. Видно, что беспредельная забота людей охраняет его.
Толстой не поехал бы сюда жить, коли не было б сада. Он, конечно, сильно изменился с тех пор, но две липы, которые помнят его, сохранились. И причудливая корявая береза с пломбированным стволом тоже осталась. Она – несомненно с толстовского времени: есть фотография, где Лев Николаевич возле нее.
И липовая аллея высится слева за домом, но это уже другие деревья. А вот подснежники, посаженные Софьей Андреевной, на удивление всем, по весне расцветают. Лет пятнадцать назад они вдруг исчезли, но через год вновь воспряли.
Тихо здесь, покойно и хорошо. Пахнет прелыми листьями, черемуха щедро сыплет на молодую траву легкий снег своих лепестков, пряно пахнет старая поленница, аккуратно сложенная подле колодца. Все, как тогда, как при нем. Только в колодце давно воды уже нет.

В саду уединенья былого пробудились тени…

Когда при мне произносили эти слова: «Сад «Эрмитаж»», в мальчишеском воображении сразу же представал неясный в своих очертаниях, но яркий образ хотя и близкой совсем, однако и недоступной красивой жизни; блистанье фонарей, затерявшихся в листве, оркестр, играющий под белой створкой раковины, нарядно одетые люди, сидящие за изящными столиками или прогуливающиеся по тенистым аллеям…
Именно таким и был «Эрмитаж». Для кого-то – доступный, для кого-то – мечта. Это уж в царстве свободы, где царил гегемон, всяк мог запросто, засунув руки в карманы штанов, сюда заглянуть. Поначалу-то в этом саду другая гуляла публика. Да выморили всех, или, кто успел, сами разъехались. Сад, расположенный с самом центре Москвы, надолго пришел в запустение.
Но, как ни странно теперь, подлинное запустение на этом самом месте бытовало еще и в начале восьмидесятых годов XIX века. Огромный и шумный город, какой Москва и тогда уж была, а здесь, как сообщалось в «Полицейских ведомостях», – «свалка чистого снега на пустопорожней земле Мошнина». Летом – болото с комарьем и лягушками, с кучами мусора, пожухлый бурьян с могучими лопухами и чертополохом, а зимой – монбланы из грязного, а вовсе не «чистого» снега, свозимого с окрестных улиц.
И вдруг, словно волшебство какое, – воздвигается сад. С Зеркальным театром, с небольшим ухоженным прудиком, с оркестрами, гремящими в разных концах, с цирковым представлением, что разыгрывалось над головами гуляющих, все тут – канатоходцы, акробаты, жонглеры! И первый в Москве электрический свет вспыхнул в этом саду, и первый в белокаменной киносеанс в мае 1896 года собрал восхищенную публику тоже здесь. И фейерверки, рассыпающиеся искрами пылающих звезд, концерты музыкальных знаменитостей, спектакли новой в своем качестве оперетты, в которых пели знаменитости из Большого театра и играли примы из Малого. Вот каким открылся тогда «Эрмитаж».

Улица Петровка в XIX веке
Хорошо известно, кто сотворил волшебство: Михаил Лентовский, театральный деятель и дальновидный предприниматель, которого назвали за превращение сада московского магом и чародеем. И так этот сад вписался не только в Каретный Ряд, но и в самое чрево Москвы, что стало казаться, будто всегда здесь он был.
Кто только сюда не захаживал: Чехов, Шаляпин, Толстой, отцы города во главе с генерал-губернатором, праздная театральная публика, аристократы, художники – для всей культурной Москвы сад стал излюбленным местом.
Мы получили в наследство «Эрмитаж» другим, конечно, хотя часть своего великолепия ему удалось сохранить. Сам парк, теперь разросшийся, Зеркальный театр, еще долго верой и правдой служивший, театр «Эрмитаж», куда и дети, и взрослые на спектакли по своим интересам ходили. И недостройка сада тоже нам в наследство досталась: как арендовал сад Я. В. Щукин для своей опереточной труппы и как начал строить Зимний театр, так и стоит недостроенным. Еще в 1908 году придрались к чему-то пожарные, и осталось здание недостроенной громадой кирпичей.
Чем привлекал нас «Эрмитаж» в первое время после войны, когда только открылся? Да тем же, чем и всегда: видимостью жизни красивой, музыкой, светом, возможностью отдыхающих людей посмотреть. Иногда с девочками из соседней школы мы приезжали сюда – подальше от дома, чтобы с ребятами своими не встретиться – как пить дать подначивать станут… Ну, и тихую лавочку в тени где-нибудь потом отыскать, что и говорить, тянуло к уединению. Даже и не зная, что в переводе с французского «эрмитаж» – «место уединения».
Помнится, со всей Москвы сбежались мальчишки и девчонки сюда – первым экраном «Тарзан» показывали. Это только потом он по московским клубам прошел с непонятным напутствием: «Этот фильм взят в качестве военного трофея». Истязали себя мы в догадках: фильм американский, а мы против американцев не воевали. Значит, у немцев взяли? А когда те успели этих американских трофеев набрать?
Еще недавно к «Эрмитажу» лучше и не приближаться было – сплошная стройка, весенняя хлябь, груды строительных материалов. Теперь сад расширился до таких размеров, какими никогда не обладал. К его территории отошла примыкающая усадьба Кузнецовых начала XIX века. В пожаре 1812 года она сильно пострадала, а после восстановления в ней открылся Английский клуб, а позже – в 1827 году, Екатерининская больница. Теперь – памятник архитектуры.
В трудностях, потугах, но сад ожил, расширился и предстал перед нами обновленным, но по-прежнему всем дорогим.

В его огне сокрыта тайна…

Ведь знал же, знал, что нельзя и попыток таких делать – вернуться в свое прошлое, а вот не выдержал, как мимо шел, потрогал, погладил стены дорогого старого дома… А дальше уж ничего не смог поделать с собой: ноги сами понесли по родным лестницам и коридорам… Куда? Да в прошлое! И не столько даже свое, сколько вот этого древнего дома на Разгуляе.
У Гиляровского как-то нашел – в одном из его описаний первой встречи с Москвой, – будто дом этот принадлежал некогда знаменитому по всей старой Москве колдуну Брюсу, искателю философского камня. Однако у мэтра очевидная тут неточность: несомненно известно, что строился этот дом в 1725 году, уже после смерти Якова Брюса – фельдмаршала и сенатора. Так что тот и видеть сей дом не мог. Однако же легенда такая ходила, и бывалые москвичи отчего-то ее поддерживали. Да просто потому, что любят они всякие тайны. А меж тем в этих стенах и в самом деле прячется тайна. Да какая еще!
Дом этот, а скорее дворец, принадлежал изначально графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину, человеку, в России известному по многим причинам. Потомок старого, знатного рода после окончания Артиллерийского училища был замечен князем Григорием Орловым и взят на службу адъютантом. Для молодого человека – начало блестящей карьеры.
На этом месте его и Екатерина Великая приметила. К женщинам молодой, но очень серьезный адъютант относился с уважением и интересом, но страстью, его были книги. И особенно – старые книги. Еще в Артиллерийском училище он предпочитал книгам по фортификации и математике книги по российской истории. Что, впрочем, отнюдь не помешало ему с отличием окончить училище.
Он и сам сочинял: во время путешествия по просвещенной Европе писал «Записки», где особое внимание уделял искусству, словно бы позабыв про артиллерийское дело. А вернулся – и в церемониймейстеры царского двора попал. Манеры, знание этикета, ум отточенный, редкостный – все это делало его при дворе человеком заметным.
А в доме он был еще интересней. На Разгуляе он и начал собирать свою знаменитейшую библиотеку, слава о которой покатилась даже за пределы России. Поначалу он купил собрание книг и бумаг известного собирателя Крекшина и сам сосредоточился на собирании рукописей, справедливо полагая, что нет ничего ценнее их. Попутно Алексей Иванович и сам записывал всякие редкие, но достоверные исторические сведения и редкости всевозможные собирал. Дома у него и коллекция древних монет была – князей Владимира и Ярослава, знаменитый Тмутараканский камень с надписью 1068 года, хранящийся сейчас в Эрмитаже, а также куда-то подевавшаяся летопись князя Кривоборского. Хранились и подарки самой императрицы – несколько харатейных – папирусных и пергаментных книг, а также рукописей. Много чего необычайного насобирал граф и принес в этот дом.
Грандиозно обогатилась библиотека Алексея Ивановича, когда его назначили обер-прокурором Святого Синода. Митрополит Гавриил нарадоваться не мог подходу Мусина-Пушкина к делу, его эрудиции и, как святейший говаривал, его «благорасположению к наблюдению истины». Трудно теперь сказать – то ли как раз в это время, то ли еще раньше выискал он где-то, среди всякой рукописной рухляди единственный, дотоле никому и на глаза не попадавшийся экземпляр «Слова о полку Игореве».
Граф наслаждался своим собранием. Выйдя в отставку, подолгу запирался в библиотеке, с головой погружаясь в свою сокровищницу. И Александра, сына своего, готовил к серьезному, на всю жизнь занятию историей. И конечно же, ему предполагал оставить свою библиотеку. А не довелось.
Друг графа Н. Н. Бантыш-Каменский давно склонял его передать библиотеку в Архив Коллегии иностранных дел – лучшего хранилища и не придумать, а граф все колебался: понимал, что так надежнее, но не скрывал при том, что жаль расставаться с тем, что составляло часть его жизни. Не представлял он своего дома без библиотеки своей. А все же решился!
Позже сказал: «Однако я похвального намерения своего исполнить не успел…»
Грянул 1812 год. Москва в огне. Ураганный ветер разносит пламя, охватывая все новые районы столицы. Борьба с пожаром ни к чему не приводит: стихию может остановить только стихия. Дом на Разгуляе тоже охвачен огнем. Из окон библиотеки хлестали клубы черного дыма с пламенем… Библиотека, всю жизнь Алексеем Ивановичем собираемая, дотла выгорела. «Слово» тоже в прах обратилось…
Граф потрясен. Он видит в том перст Божий: ранее надо было спасать реликвию. По счастью, успел он малым тиражом издать бессмертное «Слово»… А тут еще один удар: где-то в Германии убивают его сына… Недолго прожил после того Алексей Иванович. Отпевали его в соседнем Елоховском соборе, что в двух шагах от дома на Разгуляе.
А позже что?.. Наследники продали дом, и в нем обосновалась мужская гимназия, где многие замечательные люди учились – и Савва Мамонтов, и Николай Морозов, будущие знаменитые русские академики. В советское время открылся здесь Индустриально-педагогический институт, а во время Великой Отечественной въехал сюда Инженерно-строительный институт, где и ваш покорный слуга учился.
Помню прекрасно: еще и в пятидесятых годах нет-нет да появлялись разные люди с приборами всякими – простукивали, прослушивали стены. Знаете, искали что? Не поверите! «Слово» найти надеялись! Так не хочется верить в его утрату, даже и невзирая на несомненность потери: сам же Алексей Иванович в том уверял… Зачем бы лгать-то ему? Да и не тот человек был, чтобы лгать.
…А еще помню, когда учился здесь, легкий какой-то ремонт здания делали и обнаружили одну замурованную комнату. Вот уж была для нас сенсация! Сначала обнаружили на фасаде лишнее окно. Стали ходить по аудиториям на том этаже – против окна глухая стена в коридоре. Пробили стену – тут и комната обнаружилась! А в ней… А в ней – ничего. Ворохи газет начала XIX века, тряпье какое-то, мусор. Впрочем, ничего другого мы найти и не ожидали. Хотя и во внезапную находку, открытие какое-то так верить хотелось…