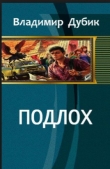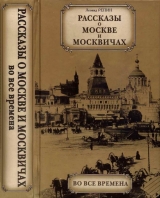
Текст книги "Рассказы о Москве и москвичах во все времена"
Автор книги: Леонид Репин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Как Таганка в небо вознеслась

Что и говорить, шумное и бойкое было это местечко возле Таганских ворот, врезанных в самый дальний, Земляной вал Москвы. Здесь, к юго-востоку от центра столицы, до конца XVI века было тихо совсем: селились пахари неподалеку от обширных полей, каменщики – государевы люди, работавшие на царскую казну, да таганщики, мастерившие железную подставу для котлов. Крестьянские возы с различной снедью, приходившие по дорогам из Симонова и Новоспасского монастырей, за Таганские ворота не пускали, осаживали, и приходилось приезжим тут же с возов все пускать. Так сам собой и рынок возник, а с ним тишина и покой выдворились из этих мест уже навсегда.
Целый город разросся тут. Сколотили невесть сколько деревянных палаток, наставили вразброс каменных, и началось сразу за воротами вавилонское столпотворение. Мясные ряды со своими мелкими бойнями, «мушные» ряды, куда свозили муку из дальних окраинных весей, пооткрывались рыбные ряды знаменитых на всю Россию купцов Гусятникова и Павлова. Вот уж когда вся Москва потянулась к Таганским воротам.
Кучно, тесно сделалось там, где теперь Таганская площадь. Самое лучшее место, чтоб разразиться пожару. Первый вымел лавки в 1743 году, и Екатерина И, самолично повелевшая перекроить стихийно разросшуюся застройку жилых и торговых кварталов, придала такую форму площади, которая и посейчас в основном сохранилась. Только пожар 1812 года опять выжег Таганку, вынудив вновь ее обустраивать. Тут уж великий Орест Бове приложил свою руку, выстроив вдоль западной части площади галерею с колоннами.

Вид от Пустой (Марксистской) улицы на Верхнюю Таганскую площадь и Таганский проезд
А вот кто потихонечку воздвигнул знаменитую по всей Москве тюрьму Таганскую на улице Малые Каменщики – тут же, у площади, – сведений не сохранилось. Известно только, что появилась она в 1804 году, а в середине 1950-х ее снесли. Наверное, потому, что на виду она торчала, в центре столицы страны, которая не покладая рук социализм созидала. Помню коротенький сюжетец в киножурнале «Новости дня», который обязательно показывали перед каждым сеансом: чугунным ядром крушат стены Таганской тюрьмы. И текст такой, что, мол, зачем нам тюрьмы, если в нашей стране преступность сходит на нет? Короче, осталась память об этом поганом сооружении лишь в приблатненной песне о Таганке в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая». Теперь здесь большой кирпичный дом стоит. В нем живет мой старый товарищ. Спросил я его про тюрьму – он и слыхом не слыхивал.
Удивительно, столько было всяких прожектов перестройки Таганской площади, согласно плану всей Москвы реконструкции – аж горы своротить собирались в буквальном смысле, а площадь как стояла, так и стоит. Только тихонькой и даже как бы пустынной – и это на самом Садовом кольце.
И что совсем уж необъяснимо: облик свой Таганская площадь сохранила как на старинной открытке. Это сегодня единственная площадь на Садовом кольце, почти целиком застроенная двухэтажными зданиями. Высится, сияет разноцветными сполохами здание казино, есть одно пятиэтажное здание, вестибюль метро, а вся площадь, как полторы сотни лет назад, а то и больше, – кольцо двухэтажек.
Хорошо помню, как прежде автомобильный поток натужно тащился по кольцу в Таганскую гору, а перевалив, пускался с нее самотеком. Короче говоря, эта гора поперек пути как кость поперек горла стояла. Вот и решили гору срезать до основания. Свершили бы так – и все, конец Таганке. Площадь-то на самом верху горы раскинулась…
Площадь сохранили вовсе не из-за ее исторической ценности, а потому, что дешевле, как просчитали, тоннель пробить, чем гору вырезать. И вот, в начале шестидесятых, озверелый автомобильный поток с ревом кинулся наконец в длинный тоннель под Таганкой…
А сама площадь с той поры словно бы в небо вознеслась над Москвой. Еще и потому, что в тех же шестидесятых на месте театрального пепелища возник новый во всех отношениях московский театр, новый духовный центр – Театр на Таганке, слава о котором по всему миру прокатилась.
Юрий Петрович Любимов, как известно, реформатор по своей природе и по жизненному кредо тоже. Сидим в его кабинете, стены которого сплошь испещрены автографами известных людей. Многие из этих автографов разместились столь высоко – под самым потолком, что поневоле возникает мысль о тех, кто их оставил: это действительно очень большие люди. А смысл всех воззваний один: да здравствует театр Любимова!
– Как начинался Театр на Таганке? Что тогда происходило в театральной Москве?
– Это было потрясение: свержение Хрущева, воцарение Брежнева. Мы последними проскочили из оттепели. Мне предлагали сцену Лейкома, а сюда Эфроса хотели. Потом передумали: меня сюда, а Эфроса в Ленком перекинули.
– И что вы застали здесь?
– Состояние театра было ужасное. Публика на спектакли совсем не ходила. Я тогда поставил условие: закрываю старый репертуар и открываю новый. И главное, я прихожу со своими ребятами.
– Это был риск? Ведь эти ваши ребята тогда были еще студентами.
– Студентами третьего курса училища Вахтанговского театра. Но я верил в них, и потому риска не было. Наш первый спектакль состоялся в 1964 году. Это был «Добрый человек из Сезуана».
– Да, я помню. Вся Москва говорила о нем…
– А боги в спектакле говорили с хрущевским акцентом, так же, как и он, путали слова, употребляя их не по назначению. Мне за это партийные чиновники недовольные замечания делали.
– А с Хрущевым приходилось встречаться?
– Нет. Вот Володя Высоцкий к нему на дачу ездил, когда Никита Сергеевич был уже не у дел и увлеченно гидропоникой занимался. Володя спросил его: «Ну и как получается, Никита Сергеевич?» А Хрущев отвечает: «Вообще-то, в земле лучше растет». Володя, знаете, тогда в зените был, его знали и любили все, и он очень хотел как-то помочь Хрущеву, спрашивал: «Ну к кому сходить, Никита Сергеевич, с кем поговорить?» А тот говорит: «Ни к кому не ходи, Володя. Обманут. Все сволочи». Это он про членов Политбюро.
– А как вам, Юрий Петрович, жилось бок о бок с партийными бонзами? Здорово вас доставали?
– С Шауро, завотделом ЦК по культуре, еще можно было работать. Да и с Фурцевой тоже. Но на Шауро Демичев сильно давил, который пришел после Фурцевой. Но, вообще говоря, обстановка вокруг меня и театра постепенно сложилась невыносимой.
– И в результате вам пришлось покинуть страну…
– Да ничего я не покидал! Меня просто выпихнули. Отправили в командировку в Англию, а там лишили гражданства.
– За границей вы много работали…
– Да. Я стал оперуполномоченным Советского Союза.
– Это как, простите?
– Так я сам себя называю, потому что поставил 30 опер в то время. В общем, потрудился на оперном фронте. Но когда в мае 88-го первый раз приехал домой – не вернулся, а приехал, я все еще оставался «врагом».
– Вернемся в тот далекий 64-й, когда ваш Театр на Таганке взорвал тишину и покой театральной Москвы. Какие были еще проблемы, помимо идеологических?
– Были безумно сложные проблемы с пожарными. Мы первыми зажгли на сцене Вечный огонь, но это нам много крови попортило, поскольку пожарные ни в какую не разрешали живой огонь. Пришлось мне с их генералом по стакану коньяка выпить. А потом он вышел в зал и увидел, как зрители поднялись с мест, когда зажегся огонь, и сказал: «Беру огонь на себя». И разрешил.
– Вот эта гитара у вас на стене… Высоцкого?
– Да. А вы не были в музее Володи? Сходите, он рядом, за углом – в переулке.
Старый-престарый двухэтажный московский дом в тихом, крутом переулочке возле театра. Еще недавно совсем жили в нем 17 семей, где каждый мечтал поскорее отсюда убраться: дом пережил все допущенное и достиг более 80 процентов износа. Никто и не предполагал, что когда-нибудь здесь будет музей Высоцкого. И уж менее всех, конечно, он сам.
Но он бывал в этом доме! Поговаривают, что жил здесь кто-то из знакомых его, но, уж во всяком случае, итальянское телевидение снимало его в доме и возле него. Сын Высоцкого Никита, директор музея отца, рассказал мне об этом.
В двух залах пусто и тихо. Нет никого. Хотя и многолюдные экскурсии, я знаю, бывают.
Три меча, прикованные к стене. Из «Гамлета». Мечи неподъемные, Высоцкий красиво опирался на них в спектакле. И шпага, которой он сражался в дуэли с Лаэртом, тоже неподалеку.
Плаха из «Пугачева». Покрытая парчой, мгновенно в трон перевоплощалась. Любимов верен себе: чем меньше декораций, тем выразительнее они.
Костюм Керенского из спектакля «10 дней, которые потрясли мир». Высоцкий сыграл в этом спектакле пять ролей.
Так хорошо знакомый по фильму пиджак Жеглова с бутафорской Красной Звездой на лацкане.
И его посмертная маска.
А в другом зале – о том, как жизнь его начиналась. Старый дом на Малой Бронной – маленькая родина. Письмо маме, когда ему было только семь: «Здравствуй, дорогая мамочка. Живу хорошо. Ем чего хочу. Мне устроили именины. Купили новый костюм». Это письмо из 45-го. Тут же книги, гостиничные бланки, покрытые стихами, написанными его рукой. Писал на чем придется. А вот интересная расписка на официальном бланке: «Мне, Высоцкому В. С., объявлено, что мне разрешен выезд во Францию на 45 дней, по истечении которого я обязан вернуться в СССР. 17.V.73 г.».
И его гитара. Ее передала музею Нина Максимовна Серегина, мама актера и поэта.
– Знаете, однажды после спектакля отец попросил меня донести гитару до машины… – рассказывает Никита Высоцкий. – Я ее с таким благоговением нес… Я чувствовал себя наверху блаженства!
– Когда вы впервые увидели отца на сцене?
– Мама рассказывала, что меня еще на руках в театр носили. Но я этого не помню. А вот уже в 13 лет я увидел «Гамлета» и «Вишневый сад» – это потрясло тогда меня.
– Как вы воспринимали отца на сцене?
– Понимаете, это были два совершенно разных человека: отец дома и отец на сцене. Я их никак не связывал.
– Отец хотел, чтобы вы когда-нибудь актером стали?
– Мы об этом никогда не говорили. Понимаете, профессия жестокая, в которой многое зависит не только от самого человека. В 16 лет я занимался спортом, играл в баскетбол и, как говорили, мог бы расти. Но я подумывал о журналистике, а мечтал стать актером. Отец умер – и я пошел в школу-студию МХАТа. У меня были проблемы с дикцией, и мне сказали: «Мы не можем не принять сына Высоцкого, но есть такие вот проблемы…» Я год потом готовился и поступил. Я это сделал сам.
– А музей? Как возникла мысль о нем?
– Идея витала в воздухе. Очень многие люди, ощутив пустоту без Высоцкого, не хотели мириться с тем, что его больше нет. Предлагали разный подход. Например: «Давайте поставим его «Мерседес». Другие хотели собрать все когда-то ему принадлежавшее. И только постепенно вырисовывалась идея культурного центра Высоцкого, где будут проходить встречи, фестивали. Вот это – живая идея. Меня захватило. Я даже и не думал, что такая работа может столь сильно захватить.
– Скажите, а Марина Влади здесь бывала?
– Нет. Была в Москве, но встретилась с очень ограниченным кругом людей. Мне хотелось встретиться с ней, но она не нашла времени для меня. Я рассчитывал, что она здесь побывает, поможет чем-то… Но у нее и так много своих проблем… И я ее понимаю.
Ну вот, замкнули мы кольцо Таганки. Шумная и тихая, лихая и спокойная. Всего лишь лист в венце Москвы.

…И двор тот умер без него

Она долго смотрела на этот рисунок с печальной улыбкой. Помолчав, сказала:
– Он был таким, когда мы с ним познакомились. Этот шарж ему бы понравился.
– Да, понравился. Он посмеялся, шевелюру пригладил и вот здесь автограф поставил.
Булат Окуджава тогда еще не был очень известен, выступал на небольших студенческих сборищах, в разных клубах – и всех словно бы за душу трогал. Многие о нем говорили, хотя еще и не слышали, а наши магнитофоны, только-только появившиеся, тяжелые, как противотанковая мина, отматывали только самые первые метры записей песен его. Их пели уже тихими голосами, и, как ни странно, они не теряли в хоровом исполнении своего обаяния.
Однажды, в 1961 году, его пригласили вечером в «Пионерскую правду», и я, тогда еще молодой, начинающий журналист, пока Окуджава пел, набросал шарж и показал его поэту. Он посмеялся, сказал, что очень похоже, и попросил подарить. А я пожадничал, оставил себе на память. Теперь вижу, что правильно сделал.
Потом мы встречались на беїу еще несколько раз, а года за два до его смерти я попросил пройтись со мной по Арбату и показать его любимые дома, вспомнить что-то из прошлого. Он согласился. Да только мы больше не встретились.
Ольга Владимировна, его жена, любимая женщина, прожившая с ним 35 лёт, возвращая мне блокнот, снова улыбнувшись, сказала: «А знаете, вы даже раньше, чем я, с ним познакомились…»
Год – 63-й, когда они встретились, без особого труда вычисляется: именно в это время появляются стихи, ей посвященные. Но те его посвящения не кричали и не высовывались возле первых строчек стихов: признания ей таились в глубине, между строчек. Робкие, как первая любовь…
Ей трудно о нем говорить. Слишком близка потеря и горяча боль утраты. Ей бесконечно трудно привыкать к совершенно неожиданно начавшейся иной жизни. Без него. Кажется, никогда прежде она о такой жизни не думала. Просто потому, что думать о том не хотела.
И что же теперь? Теперь она живет, согревая память о нем.
Осталось совсем немного его школьных друзей. Вот трое, кто из девятого класса тбилисской школы Булата на фронт провожали: Зураб Казбек-Казиев, Филипп Тер-Микаэлян и Володя Мостков. Булат приехал в Тбилиси одинокий, остро нуждавшийся в дружбе: отец расстрелян, маме суждено двадцать лет отмучиться в лагерях. А старый, бесконечно любимый арбатский двор – другая страна, иная земля – казался утраченным навсегда.
Так бы и случилось, если бы он не вернулся. Тогда бы нам не услышать его негромких, но таких пронзительных песен о старых московских улицах и об этом дворе, где он впервые стал думать о жизни. Он вернулся – судьба благоволила ему, не все же несчастья одни; нашел своих старых, довоенных, тоже школьных друзей, таких, как Паша Соболев. Но список их, и вначале-то не слишком большой, с каждым годом редел, лишь несколько имен сохранив.
Окуджава очень любил собирать друзей на даче у себя в Переделкине. Делал все сам, никакой помощи от Ольги не ожидая, не требуя. Она с улыбкой наблюдала, как он хлопочет – что-то готовит, даже не подпуская ее к плите. А потом она уходила. Он никогда ее о том не просил, это она не хотела мешать им. В той жизни, о которой они говорили и в которую погружались в воспоминаниях, ее еще не было, да и быть не могло, хотя она и знала ту жизнь – от него самого, да и песни-стихи столько ей всего рассказали…
В тех песнях, что едва ли не в каждом московском доме зазвучали потом, тоже выплывали слова посвящения и тоже светилась любовь к этому арбатскому двору и к этому дому. Никакой другой московский двор не был столько воспет. Вспомнить хотя бы вот эти строки: «…И рай, замаскированный под двор, где все равны, и дети и бродяги…»
Но ни в этом доме, ни в этом дворе, когда он вернулся в Москву после войны, места ему уже не осталось. В квартире, отобранной у «врагов народа», давно уж жили чужие люди, а двор, в котором он вместе с такими же арбатскими мальчишками березы сажал, принадлежал другому поколению. Только и осталось: эти березы, окрепшие и вытянувшиеся, да стены домов, по-прежнему замыкавшие до боли родную землю…
Его неудержимо тянуло сюда, и с трепетом, вполне им осознанным, он шел сюда, как на встречу с любимым другом или как на свидание со своим прошлым. Он проходил в эту низкую арку, что по соседству с шашлычной «Риони», и, преодолев темное, волнующее пространство, попадал в далекий – свой мир.
Долго стоял здесь в сторонке, стараясь никому не попасть на глаза, потому что боялся вторжения в ему одному принадлежащие воспоминания, вслушивался в чужие, незнакомые голоса и слышал в них голоса ушедших друзей, а в этих мальчишках, беззаботно гоняющих мяч под березами, что он посадил, видел себя. Он не думал тогда, в то далекое время, что еще немного – и небо над ним разверзнется и жизнь протащит его через жестокие испытания.
Эти мальчишки тоже ни о чем таком пока что не думали.
Ольга всегда знала, что ее муж любил один приходить в этот двор, и никогда не пыталась пойти вместе с ним, потому что знала: тот мир принадлежит только ему, она в нем чужая.
Теперь, когда Булата не стало, она вдруг почувствовала, что и ей двор сделался тоже родным. Будто он в наследство оставил ей это богатство.
Только эфемерным оказалось богатство. Его растоптали, развеяли: во все пространство двора отрыт котлован, безобразными клыками торчат из земли ржавые сваи, а обнаженная земля кажется раскрывшейся плотью в глубокой ране…
И его берез тоже нет. Ни одной, ни пня не осталось. Все повырубали, словно бы дожидались, когда уйдет из жизни человек, их посадивший. Только строки его остались: «…И мальчик с гитарой в обнимку на этом арбатском дворе». Как и все остальные строки, написанные им о том прекрасном и уже навсегда утраченном мире.
А дача в подмосковном Переделкине, где он жил круглый год, ему лично никогда не принадлежавшая, все еще хранит память о нем. И кто-то в любое время – зима ли, лето ли – кладет у калитки цветы.
И небольшое собрание колокольчиков тоже осталось. Они подают свой голос при легком прикосновении к ним, наполняя комнату дрожащими голосами. Эти колокольчики Окуджаве дарили разные люди, почему-то считая, что он собирает коллекцию, а он никогда ничего не собирал, просто любил иногда слушать тонкие, мелодичные звуки.
И рябинка, им посаженная возле этого дома, тоже растет, и еще какие-то странные, как говорит Ольга Владимировна, растения, похожие на тростник и которые ему очень нравились. Здесь же, в этом доме, и книги его – в небольшом кабинете.
А потом я смотрю удивительную коллекцию кукол, которые появлялись в их доме тоже как бы сами собой. Некоторым из этих очаровательных дам Булат дарил знаки своего внимания. Как, например, вот этой жгучей брюнетке в лиловом вязанном платье, в томной позе расположившейся на уютном диване. А любил он, между прочим, больше блондинок. «А вот это, смотрите – Булат. – И Ольга Владимировна подводит меня к потешной фарфоровой кукле, удивительно похожей на Окуджаву. – Это ему Резо Габриадзе подарил».
Обе ноги у куклы – правые: «Потому что ты всегда прав, Булат!» А фарфоровый: «Потому что ты такой хрупкий, Булат…»
Она ничего не рассказывает о том, как он мучился последнее время своей жизни. Они приехали в Америку на операцию, а денег не было. Помню, тогда прокатилось по нашим газетам: срочно, немедленно нужны деньги на операцию. «И что же?..» – спрашиваю. «Ни рубля не пришло из России».
«А его ордена? Ведь он прошел всю войну, можно на них посмотреть?» – «Нет никаких орденов. Разве только медали…» И она рассказывает о том, как он боялся, что ему к шестидесятилетию орден дадут. Очень он того не хотел. Звонит ему Белла Ахмадулина, а он волнуется: «Белла, а они могут мне орден дать, меня не спросив?» Она его успокоила: нет, не могут. Ведь надо какие-то бумаги подписывать, анкеты. Так что нет, Булат, не дадут. Он успокоился. И орден, ему предполагавшийся, украсил другую грудь. «И так жаль, – с грустью произносит она, – что нет его книг на прилавках…»
Я тоже его двор полюбил. Не этот, сегодняшний, а тот, довоенный. Мы со своей Серпуховки редко на Арбате показывались: другое государство. И центр вдобавок. Тут не было уютных, заросших бурьяном углов, как в нашем дворе, и деревьев, старых, разросшихся, поднявшихся выше самых высоких крыш, тоже не было. И гул огромного города, отступавший перед нашим двором, гремел здесь неумолчным набатом – с гудками машин, со звонками трамваев. В эти чужие дворы мы никогда не заглядывали: странное и незнакомое всегда отпугивает, хотя и любопытство, интерес вызывает. А для него в этих арбатских дворах осталась часть его жизни. Он и родился в паре шагов от них. Этот двор возле высокого дома – его колыбель, его родная стихия. Вот почему всю жизнь он носил в себе память об этом дворе.
Дежурный по апрелю умер в Париже. А покой свой нашел в родной московской земле.

И грянул свет

«Да будет свет!» – воскликнул Бог, решительным движением включив рубильник. И Москва озарилась небывалым сиянием!
Доподлинно известно, когда именно свершилось сие событие: в конце 1730 года российский Сенат выдал указ, повелевавший «поставить на столбах фонари стеклянные», дабы осветились улицы в Кремле, Белом и Земляном городах, в Немецкой слободе и Китай-городе. Конопли у нас всегда было достаточно, масла из нее жали – залейся, и в первые московские фонари заливали именно этот продукт. Фонарщики, подставив коротенькую лестницу, взбирались поближе к светильнику, ежели надо было, подливали масла в огонь из жестяного сосуда с длинным носиком и так, перемещаясь от фонаря к фонарю, несли свет старой Москве. К концу работы они, надо полагать, совершенно офонаревали.
Когда же фонари гасили, улицы, еще недавно казавшиеся ослепительно озаренными, сразу вдруг тускнели. Не горели фонари и в ночи, которые по календарю значились лунными, и в светлые летние месяцы. Городская Дума наказала заменить в фонарях конопляное масло керосином. Света заметно прибавилось, но в Европе-то давно уже обливались светом газовые фонари. Стоит ли удивляться, что, глядя на них, нам захотелось того же?
Газовая революция грянула в Москве в 1865 году, когда Дума раскошелилась и, тщательно изучив предложения иностранных фирм, решительно остановила свой выбор на англичанах Букве и Голдсмите. И уже чрез три года на московских улицах возгорелось более трех тысяч газовых фонарей. Возле них поначалу собирались зеваки, пьяницы в их свете искали потерянные кошельки, а возлюбленные назначали свидания. А вскоре в нашем городе возник и первый русский завод газовых фонарей. Сами свет Научились делать.
И уже близился, подступал исторический день 11 июня 1874 года, когда русский инженер Александр Николаевич Лодыгин получит патент на «Способ и аппараты дешевого электрического освещения». Это в России, но уж за год до того он запатентовал свое ослепительное изобретение в десятке европейских стран, на целых шесть лет опередив американца Эдисона. Тот еще только ставил свои опыты, разрабатывая идею русского инженера, без каких-либо ссылок на него, кстати, а у нас в это самое время улицы Петербурга уже озарял электрический свет.
В Москве же электрические фонари зажглись впервые в 1883 году – на нынешней Пречистенской набережной, на Красной площади, на площади у храма Христа Спасителя. Восхищенные небывалым сиянием, газеты пишут, что 5330 фонарей заливают электрическим светом целых 180 верст московских улиц! Но это уже в 1914 году.
«Русский свет», как его в Европе тогда называли, озарил магазины и театры Парижа, Лондона, других городов. Без колебаний можно снять шляпу и отвесить низкий поклон Лодыгину, Петрову и Яблочкову, «русский свет» сотворившим.
Однако по Москве горели еще и газовые рожки, а кое-где тлели и керосинки. Не все сразу. Но в один голос иностранные гости, в Москву приезжавшие, заверяли, что наша древняя столица освещена ничуть не слабее любого европейского города. Да и в самом деле, не только же бедственным пожарам Москву освещать… Повидала их Москва во свои-то века, вряд ли когда-либо другой город столько горел…
А потом Москва надолго растворилась в ночи. В Великую Отечественную и в окно-то глянуть вечером страшно было: полная, беспросветная темень. В наших окнах, помню, висели рулоны плотной черной бумаги, обрезанной вплотную в оконном проеме. Патрули, ходившие по улицам и дворам, высматривали малейшие щели, сквозь которые свет пробивался, бежали тут же в квартиры, а случалось, рассказывали, и стреляли по окнам. Зато не забыть никогда, как вспыхнула, озарилась Москва в мае сорок пятого, когда сорвали с окон ту ненавистную черную бумагу и небо рассверкалось в салюте! Метались светящиеся стрелы прожекторов, и горел над Красной площадью портрет рябого вождя в мундире генералиссимуса…
В преддверии своего 850-летнего юбилея Москва как бы заново родилась и ярче прежнего высветилась. Столько старых прекрасных зданий, умело подсвеченных, возникло, будто на сцене! А мы-то ходили мимо, не замечая их…
Целая наука – освещение города. У нас этим занимается научно-производственное объединение «Светосервис». Специалисты объединения начали с освещения Казанского собора и гостиницы «Украина», и очень удачно начали, а теперь высветили более трехсот зданий нашего города, мосты, телебашню, сооружения на Поклонной горе. Совсем иной – нарядной, праздничной стала Москва. А ведь столько последних лет считалась она самой темной из всех европейских столиц и безвозвратно, казалось, утратившей русский свет. Но нет, не утратила.
Как не утратила, сохранила в себе тепло и свет своей души и сердца. Ведь столько на свете городов, к человеку холодных и равнодушных… А Москва такой никогда не была. Всегда привечала гостей, согревала и хлеб-соль подносила. Откуда такое в городе… Казалось бы, что город – стены да стены… А нет! Душа есть и в городе. Наверное, это наша душа. И тех, кто из века в век строил Москву.