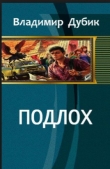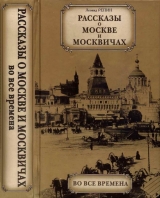
Текст книги "Рассказы о Москве и москвичах во все времена"
Автор книги: Леонид Репин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
«Ты славил, лиру перестроя, любовь и мирную бутыль!»

Который уже раз стою напротив этого дома, что в середине Пречистенки, под пышной кроной клена и едва успеваю отпрянуть в сторону, как мимо через распахнутые чугунные ворота лихо проносится карета и из нее на ходу выскакивает… невысокий и плотный гусар в небрежно наброшенном ментике и сияющих белизной лосинах, так сидящих на нем, будто он в них и родился. Придерживая левой рукой саблю, висящую на длинной перевязи, он скрывается за дверью парадного. Это хозяин дома – Денис Васильевич Давыдов. Тот самый! Поэт, гусар, вольный, как птица, ни Бога, ни черта в бою не боящийся и в откровенных выражениях своих на званых балах дурных последствий не остерегающийся. Все ему нипочем! За это и страдал и за это поневоле расплачивался во всю свою жизнь.
Откуда взялся он, Давыдов? А из самого чрева Москвы. В семье потомственных военных родился чернокудрый сорванец, скоро выказавший страсть «к маршированию, метанию ружьем» – как позже сам о себе он написал. Отец командовал Полтавским легкоконным полком, и Александр Васильевич Суворов при осмотре оного заметил резвого ребенка, благословил его и произнес: «Ты выиграешь три сражения!» И ускакал.
В семнадцать лет Давыдов уже эстандарт-юнкер в Кавалергардском полку, через три года – поручик Белорусского гусарского полка. Вот тогда-то и показал юный красавец гусар, на что способен. Саблей и пистолетом он давно отменно владел, а теперь и перо свое обнажил – острое, колкое, меткое, лихое и отважное! Что воспевал? Разгульную гусарскую жизнь, разудалые застолья и женщин, которых боготворил. И, кажется, – всех!
Конечно, он слыл кутилой.
Это ему Пушкин написал про «любовь и мирную бутыль», посылая свою «Историю Пугачева». На пятнадцать лет Александр Сергеевич был младше Давыдова, но говорил ему: «Ты мой отец и командир».
Любил Давыдова и почитал за удаль его редкостную, за талант огромный и за готовность в любой момент кинуться в разгул с друзьями. И Пугачева направил в службу, под крыло Давыдова. «В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой!» – писал Пушкин.

Пречистенка в XIX веке
Отчего-то знаем Давыдова лишь по Отечественной войне. Хотя и верно: слава в ней Давыдова как никогда взлетела. В 1806 году, как началась война с французами, князь Багратион взял молодого лейб-гусара в адъютанты, а то при штабе сидел как на иголках и при всяком случае стремился в сечу. Однажды, окруженный, едва в плен не угодил, но был спасен казаками.
Через два года Давыдов уже со шведами воюет, отбивает остров Карлое и познает тонкости тактической войны. Потом сопутствует Багратиону, когда тот стал главнокомандующим Задунайской армией, и ни одного сражения с персами не упустил. Но звездный час – и в самом деле – война двенадцатого года.
В этой войне Давыдов творил чудеса. Это ведь он, едва Наполеон перешагнул пределы России, предложил Багратиону проект партизанской войны. И, получив одобрение, сбросил роскошный гусарский ментик, заменил простым кафтаном его, отпустил крестьянскую бороду и с образом Николая Чудотворца на груди с бесшабашной удалью громил врага в самых неожиданных местах для того. За что и получил звание полковника и три ордена в придачу.
Федор Глинка воскликнул: «И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан! Но милым он дарит в своих куплеты розы: Давыдов, это ты – поэт и партизан!»
Что ж, только и воюет? Не на полях – так за столом иль в будуарах!
А меж баталий отдается музе. Перо в руке, покуда сабля на стене. Он изучает экономию, Тацита переводит, но как гусары призовут, бросал все – и вмиг летел в гусарское разгулье!
Император Николай Павлович спросил однажды у генерала Ермолова, дальнего родственника Давыдова: «Что ж, урывками он служит? Жаль, с его средствами и дарованиями он пошел бы далеко!» А генерал ответил: «Правда, государь: быв гусаром, он славил и пел вино и оттого прослыл пьяницей, а он такой же пьяница, как я».
Его «Записки партизана» начнешь читать – не оторвешься. Все восстает перед глазами – лихая рубка, дым бивака, внезапная атака из-под сени леса во снегах, и в тишине, уж после боя, – гусар с пером в руке, из-под которого несутся строки…
Но счастье не пес, на поводке не удержишь. Счастье – вольная птица. После войны – счастливое для него было время – пошли одни неудачи. Произвели в генерал-майоры, и он уж справил это событие, как и в прежние годы, с шампанским и с песнями, но тут доброжелатели стали тайно «конями ходить». Разве жизнь не та же игра? Добились: производство в генералы признали ошибкой. Ему и сорока не было, когда, хлопнув дверью, вышел в отставку.
Однако последний его час не пробил еще, нет. И Давыдов отличается в Польской войне. Тут уж деваться некуда: производят его в генерал-лейтенанты. Но теперь время другое, Давыдов сам устал. Всю жизнь энергия била в нем через край, но это же не вечный источник… Уехал из Москвы, из этого дома, в свое имение в Симбирской губернии и уже никогда не вернулся. Нажил в браке пятерых сыновей, и точно неизвестно, сколько еще дочерей. Могучий был человек.
Он прожил пятьдесят пять лет и погребен на Новодевичьем, в городе родном.
На портрете Кипренского, всем хорошо известном, где Давыдов в доломане, непринужденно подбоченившись, стоит, на саблю опираясь, – вовсе не Денис Давыдов, как принято считать. Всеобщая и давняя ошибка: это его брат двоюродный, Евграф Давыдов. Тоже, между прочим, герой двенадцатого года, награжденный шпагой с бриллиантами и надписью «За храбрость».
Одна семья, и кровь – одна.
А дом Давыдова, к слову сказать, был построен незадолго до рождения Дениса Васильевича. В войну 1812 года он, конечно, горел, но был восстановлен и стал московским памятником архитектуры – оригинальное здание, мимо не пройдешь, обязательно станешь разглядывать. А прежде владел им другой знаменитый москвич, легендарный сыщик XVIII века, обер-полицмейстер Москвы Николай Петрович Архаров. Он вел расследование по Пугачевскому бунту, был произведен в бригадиры, в генералы по-нынешнему, и вот тогда-то и стал наводить порядок в Москве.
Личность необычайнейшая! Проницательность его казалась всем фантастической. Молча глядел он на сидящего напротив человека и знал уже – виновен ли тот. Екатерина Великая не могла без него обойтись и срочно вызывала в Петербург, когда там возникали дела, без него не решаемые. И когда из домовой церкви Зимнего дворца исчезла икона Божьей Матери в богатом окладе, с каменьями драгоценными, тоже позвала.
Дорога была эта икона императрице: под нею Екатерина на трон взошла. Архаров приехал и на следующий день вернул икону на место. А в другой раз в Петербург даже не счел нужным поехать: пропажу – какое-то редкое, старинное серебро – нашел, не выходя из этого дома! Точно указал место, где спрятано. В подвале. Рядом с домом петербургского полицмейстера. Ей-богу, иногда кажется, будто он сам все учинил, чтобы тому досадить… Но нет же, конечно.

Теплом Москвы согретые

Еще живя в родном своем имении, Сергей Тимофеевич Аксаков многажды проговаривался, как манит его Москва, как она желанна, мила для него. Как-то со всем семейством он целый год прожил в Москве и, ощущая неодолимую тягу к родным местам, все же привязался к этому городу и обзавелся здесь друзьями. К тому же и о будущем детей надо было подумать. Короче, собрался Сергей Тимофеевич и двинулся в Первопрестольную.
Деревянный дом возле Смоленского рынка был обширен, просторен, совершенно походил на барские деревенские дома и тем более Аксаковым нравился. Он кишмя кишел дворнею, без которой хозяева и не представляли, как управиться со своим многоголовым семейством. Получилось вроде бы так, что Аксаковы просто-напросто перенесли из деревни в Москву весь свой прежний уклад. Позади дома – двор необъятный, людские всякие, в разросшемся саду яблони, вишни. Ну и баня, конечно. Настоящий деревенский закуток обустроил Аксаков в Москве.
И вот сидит он как-то вечерком по весне 1832 года в доме на Сивцевом Вражке, сидит в мезонине, в своем кабинете и перекидывается в карты с приятелями. И тут возникает явившийся без какого-либо предуведомления его друг, историк и писатель Михаил Петрович Погодин и подводит к столу, крытому зеленым сукном, некоего незнакомца странного вида.
Подстриженные по моде виски, неуместный хохол какой-то и с чрезмерной аккуратностью ухоженные усы. Нечто плутоватое показалось хозяину в облике незнакомого гостя. И уж немыслимый щеголь: пестрый жилет с толстой цепочкой, из кармана свисающей, перекрахмаленный воротничок на сорочке. Смотрит на всех свысока, надменно и хоть в гостях, а неприветливо. И очень молод при всем при том.
Погодин, видя замешательство хозяина, говорит с улыбкой: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!»
Карты едва не выпали из рук Сергея Тимофеевича. И гости все застыли, рты раскрыв. Гоголя в доме все знали, почитали и любили уже, хотя никогда с ним не встречались еще. А тут выскочил пятнадцатилетний сын Сергея Тимофеевича Коля, увлеченный литературой более, чем какой-либо девушкой, и едва не сшиб от радости Гоголя… Он-то и разрядил обстановку.
Дружба старшего Аксакова и молодого, по-юношески обидчивого и трудно сходящегося с людьми Гоголя выстраивалась долго и трудно. Притом что нигде, наверное, никто так Гоголя не любил, как в семье Аксаковых. И любовь эта была самой искренней и бескорыстной. Уже после того, как не стало Гоголя, Аксаков, сам к тому времени ставший большим русским писателем, стойко и ревниво оберегал память о Гоголе.
Гоголь словно согрелся в этой семье. Его с неизменной радостью встречали здесь, когда он возвращался после долгих заграничных поездок, а юная Вера, любимая дочь Аксакова, с уже воистину женской интуицией сразу же спрашивала: «Вы для того и приехали, чтобы сразу уехать?» Гоголю не нравились все эти расспросы, и он с трудом их терпел.
Окончательно и бесповоротно он распознал отношение к себе Сергея Тимофеевича в одну из трудных минут своей жизни. Гоголю позарез, смертельно были деньги необходимы, а взять их где – он не знал. Рухнули всякие расчеты, надежды, и вдобавок он потерял бумажник, в котором носил всю имевшуюся наличность. И тут взволнованный Аксаков, с трудом придавая голосу твердость, потому что боялся своим предложением обидеть гениального человека, сообщает, что безо всякого лишения для себя может дать две тысячи. Деньги очень большие. Более того, добавил Аксаков, дружба их дает ему право обратиться с таким предложением. Но сколько сил понадобилось ему, чтобы Гоголя уговорить!
В одной известной книге о Гоголе нашел я как-то, что именно сюда, в этот дом, Николай Васильевич привез только что вышедший том «Мертвых душ». Но нет, ошибается биограф: в мае 1842 года Аксаковы в Сивцевом Вражке уже не жили. Они переехали в другой дом неподалеку, и он, увы, не сохранился. А этот стоит, по счастью, напоминая о великих людях, сюда приходивших.
Теперь здесь – филиал Государственного литературного музея, но еще до 1980 года оставались в доме коммуналки. А ведь именно в этом доме, в семье Аксаковых Гоголь отмечал свое сорокалетие… Факт можно считать доказанным.
К сожалению, ничего из аксаковской обстановки в доме не сохранилось. Мебель, что сейчас можно увидеть, отражает стиль той эпохи, и только. Но, по правде сказать, это ведь и не музей Аксакова. Хотя, конечно, одновременно мог бы им и быть. Ну да это уже совсем другой разговор.

Чудный дом на страшном месте

Полжизни прожил неподалеку от этого изумительного дома – надо было только от Серпуховки Полянку пройти, – а даже не подозревал о его существовании. Мрачная, безобразная громада Дома на набережной, похожая на брошенный город из-за того, что во дворе его всегда было пусто, заслоняла, скрывая от глаз людских красавец дом, не похожий ни на какой другой во всей Москве. Но однажды, гуляя с девчонкой после выпускного школьного вечера, сошли мы отчего-то с Большого Каменного моста и направились по спящей Берсеневке, стараясь подальше держаться от безобразного дома.
И тут нам открылось такое…
Этот чудный дом, словно бы писанный яркой акварелью на темно-сером листе ватмана или на огромном холсте на заднике сцены, завораживает необыкновенной своей красотой. Чей дом, кто жил в нем – ничего не удавалось долго узнать. А потом, словно бы в благодарность за мои поиски, дом стал рассказывать о себе.
Самая древняя часть палат, примыкающих слева к этому дому, построена в начале XVI века, и принадлежали палаты боярину Ивану Никитичу Берсень-Беклемишеву, известнейшему дипломату в царствование Ивана III и сына его Василия Ивановича.
Беклемишев служил какое-то время приставом при германском после в Москве, потом сам поехал в Польшу послом. Был он любимцем и главным советчиком Василия Ивановича, пока тому не показалось, что слишком уж перечит Беклемишев ему. А тут и доброжелатели приспели вовремя и оклеветали любимца великого князя. Княжеская милость – палка о двух концах. И Беклемишев был обезглавлен. Пролилась первая кровь этого дома.
В царствование Ивана IV перешел дом каким-то образом в хваткие руки Малюты Скуратова, зверя-опричника, задушившего своими руками митрополита Филиппа и множество других душ загубившего. Как-то в 1906 году, когда строили неподалеку от этого дома электрическую станцию, при вскрытии котлована открылись неведомые подземелья с орудиями пыток и костями растерзанных. Предположительно именно здесь прятались пыточные Грозного. И, сказывают, шел от дома Малюты тайный ход в те подземелья. А серебряные монеты времен Ивана Грозного, там же найденные, – плата палачам, наверное. А может, и купить кого-то хотели… Теперь не узнать.
От Малюты, согласно преданию, дом попал прямиком в царские руки: одна из дочерей Скуратова вышла замуж за Бориса Годунова и дом был за нею в приданом. Дочки, кстати, удались обе в папеньку: доподлинно известно, что одна отравила боярина М. В. Скопина-Шуйского, а другая ославилась своим жесточайшим обращением с дворней. Короче, недалеко яблочки от яблоньки укатились. И снова лилась кровь на этом месте ужасном…
Дом, который выходит фасадом на Берсеневскую набережную, построен на месте старых палат, на их белокаменном основании, посейчас видном достаточно хорошо. Построил его в 1657 году думный дьяк Аверкий Кириллов, тоже человек с судьбою необычайной. Впрочем, это не просто дом был уже, а целая городская усадьба с церковью Святого Николы Чудотворца, тоже поставленной на подклете более давнего времени. Богатый Кириллов был первым прихожанином той церкви и первым ее дароносителем. Считается, что существовал некогда и ход из церкви прямо в палаты Кириллова.
Карьеру же себе Аверкий построил на царской флоре. Был он ботаником: разводил необыкновенные растения в царских садах. В этом деле не было равных ему. За то царь и сделал его думным дьяком. После дочери Ивана IV он долго – четверть века – владел домом. Но и его крови суждено было пролиться. Место это и впрямь оказалось зловещим для его владельца.

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. Парадный фасад
По смерти царя Федора Алексеевича (1661–1682) московский двор погряз в интригах, отчаянной борьбой не на живот, а на смерть. Аверкий, всегда старавшийся держаться справедливости, присоединился к Нарышкиным и сразу же сделался врагом Милославских. Милославские же, замыслившие извести и сам род Нарышкиных, внесли в черный список и тех, кто их поддерживал. Аверкий в списке, конечно же.
В 1682 году стрелецкий бунт оборвал жизнь Кириллова: его сбросили с Красного крыльца наземь, изрубили секирами, саблями. Но этого мало показалось злодеям: тело выволокли на Красную площадь и еще кричали при этом: «Расступись, думный едет!» И кажется, случайно уцелел сын его Яков, ставший впоследствии думным дьяком…
Что сталось с домом потом… В самом начале XIX века поселились в нем сенатские курьеры. Удобное место, рукою подать до Кремля. В то время дом так и назывался – «курьерским». А потом домом довольно долго владело Русское археологическое общество, пока не наступило советское время. Когда братья Иофаны принялись строить свой жуткий дом-левиафан, Дом на набережной, дивные палаты Кириллова отдали под общежитие строителей.
Да, что и говорить, страшное место… А дом – чуден, прекрасен. Жемчужина в короне Москвы.

Драма против Кремля

Наверное, это самый знаменитый московский дом советского времени. И самый зловещий, пожалуй. Да и не дом это вовсе, а целый город: пять тысяч квартир. И все, что нужно для обособленной социалистической жизни, в нем есть: универсальный магазин, гастроном, кинотеатр, детские ясли, прачечная, клуб. У входов в подъезд, только внутри, маячили вахтеры в форме и с револьверами. Ну уж не консьержи, конечно, а форменные часовые: чужая муха не пролетит… Чужое животное не пробежит: сторожевые собаки тут же на стреме.
Дом и в самом деле задумывался как пример образцового социалистического общежития, в котором, разумеется, все семьи жили в отдельных квартирах, и архитектор Б. Иофан, его спроектировавший, представил дом на ватмане красно-розовым, чтобы в цветовой гамме он перекликался с Кремлем. А вышло вон что: Бастилия – не Бастилия, крематорий – не крематорий… Ужасная, мрачная громада…
Берсеневская набережная, дом 20/2. Дом Правительства, как его называли прежде и Дом на набережной – после того, как вышел роман Юрия Трифонова с таким названием.
Квартиры по тем временам были просторны, но угнетающе однообразны. Мебель, добротная, прочная, но безликая, мрачная, спроектированная, кстати, тем же Иофаном, наводила на мысль о прежних доходных домах. В буфете, к примеру, на всех ящичках надписи: салфетки, фарфор, ложки, вилки. Ножи разрешалось класть по своему усмотрению. И во всех квартирах такая мебель.
Я знал Юрия Валентиновича Трифонова, но не знал, что он в том доме жил. Я бывал у него дома на Соколе, на улице Георгиу-Дежа, завидовал его полному «Брокгаузу и Ефрону», в котором все корешки до единого были напрочь оборваны. И не удивился, когда увидел, как Юрий Валентинович достает с полки эти тяжелые книги: цепляет сверху пальцем, как рыбу крючком, и грубо вытаскивает. Для него эта редкая в то время книга была просто справочником.
Тогда, в 74-м или в 75-м году, он спросил меня, над чем я работаю, и я рассказал ему, что давно собираюсь сесть за повесть об этом доме – взять чью-то судьбу и раскрутить на ее примере события тех лет. Я постоянно, много лет ездил мимо этого дома, знал понаслышке, что это за дом, и даже однажды был в нем в гостях у товарища. У меня и название было для повести: «Этот безобразный, огромный дом».
Юрий Валентинович внимательно на меня посмотрел и сказал без тени улыбки: «Такую повесть я уже написал. Я жил в этом доме». Я спросил, как будет называться повесть, и он ответил: «Пока что – «Дом на набережной». Но так и осталось. Теперь этот дом иначе и не называют.
Вот такая любопытная история связана у меня с этим домом.
Когда бываю здесь, обязательно спускаюсь на Берсеневку, к Москве-реке, по широкой гранитной лестнице, загибающейся с Большого Каменного моста к набережной. Сколько ни ходил, никогда никого здесь не встречал. Люди словно бы стороной обходят эту пустынную лестницу, где много лет назад разыгралась трагедия. Но нет, эту историю знают немногие.
Стояло жаркое московское лето 1943 года. Шла война. Москву уже не бомбили, и два выстрела, прозвучавшие в летних сумерках один за другим на этой лестнице, услышали. «Скорая помощь» вместе с милицией очень скоро оказались на месте.
Мальчик и девочка. Лет по пятнадцать-шестнадцать. Она – в легком светлом платьице, доходившем почти до щиколоток, в белых подвернутых носочках – как все девчонки тогда носили, в круглоносых туфельках с застежкой на пуговку через подъем. Он в рубашке с короткими рукавами и в широченных брюках с обшлагами – других брюк тогда и не видывали. Оба бездыханны, в луже крови. Рядом, на ступенях, – наган.
Врач «скорой» обнаружил, что мальчик дышит еще, и через несколько минут над ним склонился знаменитый хирург Александр Николаевич Бакулев. Он жил в Доме на набережной и хорошо знал родителей девочки. Должен был знать и родителей мальчика: обе семьи известны в стране, оба отца занимали высокие государственные посты в советском правительстве.
Волшебник Бакулев сделал все, что мог, и даже больше того, но через два дня не стало и мальчика. Он умер, так и не придя в сознание. Никому ничего не смог рассказать.
Тамара Андреевна Тер-Егиазарян, директор музея «Дом на набережной», немного знает о том, что случилось тогда, но отца мальчика – Алексея Ивановича Шахурина, наркома воздушного транспорта, знала хорошо. Она тогда была начальником Главного управления энергетики авиационной промышленности, и им часто приходилось встречаться. Конечно же, знала она и семью девочки – Нины Уманской: жили они в этом же доме, в квартире 66, в четвертом подъезде. Окна квартиры выходят во двор и на Кремль. И на эту вот злосчастную лестницу.
Константин Александрович Уманский был человеком необычайным, талантливым. Свободно владел английским, немецким, говорил по-французски и по-испански. В 18 лет написал на немецком языке книгу «Новое русское искусство», где анализировал работы Шагала, Малевича, Сарьяна и многих других художников, широко известных у нас и на Западе. Ну кажется, написал – и молодец, самовыразился, есть за что себя уважать, но книга вышла в Берлине, в крупном, солидном издательстве. Значит, серьезная вещь, отнюдь не забава толкового мальчика.
Окончив Московский университет, Уманский несколько лет работал корреспондентом Российского телеграфного агентства в Вене, Риме, Париже – в точках, для журналиста особо ответственных. Потом – несколько лет в Наркомате иностранных дел СССР, чуть позже он уже советник посольства СССР в США, а с 1939 года – послом в Америке. Было ему тогда всего 37.
Вот в такой семье выросла Нина. Единственный, любимый ребенок Уманских. Володя Шахурин в своей семье был тоже единственным. Нина была умная, веселая девочка, ее любили подруги, ее дружбы искали. Володя – мальчик интеллигентный, холеный, говорили, довольно избалованный. Они учились в одной школе, в каком-то переулке возле улицы Горького.
Эти двое любили друг друга.
Так что же случилось тогда, далеким летним вечером 43-го года… Только что, в мае, Константин Уманский получил новое назначение: он должен был ехать в Мексику послом Советского Союза. Собирались обстоятельно, хотя и поторапливались. Как раз в эти дни Уманский встретился со своим другом, писателем Ильей Эренбургом. Кстати, многие знаменитости дружили с Уманским: человек яркий, незаурядный, он привлекал к себе людей поневоле. У него часто бывали Евгений Петров, Михоэлс, знаменитый полярный летчик Чухновский, адмирал Исаков. Но ближе всех, пожалуй, был ему Эренбург. С ним Уманский делился тем, чего другим не доверял.
Эренбург тогда написал: «Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. Я знал, что есть в его жизни большое чувство, что в 1943 году он пережил терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». И вот неожиданно разыгралась драма…»
Так вот, семья Уманских, все втроем вместе с Ниной, собиралась уехать в Мексику. Это надолго. Володя не представлял себе жизни без Нины, он не хочет понять, что она никак не может изменить обстоятельства. В отчаянии он считал, что Нина его предала…
Последний раз – он уже знал, наверное, что последний, – встретились на этой широкой, пустынной лестнице. Ни проблеска света вокруг. Мрачное зрелище являла собою Москва в те военные годы… Скорее всего, объяснение было бурным и страстным… Выхватив револьвер, Володя в упор стреляет в Нину и убивает ее на месте. Потом стреляет в себя.
Эренбург рассказывал: «Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову и прикрыв лицо руками…»
Наверное, можно понять, почему в столь тяжкий час он оставил страдающую жену и явился к другу. Что его дома ждало… Рухнула последняя надежда в жизни.
Что было потом? Далее события развернулись невероятнейшим образом. Как будто бы мать Володи написала письмо Сталину, в котором просила провести расследование. Она писала, что в их семье револьвера никогда не было и быть не могло. Откуда он? Сталин передал письмо Берии, и заплечных дел мастера по приказу наркома внутренних дел стали хватать подростков – товарищей Володи и Нины прямо на улицах, у школы. Арестовали человек пятнадцать. Все дети известных людей. Среди них – два сына Анастаса Микояна, сын великого хирурга Бакулева, пытавшегося спасти жизнь Володи Шахурина, Артем Хмельницкий – сын генерала Хмельницкого, адъютанта Буденного. Остальные тоже не были детьми гегемона.
И выяснилось нечто такое, от чего волосы дыбом вставали: мальчишки организовали тайное общество, готовили заговор, собираясь свергнуть правительство!
Мальчикам, которым было по пятнадцать-шестнадцать лет, предъявили обвинение в измене родине и сослали на разные сроки кого на Крайний Север, кого в Казахстан.
В свое время директор музея «Дома на набережной» Тер-Егиазарян написала письмо в КГБ с просьбой дать доступ к материалам дела. Ей отказали. И все по-прежнему осталось тайной.
Но вовсе не тайна, что мальчики просто играли. Они играли в правительство – а во что еще им играть, если жили в доме таком? У них имелся и «глава» своего шутейного правительства, были «министры». Володя Шахурин был тоже каким-то «министром». Раз папа, значит, и он. За эти игры все они были жестоко, хладнокровно, несправедливо наказаны. Да на какую справедливость тогда можно было рассчитывать…
Константина Уманского совершенно добила судьба. До конца войны он работал в Мексике, а когда в мае 1944 года установились дипломатические отношения СССР с Коста-Рикой и Никарагуа, его назначили послом одновременно в обе эти страны. Как он был в то время несчастен, можно только догадываться.
В январе 1945 года, когда до Победы в Великой войне оставался вдох-выдох, Уманский вместе с женой вылетел в Коста-Рику для вручения верительных грамот. Самолет загорелся на взлете, упал и взорвался. Погибли все, кто был на борту.
Нина и Володя похоронены рядом, на Новодевичьем кладбище. И их родители тут же. Теперь от этих семей никого не осталось.