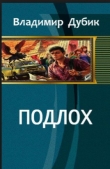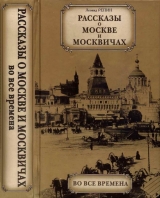
Текст книги "Рассказы о Москве и москвичах во все времена"
Автор книги: Леонид Репин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
Смерть актрисы

Если спускаться по Тверской к Манежной площади, то, не доходя до Центрального телеграфа, справа за высоченной аркой откроется Брюсов переулок, круто сбегающий вниз, к церкви Воскресения усопшего на Успенском Вражке, поставленной еще в 1629 году. А по левую руку в переулке – первый невзрачный дом № 12, его еще называют «Дом артистов». Здесь, на втором этаже, в квартире № 11, и разразилась трагедия 14 июля 1939 года.
Стояло жаркое лето, хозяина квартиры – Всеволода Эмильевича Мейерхольда почти месяц как арестовали и упрятали в недра Лубянки, а потом – Бутырской тюрьмы, дети были на отдыхе, и в большой квартире в центре Москвы, помимо Зинаиды Николаевны Райх, была лишь домработница Лидия Анисимовна.
А накануне, точнее за два дня до убийства, здесь была пятнадцатилетняя девочка Маша, внучка Мейерхольда. В тот день она застала Райх в хорошем настроении, и та лежа на диване что-то читала. Чело ее было безоблачно.
Мария Алексеевна Валентей – та самая далекая девочка, а ныне заведующая Музеем-квартирой Мейерхольда, сидит передо мной и наотрез отказывается не только что-то рассказывать о тех событиях, но даже и вспоминать. Я ее понимаю.
Но все же, даже и вопреки ее желанию, что-то в памяти и выплывает, и из разрозненных обрывков складывается драма, разыгравшаяся вот в этих стенах.
Глубокая ночь. Райх долго плескалась в ванной, а потом по коротенькому коридору – всего-то шесть-семь шагов, прошла в гостиную. Кажется, свет в ней горел. Здесь на нее и напали двое. Один из бандитов всадил ей нож в грудь. Она упала, обливаясь кровью и призывая на помощь. Окна были распахнуты, и, надо думать, крики ее многих тогда разбудили. Однако никто не откликнулся и, насколько известно, в милицию не позвонил.
Выскочила Анисимовна, ее с ходу ударили чем-то тяжелым по голове. После этого нападавшие рванули на лестницу. Домработница, придя в себя, с громкими криками кинулась следом за ними. Входная дверь у нее за спиной захлопнулась, и вернуться в квартиру и оказать помощь Зинаиде Николаевне она уже не смогла. В ужасе она побежала на поиски дворника. А тот, упрямый, глупый мужик, отказался выламывать дверь до тех пор, пока не приедет милиция.
Когда появилась «скорая помощь», Райх отнесли в машину, и она по дороге в больницу тихо, от потери крови скончалась.
Анисимовна отделалась раной на голове и ужасом, что пришлось ей в ту ночь пережить. Потом она внезапно бесследно исчезла.
Жизнь и смерть этой яркой женщины интересна нам прежде всего потому, что она была женой двух великих людей: Мейерхольда, а прежде – Есенина.
Встреча с Есениным оказалась настолько случайной, что уж случайней не бывает. Он заглянул в редакцию какой-то маленькой газетки, а она там секретарем-машинисткой работала. Человека, к которому Есенин пришел, на месте не нашлось, и он присел поболтать с молодой и красивой девушкой. А когда человек тот вернулся и пригласил Есенина в свой кабинет, тот и не захотел подниматься: «Лучше я уж тут посижу». Ну и досиделся – через три месяца они с Зиночкой поженились. Она была юна, хороша и уже с округлыми чудесными плечиками. Не они ли пленили его?
У них родился сын Константин и дочь Татьяна, а жизни семейной не получилось – года два и прожили вместе всего. Зина старалась его удержать, стремилась женой быть хорошей, да только разве ветер удержишь? Да и время было такое – бури неслись одна за другой: 1917 год.
Детей Есенин любил, хоть и мало времени для них находил. Пошли даже слухи, будто Есенин решил их у матери умыкнуть, и Зинаида их спешно отправила в Крым. С Есениным же они еще долго встречались время от времени.
С Таней и Костей он зашел проститься домой к Мейерхольду и Зине, когда уезжал в Ленинград, за несколько дней до того, как его нашли в «Англетере» с петлей на шее.
С Мейерхольдом у Зинаиды общих детей не было. Он ей казался недосягаемой горной вершиной, да и как иначе могло быть? Их разделяет чуть ли не бездна времени, она – его студентка и перед ним преклоняется. Он, вопреки всем и вся, делает из нее актрису, и только благодаря его стараниям она в тридцать лет получила свою первую роль.
Публика терпеливо к ней относилась, хотя и понимала: не тот талант, что у Бабановой, у которой Мейерхольд отнимал главные роли и отдавал их жене. Бабанова, стиснув зубы, терпела. Говорила, что согласна быть и дверной ручкой в театре, где творит Мейерхольд. А критика Райх нещадно долбала, хотя она и набирала от спектакля к спектаклю.
Когда стало известно о смерти Есенина, Райх едва не лишилась рассудка. Кидалась от сына к дочери, судорожно их обнимала, рыдала, кричала: «Ушло наше солнце!» И Мейерхольд, сам тяжело переживавший гибель Есенина, как мог ей помогал. На Ваганьковском кладбище, у гроба поэта, то и дело негромко ей говорил: «Ты же обещала, обещала держаться…»
Когда в том же 39-м Мейерхольда арестовали и пришли в эту квартиру с обыском, рассказывает мне Мария Алексеевна, Райх вела себя возбужденно – возмущалась, делала чекистам резкие замечания, выхватывала у них из рук всякие бумаги, что те находили в столе Мейерхольда. Наверное, она не понимала, что уже ничего невозможно поправить… Верила, что все происходящее – нелепость, недоразумение, которое разрешится само собой…
Мария Алексеевна считает, что Райх что-то знала – и очень важное. И что ее убийство – дело рук НКВД. Но в самом деле, кому было нужно ее убийство? Когда ее нашли, она лежала в луже крови, но была в сознании. Она успела сказать, что убийц никогда прежде не видела. И вошли они, как выяснилось, через балкон и через опечатанные двери кабинета хозяина. Их появление в доме было мгновенным, бесшумным и с той стороны, с какой никаких неприятностей ожидать было невозможно.
Но если иначе взглянуть, зачем НКВД такое грязное дело? С Райх могли поступить точно так же, как с мужем ее: арестовать и в глухом подвале убить. Куда как проще.
Однако есть при этом и странности. Кроме домработницы, давшей первые показания, бесследно исчез и дворник, который видел, как двое незнакомых мужчин выскочили из подъезда и кинулись в черную «эмку». И уж совсем странная вещь открылась в 1955 году: Мария Алексеевна послала запрос в органы внутренних дел с просьбой разрешить ознакомиться с делом об убийстве Райх, а ей ответили, что такое дело даже не было заведено.
Квартира, где Райх жила с Мейерхольдом и где Есенин бывал, пустовала недолго. После ремонта ее разделили надвое, и в однокомнатную вселился личный шофер наркома внутренних дел Лаврентия Берия, а в другую, большую, где совершено было убийство, въехала юная красавица Вардо Максимилишвили, как нетрудно догадаться, имевшая самое непосредственное отношение к тому же ведомству: несмотря на свои 18 лет, Вардо занимала ответственный пост заведующей секретариатом Берии. Говорят, она была самой любимой наложницей любвеобильного наркома чрезвычайно внутренних дел.
Только в 91-м году по приказу Крючкова Вардо из этой квартиры выселили.
Зинаиду Николаевну похоронили на Ваганьковском кладбище. Она лежала в гробу в черном бархатном платье, в котором играла «Даму с камелиями».

Вернисаж на панели

Вот же было замечательное для ваятелей время!
В советскую эпоху не покладая рук они высекали, отливали, лепили не только безвестных тружеников промышленности и сельского хозяйства, но и животных-тружеников: яйценоских кур, рогоносцев-козлов, быков-осеменителей. Бронзовые куры со своими бронзовыми же яйцами навеки запечатлены на станции метро «Площадь революции», рогоносцы – на фонтане ВВЦ, а неисчерпаемые осеменители – на вершине павильона «Животноводство» на той же ВВЦ.
Помнится, стояли мы с товарищем в аккурат под такой скульптурой коня-производителя, великолепно смотревшегося на фоне голубого неба, и, задрав головы, прикидывали – если вот «это самое» внезапно у него оторвется – проломит крышу или не проломит? А если рухнет на землю – рассыплется павильон от сотрясения почвы или же нет? Очень уж реалистично и добросовестно вылеплены гениталии животных. А без них не обойтись: посмотришь – и чего-то как будто не хватает…
Однако более всего повезло лошадям: целый табун, отлитый в бронзе, рассеялся по улицам нашего славного города. Потому что лошадь – друг человека. Почему же он ее, самого близкого друга, оседлал, взнуздал и пришпорил? Дружба дружбой, а место свое знай.
Нашел я заведующего павильоном «Коневодство» Евгения Филатова и спрашиваю: «А как лошади московских памятников выглядят с точки зрения профессионала? Да вот хотя бы возмутитель спокойствия – памятник маршалу Жукову, что у Красной площади?»
Филатов, зоотехник с многолетним стажем, аж взвился: «Руки надо за такую работу пообрывать! Это не лошадь, а полнейшёе безобразие! Не животное, а убогое зрелище!»
Директор музея «Коневодство» Тимирязевской сельскохозяйственной академии Давид Яковлевич Гуревич в Великую Отечественную служил в лазарете кавалерийского корпуса и закончил войну в Берлине. С ним мы и осмотрели московские конные скульптуры. Гуревич разглашает некогда военную тайну:
– У нас в полку было 860 лошадей, и я их всех знал в лицо. Хотя весь полк был на рыжих лошадях.
– А как вам наши московские лошади, отлитые в бронзе? Например, памятник Жукову скульптора Клыкова? И вообще, приходят к вам скульпторы за консультацией во время своей работы?
– Автор этой лошади к нам не приходил и за помощью или советом не обращался. О животном же вот что могу сказать: это никакая лошадь. Это годовик, еще недоразвитая лошадь. Жуков ни за что на такую не сел бы.
Я не спрашиваю директора музея, почему он так думает, поскольку знаю: в 1944 году Гуревич обслуживал конюшню Военного совета 1-го Белорусского фронта и лично знал лошадей маршалов Рокоссовского и Жукова.
– Видите ли, – продолжает директор музея, – Жуков в свое время командовал кавалерийским полком, потом дивизией, сам ездил великолепно и толк в лошадях знал, конечно. А тут он верхом на недоноске каком-то оказался.
– А вот хвост этот злосчастный на памятнике, который по ветру, как знамя, говорят, будто если лошадь так хвост держит, значит, до ветру хочет…
– Да нет, – успокаивает директор, – это бывает и во время езды. И безо всякой нужды.
Оказались мы вскорости у другой конной скульптуры – у памятника Юрию Долгорукому, что на Тверской.
– А вот автор этого памятника – скульптор Орлов, – вспоминает Гуревич, – к нам в музей приходил, когда работал над памятником. Он даже брал скелет лошади к себе в мастерскую. Потом вернул.
– А что вы можете сказать об этой лошади, на которой Долгорукий Москву основал?
– Под Долгоруким – идеальный верховой конь. Только конь современный. Потому что в XII веке таких лошадей не было. У лошадей того времени в холке было 130 см, а у современных – в среднем 160, хотя бывает и 170.
– Да, неказисто смотрелся бы основатель Москвы на низкорослой лошади…
– В том-то и дело. И скульптор правильно сделал, что посадил могучего человека на могучего коня.
– А вообще, Давид Яковлевич, могли бы вы при взгляде на скульптуру определить породу лошади? Это возможно?
– Нет, при взгляде на изваяние породу не определить. А вот тип можно назвать безошибочно. Если, разумеется, скульптор реалистично изобразил животное.
– А тип – это что?
– Все породы мы делим на два типа. Это местные – к ним относятся лесные, степные и горные породы. И заводские – это верховые лошади и упряжные, куда входят рысаки и тяжеловозы. И спутать их в скульптуре невозможно.
А вот и знаменитые московские квадриги – на фронтоне Большого театра и на Триумфальной арке, что на Кутузовском проспекте. Великолепные, лихие четверки! На Большом – работа знаменитого Клодта.
– Превосходные. Упряжные лошади, – с удовлетворением отмечает директор музея, – и квадрига на московском ипподроме тоже хороша. Классика… Идеальные упряжные. Хотя, должен заметить, одновременно и идеализированные типы лошадей. Знаете, как Аполлон – идеальный мужчина, поди найди точно такого…
И уж совсем идеализирована четверка коней на Манежной площади – у фонтана, на водопое. Их мужское достоинство представлено весьма достойно и реалистично, а при взгляде на хвосты и гривы непременно подумаешь, что перманент им делал такой же добросовестный парикмахер. Хотя, говорят, в природе нет-нет да и появится нечто похожее. Во всяком случае, Гуревич показал мне в музее картину прошлого века, на которой изображена лошадь с завитой гривой. Тогда, между прочим, обходились без перманента: заплетали косицы, а когда их распускали, получалась волнистая грива.
На Кутузовском проспекте мы окинули взглядом конную скульптуру фельдмаршала. Представительный памятник.
– А что можно сказать о лошади?
– По типу – несомненно, верховая лошадь. Хорошая работа. Но вообще, вы знаете, в скульптуре точно воспроизводить подлинные пропорции тела лошади нельзя.
Заметив мое недоумение, продолжает:
– Потому что на воздухе, да если еще на высоком постаменте, скульптура совершенно иначе смотрится. Вот почему скульптор в своей работе все промеривает и проверяет множество раз.
Короче, осмотрели мы почти весь московский эскадрон. Именно эскадрон – потому что кони в основном под военными. И вот что при этом подумалось: конечно, главное в памятнике всегда человек. И человек, несомненно, должен быть узнаваем. А лошадь… Она должна ему соответствовать. Как полностью соответствует оригиналу памятник Абсенту – самой знаменитой лошади в СССР, на которой Сергей Филатов в Риме выиграл олимпийское золото. Абсент родился и овеянный славой умер на Луговском заводе. Там и стоит ему памятник в натуральную величину.

Бонзы в бронзе

Юрский период – средний период мезозойской эры. Отдельные виды пресмыкающихся достигли гигантских размеров.
Энциклопедия
В Москве, в самом центре, в двух шагах от Крымского моста и как раз за Домом художника, разбит парк юрского периода. Это «Музеон» – музей под открытым небом, где собраны скульптуры вождей. Памятники, еще недавно царившие на московских улицах и площадях. Память о наших неприкасаемых бонзах, перед которыми мы преклонялись и мимо которых проходили, не замечая их.
Сквозь свинцовые струи осеннего дождя бесстрастно глядят каменные и бронзовые лики великих ушедшего мира. Что это было? «Затерянный мир» Конана Дойла? Нет: мир, созданный нами самими.
Этот парк как бы забытая Богом земля, где собрались еще вчерашние вершители судеб. При виде этих людей в пору их жизни на Мавзолее, толпа, несущая по Красной площади их лики, клокотала в восторге, а сердца этой толпы трепетали от ужаса.
Вот они, эти идолы, стоят холодные, бесстрастные, ослепленные желтыми осенними листьями и собственным нежеланием видеть все, что творится вокруг. Никаких чувств они не вызывают теперь. Даже жалости и сострадания.
Когда воздвигали эти скульптуры, сдергивали пелену покрывала в момент открытия, в громе оркестров сотрясались окрестности. А сюда их везли по-тихому, словно на кладбище нищих покойников.
Вот они и стоят, одинокие, никому не нужные в пустынном парке, как на заброшенном кладбище.
В этой мрачной компании Железный Феликс – фигура одна из самых значительных в силу своих гигантских размеров, хотя в жизни-то он был ничуть не выше своих товарищей, таких же пламенных революционеров. Феликс Эдмундович прожил всего 49 лет, но не зря: вот какой великолепный памятник себе заслужил…
Справка: «Памятник Ф. Э. Дзержинскому сооружен на основании постановления ЦИК СССР от 19 июля 1936 года. Автор памятника – народный художник, военный художник Е. В. Вучетич. Установлен на Лубянской площади 20 декабря 1958 года».
Решением Московского городского совета народных депутатов от 24 октября 1991 года демонтирован и размещен в экспозиции Парка искусств.
Официальная справка: «Имеет историческую и художественную значимость».
Постамент, на котором величаво застыл Феликс Эдмундович, тщательно, со всем возможным старанием очищен от тех надписей, которыми его удостоили тогда, в 91-м, но кое-где все же проглядывают нетленные строки: «Мы победили!!!» «Извини, не уберегли…» И – «Феликс с нами». Это с кем?
Сталин из красного гранита – во весь рост, в широком шаге каменной поступи Командора, с отбитым носом. Однако узнаваем, ошибиться невозможно. Это лицо, хотя и без носа, знают во всем мире, несмотря на то что только на портретах да в кино видели. Фигуру высек в 1938 году скульптор С. Меркуров, а где стояла она – никак не вспомню.
Я. М. Свердлов – простой, значительный. Из бронзы этот бонза. Меньше всех их прожил, всего 34 года. Взгляд устремлен в счастливое будущее всего народа. В опущенной руке – портфельчик. Не в нем ли телеграмма в однофамильный после его смерти город о расстреле царской семьи?
Справка: «В марте 1919 года Президиум Московского совета рабочих и красноармейских депутатов принял решение о переименовании Театральной площади в площадь Свердлова и установке памятника», который и открыли вскорости: 31 октября 1969 года, как раз через полвека. Наверное, все это время скульптор Р. Е. Амбарцумян над ним работал.
А вышло – зря: решением Московского городского совета народных депутатов от 24 декабря 1991 года памятник тоже демонтировали. Спустили с небес на землю – приземлили вот в этом Парке искусств. Приобщили к вечному.
А что за этими двумя – за ним и Сталиным? Как раз за их спиной?
Каменная стена, в которой за решеткой – людские лики. На всех страдание. Случайно в этом Парке так соединилось? Нет, не похоже.
Михаил Иванович Калинин, российский, нет – всесоюзный староста, самый почтенный во всей компании. Наверно, потому и в креслице сидит. Устал терпеть. И ждать. Жену, которую верный друг товарищ Сталин в лагеря сослал. Чело, однако, не печально.
О нем вроде бы даже забыли. Иначе отчего же памятник воздвигли только через тридцать с лишним лет после того, как его уже не стало? А простоял, вернее, просидел Михаил Иванович на Калининском проспекте всего 13 лет. Теперь вот здесь – в тиши, покое.
Официальная справка: «Охраняется государством».
А вот и вождь. Он здесь не один. Его здесь много. «Ленин молодой» – работа А. И. Торопыгина в граните. Сразу видно: сей юноша далеко пойдет. Другой Ильич, «Ленин» – скульптура работы В. Д. Чазова – уже в величии свершенных дел, но в крайне скромненьком пальтишке.
О том, что ценность представляет, не сказано нигде ни слова.
Есть в этом парке и фигуры не столь значительного свойства, однако отягощенные множеством регалий. Среди них Леонид Ильич на первом месте. Красив, как в жизни, – в белом мраморе. Социалистически-реалистично, вдохновенно изваяли его в четыре руки В. Думанян и Ю. Орехов. И снова – Брежнев… И Косыгин… Однако Политбюро в полном составе, увы, здесь не собрать.
Неподалеку – Фрунзе, стратегически схоронившийся в кустах. Вышел из тени на свет «Чекист Е. Адамов» работы Ю. Гришко.
Вообще покой в том парке нашли множество безвестных лиц советского периода. Кто они, откуда – не узнать. Но может быть, не очень это важно?
Но, слава Богу, много и великих. И превосходные работы!
Одинокий Сахаров в густой тени под деревом. В задумчивой рассеянности Лермонтов и Пушкин – светлый лик. Кого здесь не найдешь, кого не встретишь…
А те – пигмейские гиганты, монолиты незыблемые, как нам тогда казалось, – и ветром унесенные. Их словно сдуло с наших площадей и улиц, носивших прежде их имена.

Последняя в жизни подруга

Как попадешь на площадь Никитских ворот, особняк этот, до сих пор и держащийся особнячком, непременно увидишь. Заставит он обратить на себя внимание. Дом 6/2 на углу Спиридоновки и Малой Никитской – шедевр московского модерна, построенный в начале XX века архитектором Ф. О. Шехтелем по заказу промышленника-миллионера С. П. Рябушинского. Сейчас тут музей Горького – ему советское правительство поднесло на блюдечке этот дом, когда писатель вернулся в СССР из-за границы: творите, уважаемый Алексей Максимович, на благо всемирного пролетариата.
Внутри дом довольно нескладен и неуютен. Роскошная лестница «Волна» как бы заполняет все внутреннее пространство, но уже больно хороша: свободна, широка, легка, несмотря на камень тяжелый. Здесь, во втором этаже, – кабинет Горького. Здесь он работал со своей последней любимой женщиной, и здесь он понял, что потерял ее уже навсегда.
Горький умирал долго, мучительно и, конечно же, понимая, что он умирает. Вот снимок, сделанный неизвестным фотографом в Крыму за два месяца до смерти писателя: Алексей Максимович сидит на лавочке, опираясь руками на палку и опустив бессильно голову на руки. В этой позе все – безмерная усталость, мучительное осознание своего одиночества и груз тяжелой болезни, согнувшей вот эти плечи… Снимок подводит жизненную черту человека.
Последние дни жизни Горького окутаны легендами, тайнами, множеством версий – и уж вряд ли теперь удастся когда-нибудь однозначно ответить на множество вопросов, оставшихся после него. И главный – сам ли он умер? Упорна, живуча легенда: Сталин боялся Горького и распорядился послать рыцарей плаща и кинжала, чтобы те поторопили писателя. Может быть, может быть… Да только зачем его торопить, если он прогорал на глазах? Последний год он не выходил из дома без кислородной подушки и, где бы ни был – в машине ли, в поезде, из рук ее не выпускал. Что же, так не терпелось вождю народов, не мог он подождать еще несколько дней?..
Но вот же, выплывают любимые шоколадные конфеты писателя, присланные заботливым вождем? Коробка с ними якобы стояла на тумбочке возле постели умирающего Горького, и тот вроде бы даже угостил ими двоих или троих санитаров. А те через час в муках скончались с симптомами отравления ядом.
И еще выплывает одна фигура – женщина, пришедшая навестить Алексея Максимовича вместе с народным комиссаром НКВД Генрихом Ягодой, первейшим подручным Сталина. Ягода, говорили, заглянул ненадолго и вышел, а женщина та осталась и не выходила минут сорок или около того, а вышла и скорым шагом удалилась вместе с Ягодой и его людьми. А еще через двадцать минут дежурный врач, потрясенный случившимся, объявил, что Алексей Максимович скончался.
Эту женщину в ближайшем окружении Горького знали все. Ее звали Мария Игнатьевна Будберг, в девичестве Закревская. Потом у нее было столько разных фамилий… Горький любил ее. И, судя по всему, до последнего своего вздоха любил.
Откуда возникла она и как сумела – именно сумела – оказаться на видном, хлебном месте подле самого знаменитого и самого влиятельного среди советских писателей? Теперь, конечно, не проследовать за ней по всему ее извилистому и ухабистому жизненному пути, но что-то восстановить можно, поскольку жила она по-своему ярко, бурно и блистала в европейских столицах, пока не осела в Москве в непосредственной близости от Алексея Максимовича, а потом – и уж совсем в интимной близости.
Как ни странно, первые скупые сведения об этой любвеобильной даме выплывают с самых далеких полок архива российской Службы внешней разведки: долгое время считалось, будто Будберг работала одновременно на три разведки – английскую, немецкую и советскую. Потому-то к ней и приглядывались сразу с трех сторон, потому-то и шепоток за нею тащился: «Сведущая и очень опасная женщина…» Она и в самом деле была и той, и другой.
Из оперативной справки СВР: «Мария фон Будберг, она же баронесса Бенкендорф, она же Закревская, она же Унгер-Штернберг, 1892 года рождения, уроженка Полтавы, дочь крупного помещика».
Вообще-то говоря, она могла бы быть еще и графиней, ведь была замужем и за графом Бенкендорфом, придворным Николая. В этот период жизни она частенько выезжала за границу, одно время работала даже в русском посольстве в Берлине, выполняла какую-то секретарскую работу. Английским и немецким языками владела свободно. Но еще в Петербурге она подружилась с дочерью английского посла в России Бьюкенена и с английским дипломатом-разведчиком Локкартом. Поэтому, судя по всему, Мария Игнатьевна не особенно огорчилась, когда узнала, что ее мужа убили в 1918 году не то белые, не то красные: она уже по-свойски себя чувствовала в постели сэра Роберта Брюса Локкарта. Поговаривали, будто тот относился к ней вполне серьезно и предлагал даже руку, сердце и счет в банке. Как бы то ни было, именно из постели англичанина ее вытащили чекисты по подозрению в шпионаже в пользу Англии и упрятали на Лубянку. Джентльмен Локкарт помчался ее выручать, но и сам угодил под арест и лишь через несколько дней был освобожден и выслан из России за организацию «заговора послов» против советского правительства.
Мура, как звали друзья Марию Игнатьевну, с Горьким еще не знакома. Они не встречались. Но с Яковом Петерсом, правой железной рукой Железного Феликса, она уже очень близка. Красавицей она не была, но, видимо, обладала каким-то шармом, раз брала кого хотела и мужчины ей не умели отказывать.
Из оперативной справки СВР: «Осенью 1920 года М. И. Бенкендорф получила разрешение на выезд в Эстонию, где вышла замуж за барона Николая Будберга. Находясь за границей, снова сошлась с Локкартом, была близка с итальянцем Руффино, а в 1935 году с писателем Гербертом Уэллсом».
Ну, с Уэллсом связь была долгой – целых 14 лет. А что же барон, большой любитель развлечений? Вскоре после свадьбы он отправился за океан, в путешествие по Южной Америке. И с тех пор никто не слышал о нем ничего.
Из сообщения агентов ВЧК в Эстонии: «Совершенно секретно. Прибывшая в Таллин Мария Бенкендорф утверждает, что тяжело пострадала от большевиков. Правда, русские круги единогласно заявляют, что она работает в ЧК».
Сомневаться в том не приходилось: Петерс завербовал Муру, заставив ее работать на себя. И лично на себя тоже, конечно. Впрочем, тут ее заставлять навряд ли пришлось. И уговаривать тоже: не тот человек. Мария Игнатьевна всегда с понятием и уважением относилась к мужским потребностям.
Но вот выплывает на свет один любопытнейший документ – письмо Горького Григорию Зиновьеву с такой краткой припиской: «Позвольте еще раз напомнить Вам о Марии Бенкендорф – нельзя ли выпустить ее на поруки мне? К празднику Пасхи? А. П.» И хоть на письме стояло только число без года, въедливые исследователи вычисляют: именно в 1920 году Пасха приходилась на 11 апреля. Значит, в это время Горький и Будберг были уже знакомы. Зиновьев пошел навстречу Горькому, и тот получил Муру в подарок к празднику.
Выясняются и такие подробности. Корней Иванович Чуковский, добрейший человек, откуда-то знавший Муру, рекомендовал ее секретарем издательства «Всемирной литературы», которое затеял Горький. Ну а уж она своего не упустила.
Впрочем, работает она добросовестно. Ведет переписку, готовит выборки из прессы, много печатает на машинке и посильно помогает нестарому еще писателю в отдохновении после совместных трудов. Они едут вместе в Италию, которую Алексей Максимович очень любил, – в Сорренто, живут там долгое время. Горький, хотя и тяжко болен уже, плодотворно работает – она его вдохновляет, он рядом с ней молодеет, полнится силами, пишет рассказы о любви. А вечерами, когда солнце скрывается за горизонтом, подолгу сидят на открытой веранде, и ему так не хочется прощаться с ушедшем днем…
А что же дальше? Дальше – возвращение в Москву, неотвратимое развитие болезни, все учащающееся кровохарканье, развитие астмы. Все это делает его жизнь мучительной. Но и в это время он любит eel В конце концов Горький ни с кем в жизни своей не жил так долго, как с ней. Но она давно уже охладела к нему. И того отнюдь не скрывала.
Она уехала – жила с Уэллсом, – и тот в ней что-то находит неведомое, но отвечает на все письма Горького. А тот шлет одно за другим… И в этих письмах его – и страсть, и надрыв, откуда только берется… Знал, понимал: он потерял последнюю женщину в своей жизни. Потому в тех письмах боль сильнее всего.
В день смерти его она появилась. Вызвал Ягода по приказанию Сталина? Разве скажешь теперь… Она долго, слишком долго для такого его состояния оставалась с ним наедине. А вышла, поспешно уехала – и тут же конец ему…
Почему-то те немногие свидетели, которые при кончине писателя поблизости от него находились и которых давно нет уж в живых, говорили: нет, вовсе не здесь умер Горький. И от того смешения очевидного и общеизвестного с леденящими душу рассказами очевидцев поневоле возникают сомнения в достоверности этих рассказов. Однако же ясно, во всяком случае: Будберг стала последним человеком, который видел живым Горького.
А я знаю человека, который в Москве видел Будберг последним. Это сотрудник Института мировой литературы им. Горького Лия Николаевна Иокоар. Будберг приезжала в Москву на 100-летие со дня рождения писателя. Она превратилась в грузную женщину с отекшими ногами и лицом, выдававшим явное пристрастие к крепким напиткам. Сама ходить она уже не могла, ее поддерживали с обеих сторон.
Этой женщине Горький посвятил самое крупное и самое значительное произведение из всего, что ои написал, – «Жизнь Клима Самгина».