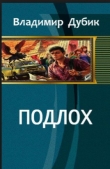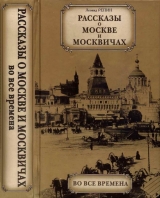
Текст книги "Рассказы о Москве и москвичах во все времена"
Автор книги: Леонид Репин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Огонь его камина

Одиноко сидит он в кресле против камина, закутавшись в полу широкой шинели, и отсветы пламени, превращающего в прах страницы, исписанные мелким почерком, озаряют его лицо. Голова обреченно опущена, и поза его говорит о полной покорности всему, что судьба уготовила. Иного исхода для себя, кроме прощания с жизнью, он не видел и плыл, плыл по течению, даже не считая возможным бороться…
Замечательный памятник Николаю Васильевичу Гоголю поставил скульптор Николай Андреев. Отчаяние творца, совершенно разочарованного в жизни последней своей неудачей, непременно испытаешь, если постоишь возле этого памятника. Жаль только, мало кто видит его.
Стоит он у дома, где умер писатель и где испытал потрясение, осознав свою неудачу после пятилетней работы над вторым томом «Мертвых душ». Но раньше-то, по замыслу скульптора, стоял этот памятник с 1909 по 1951 год на Пречистенском бульваре, уж потом на нынешних задворках оказался. В доме писателя теперь располагается библиотека и две мемориальные комнаты Гоголя – музей не музей. Но хоть напоминание о великом человеке, прожившем здесь последние пять лет своей жизни. Деревья, разросшиеся и давно не ухоженные, скрывают памятник от взглядов тех, кто хотел бы видеть его. А между тем это один из трех памятников, поставленных в Москве на народные деньги: еще Пушкину и Минину с Пожарским.
Сам дом, переживший пожар 1812 года, правда, еще до Гоголя, до того, как жил он здесь, многочисленные переустройства, переходя из рук в руки, дожил наконец до солнечного советского времени, когда его без сомнений и колебаний превратили в коммуналку. Не очень-то почитали тогда Николая Васильевича, и в основном за его религиозность, о которой назойливо напоминалось в нашей школьной программе. Очень осуждали за это Гоголя вожди советской культуры. Однако с ним ничего поделать уже не могли, дом, чтобы и сам гоголевский дух искоренить, заселили строителями светлого будущего. Хотя, само собой, были среди них разные люди. Уж и не знаю, что они все ощущали, существуя в стенах, где умер великий человек и где так страдал…
Хорошо помню этот дом занюханной и перенаселенной коммуналкой. Пестрые занавески в окнах – в каждом разные. Белье, сушившееся во втором этаже над коротенькими, пузатенькими колоннами и во дворе – на веревках, протянутых от дерева к дереву. Старушки на лавочке у подъезда, через который он когда-то ходил… Внутрь я, конечно, тогда не заглядывал: не знал никого, кроме Николая Васильевича, да и робость войти не давала, казалось, если войду, невольно потревожу покой его… До 1969 года бытовала здесь коммуналка.
Однако же стоит, право, вспомнить и прежнюю историю дома, напомнить, как и почему Гоголь здесь оказался.
Сначала в этих стенах обосновался герой войны 1812 года А. Талызин. Понравилось ему это прочное строение с мощными стенами, построенное в конце XVII века или чуть позже. Так и называли его: дом Талызина, даже и при Гоголе еще называли, хотя к тому времени им владел друг писателя граф Александр Петрович Толстой, бывший прежде губернатором Твери, военным губернатором Одессы. Слыл он человеком глубоко верующим, жил как монах в миру, хотя прежде иногда и приемы, и балы устраивал.
Гоголь в последние годы жизни все более стремился к общению с людьми, духовно близкими ему. Толстой как раз и был таким человеком. У того и у другого возникали мысли уйти в монастырь, отрешиться от суетной жизни.
У Николая Васильевича вообще-то была квартира в Москве, в доме М. П. Погодина на Девичьем Поле, неподалеку, но тянуло его только сюда, в эти холодные, немного сыроватые комнаты в первом этаже. Нравилось ему, что у него собственная маленькая гостиная была и еще – спальня-кабинет. Хотя зимой старался не жить здесь: слишком холодно.
Погодинскому дому не повезло. Не так уж много бомб позволили на Москву сбросить во время Великой Отечественной, но одна из них как раз в этот гоголевский дом угодила и памятный узелок срезала.
Что же испытал Гоголь тогда, в ту страшную ночь… Кто скажет теперь, если и при его жизни это было загадкой… Известно, что после поездки в Оптину пустынь стал готовиться к смерти. Ушла из жизни Екатерина Хомякова, сестра близкого его друга Николая Языкова. Смерть эта Гоголя потрясла, он впадает в совершенно подавленное состояние. Пишет письма незнакомым почерком. Рукопись второго тома «Мертвых душ» все же закончил, попытался отдать ее графу Толстому с просьбой передать митрополиту Филарету, чтобы тот уничтожил ненужное, и сам же в «Выбранных местах из переписки с друзьями» говорит, что второй том должен быть сожжен, поскольку получился не таким, как задумывался.
Толстой взять рукопись отказался. Потом ее нашли не в портфеле Гоголя, где лежали все его бумаги, в том числе и завещание, а где-то среди книг… Так что же жег он в ту ночь? Быть может, вовсе не окончание второго тома? Тогда – что? Полная загадка…
Вместе с сотрудницей Библиотеки имени Н. В. Гоголя и смотрителем двух его мемориальных комнат ходим по дому. Вот гостиная с мебелью той эпохи – подлинной, гоголевской не сохранилось. Камин, где он сжег нечто таинственное, – тоже реконструкция, восстановлен по описаниям. Кабинет-спальня, пожалуй, более всего передает дух того времени, но тоже – ничего подлинного. Вообще, подлинных вещей Гоголя очень мало осталось: в Историческом музее есть медальон с прядью его волос, в Калуге якобы его перо – да поди докажи…
В комнату, где остановилось его дыхание, без душевного трепета войти невозможно. Два узковатых окна, желтые, мертвые стены, стеллажи с книгами не оживляют ее. Более нет ничего. И во втором этаже, в покоях графа Толстого, тоже гоголевского следа не найти. Вот и весь дом великого человека.
Во всей России меж тем нет ни одного музея Гоголя.

Погасшей рампы закулисье

Много лет ходил я мимо необыкновенного этого дома – и всякий раз любовался им. Вот и сейчас стою, глаз не могу от него оторвать… А при ходьбе, когда взгляд охватывает его постепенно с разных сторон, он медленно разворачивается, как на сцене при движении круга, и открывается неожиданно новыми гранями. И как это строгая, лишь слегка прифранченная английская готика вписалась в бесшабашный московский облик – разве что творец дома-дворца К. К. Гиппиус, всего за два года построивший его, мог бы этот вопрос прояснить.
Но нет давно Гиппиуса, как нет и хозяина дома Алексея Александровича Бахрушина, человека, для Москвы сделавшего столько, как мало еще кто другой, вероятно. Более двухсот зданий поставил в Москве Бахрушин, многие из них сохранились. Только почти забыли мы человека, который поставил их.
Еще когда строился дом на Зацепском валу, напротив Павелецкого вокзала, а строил его отец Бахрушина, знал Алексей Александрович, что не только жить станет здесь, но и разместит в его стенах свою единственную и неповторимую коллекцию. Вся история русского театра – от первых скоморошьих представлений до блистательной эпохи Анны Павловой и Федора Шаляпина и даже далее, – все страницы сложились в великолепный фолиант музейной экспозиции. Не было и нет во всем мире другого такого яркого театрального музея!
Помню, повели нас, школьников, на экскурсию в этот музей. Году в сорок девятом. Отчаянно идти не хотелось. Двор на двор схлестываться в футбольной потасовке куда интереснее. Хотя театр я тоже любил и почти весь репертуар немногих московских театров первого послевоенного времени пересмотрел. Но музей-то – дело совсем другое. Никак меня не тянуло созерцать пыльную театральную ветхость.
А вошел в дом Бахрушина – и обомлел: роскошная парадная, торжественная тишина, как и подобает храму искусства. Повсюду резной мореный дуб, по потолку в дубовых переплетах – ручная роспись. Стрельчатые двери и окна, в которых цветные витражи выстреливают радужные стрелы света. Волшебный замок!
Своим возвышенным великолепием этот дом завораживал и с первых шагов по нему готовил к встрече с людьми, чьи имена гремели, были у всех на слуху, кричали с афиш. Я уже понимал тогда, едва ступив под своды дома Бахрушина, что встречи, которые он обещал, будут волнующи, но они задели нас всех или почти всех едва ли не до душевного трепета.
Разве иначе могло быть? Когда перед тобой подлинные костюмы Шаляпина, в которых он выходил на сцену, рисунки, сделанные им, – а мы и не подозревали, что любил взять карандаш Федор Иванович… Или – балетные туфли Анны Павловой… Тепло ее ног хранили они… Таинственная, живая сила исходила от этих мертвых, казалось, вещей…
Целую коллекцию балетных туфель собрал Бахрушин, да так, что вся эволюция их прослеживается по стендам музея. Вот туфелька с низким широким каблучком, вот без него уже, но еще мягкая, а вот появилась жесткая прокладка, и в следующем своем превращении на свет явились пуанты такими, какими мы их видим теперь.
Перед коллекцией театральных биноклей, собранных Алексеем Александровичем, мы остановились в полном восторге. До чего же красивы! После войны у некоторых из нас появились трофейные бинокли – полевые в основном, но раз, помню, подержал я в руках и морской. Настоящие цейсовские инструменты, не для забавы, а для войны, открывали нам мир с другой стороны. Невидимое в единый миг становилось явным, стоило поднести бинокль к глазам, или вдруг отодвигалось едва ли не за горизонт, когда глядишь с другой стороны. А эти самые первые зрительские инструменты, изящные, как «мелкоскоп» ювелирных дел мастера, с богатой отделкой, – лишь только представишь, в чьих руках они побывали, так и дух захватывает…
Алексей Бахрушин с юности знал и бесконечно любил театр. Потому-то страсть к собирательству атрибутов театра захватила его. К тому же обладал он воистину научным даром к систематике. Вот почему буквально из ничего возник небывалый музей.
Впрочем, как из ничего? Любил Бахрушин потолкаться на Сухаревке, по антикварным магазинам ходил, да и самотеком шли вещи к нему, владельцы знали: за нужную вещь Алексей Александрович щедро заплатит. Он понимал, конечно, чего стоит его музей: подлинное достояние, сохранившее то, что по логике жизни должно было исчезнуть бесследно. Так ведь и в самом деле могло показаться: кому нужны старинные афиши с именами забытых актеров, пожелтевшие программки отшумевших спектаклей… Вот городские московские головы и воспротивились, когда Бахрушин надумал безвозмездно передать свой необыкновенный музей Москве: не надо такого! В газетах еще и поглумились над самой попыткой благородного дела: «У Бахрушина хранится оторванная пуговица с брюк Мочалова, обгорелая спичка Юрьева да недогрызанное яблоко Шаляпина!»
А у него: личные архивы и рукописи Чехова, Островского и прочая, прочая… А у него – подлинная грамота о присвоении дворянского звания братьям Волковым, основателям русского театра. У него: подлинные эскизы к декорациям первых постановок опер Глинки и снова – прочая, прочая… Редчайшие, неповторимые реликвии русского театра спас Бахрушин для нас.
И все-таки добился своего, убедил, и в 1913 году великий князь Константин Константинович, президент Императорской академии наук, принимает в дар Москве бахрушинский музей, вводит его в состав академии. Хотел Алексей Александрович, чтобы его музей «служил на пользу русскому народу», – и добился того.
Потом грянуло время швондеров. Пришли районные зацепские комиссары, как и полагалось им, во всем кожаном и с бесполым существом такой же наружности, в коем ни по виду, ни по запаху женщину не угадать, – пришли с утруской. Несмотря на то что и Луначарский успел воскликнуть: «Москва обладает лучшим театральным музеем в мире!» – Ильич, когда Луначарский предложил оставшегося в России миллиардера Бахрушина (хотя, конечно же, к тому времени не осталось у него ничего, кроме музея) сделать пожизненным директором созданного им хранилища редкостей, – так вот, несмотря на то что Ильич и спросил, подозрительно сощурив глаза: «А не сбежит ли Бахрушин?» На что Луначарский ответил уверенно: «Да никуда он от своего музея не денется». А швондеры пришли выселять.
Исторический акт, подписанный комиссарами «Замоскворецкой Контрольной комиссии», сохранился, как был: «…Работа музея направлена не к охвату рабочих организаций!» И далее: «Директор музея А. Бахрушин проживает в своем особняке… Его политическая физиономия как бывшего фабриканта не требует характеристик».
И швондеры вломились с бульдозером. Тогда, отхватив часть надворных построек усадьбы и кусок великолепного сада, потом, уже в шестидесятых годах, Москворецкий райисполком удумал вообще снести неповторимый сей дом, «как не отвечающий эстетике советской архитектуры».
Уже в наше время выстроили многоэтажный жилой дом на территории сада Бахрушина, уничтожив о нем и воспоминание… Ни следа теперь не осталось от сада.
Однако недавно специальным решением правительства Москвы Бахрушенский музей признан музеем мирового уровня, наравне с Третьяковкой и Эрмитажем, и официально назван «Особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации».
Швондеры как будто утихомирились…

«А мы вашу даму…»

Это кто сказал, что русский темперамент поспокойнее итальянского да поосмотрительней африканского? Это бабушка надвое сказала! Так что – не надо. Никто, пожалуй, в играх на зеленом сукне столь небрежно не выигрывал состояния и так лихо тут же не просаживал, как наши игроки. Неудержимым игроком слыл Федор Михайлович, Александр Сергеевич страсть как любил перекинуться в картишки, Михаил Юрьевич сражался за карточным столом, как в бою с абреками. А Пржевальский, общипав прижимистых иркутских купцов, так и вовсе выиграл целое состояние и все деньги пустил на свою первую экспедицию. Играл он с одной мыслью об этом и бросил сразу и навсегда. Все умели проигрывать. Держались с достоинством и темперамент свой в кулаке зажимали. Хотя были, конечно, случаи, когда и пистолет в собственной руке ставил точку в игре при ставке, выше которой быть ничего не может…
Да, играли – проматывали, свободу обретали, в рабстве оказывались. Сейчас-то не так, наверное? А кто его знает… Зашел я недавно в одно из крупнейших в Москве казино, просто так, поглядеть что к чему, а вовсе не соблазнившись рекламным призывом: «Все проигравшие угощаются ужином за счет заведения и бесплатно домой отправляются». На ужин я не рассчитывал, поскольку и играть-то не собирался. Познакомился с очаровательной девушкой Катериной, старшим менеджером казино, и первым делом спросил: «Какой самый крупный проигрыш приходилось вам видеть?» – «Около сорока тысяч долларов». – «И?..» – «Побледнел, встал и ушел». – «А выигрыш?» – «Тридцать с лишним тысяч за ночь». – «Ну и…» – «Вскочил на стол и выкаблучивать начал. Мы его за это оштрафовали как следует».
Так что и сейчас играют по-крупному. Хотя, надо признать, все же не так, как прежде. В царствование просвещенной императрицы Екатерины II играли везде и все с таким размахом, как ни до, ни после. Даже при дворе резались с упоением, несмотря на строжайший запрет. Время от времени в императрице просыпалась строжайшая бдительность, и однажды, вспылив, в гневе она повелела: «Коллежских асессоров: Иевлева и Малимонова, секунд-майора Роштейна, подпоручика Волжина и секретаря Попова за нечистую игру сослать в уездные города Вологодской и Вятской губерний под присмотр городничих и внеся при том имена их в публичные ведомости, дабы всяк от обмана их остерегался».
Все наигранное у картежников отобрали – векселя, закладные, даже ломбардные билеты, что на кон ставились, на сумму громадную – в 159 000 рублей у одного только Волжина. В то же самое время князю Куракину, коему было поручено неусыпное бдение за тем, чтобы картежные безобразия не творились открыто, доносят: «У нас сильный идет о картежных академиках перебор. Ежедневно привозят их к Измайлову: действие сие в моих глазах… Есть и дамы…»
Да куда уж там! Пошло-покатилось! Даже мода сложилась такая: в каждом барском доме, будь то Петербург или Москва, «кипел банк», как писал один современник. Деньги, когда выходили все, заменялись крестьянскими душами.
Сотнями и даже тысячами на кон их ставили, и люди, ложившиеся спать в одном владении, просыпались уже в другом. Ведь и в ломбард живые души закладывались… Сколько поломанных судеб, трагедий…
Москва меж тем нисколько тогдашней столице не уступала в своем увлечении, а в размахе даже превосходила Петербург – все-таки от высочайшего ока подальше. Любители перекинуться в картишки попроще колготились у Ильинских ворот, прямо в подворотнях, или в затрапезных трактирах по темным углам, в ночлежках. Ну а люди благородного звания по своим домам играли, конечно. Так оно надежней, спокойней – никто исподлобья не глянет. Самым злачным местом домашней игры, отчего-то сложилось так, считался Арбат.
Отлюбив в своей жизни, насколько хватило сил и времени, ушла на вечный покой великая императрица, а запрет на азартные игры в наследство оставила. И вскорости бесшабашное увлечение это достигло таких размеров, что Павел не только в строжайшей форме метать банк запретил, а вообще и всякие ночные собрания по всей России. Вот до чего дело дошло! Московский обер-полицмейстер того времени Эртель самолично не гнушался заглянуть в вызывающий подозрение дом и, ежели находились провинные, сам же и призывал их к ответу.
Но азарт не взнуздать, нет. Вкусившие сей трепетный восторг становились его рабами. Вот тогда при высшем свете Москвы и Петербурга появились люди, кои и близко ранее к богатым домам не подступали: менялы. Являлись с корзинками да лотками со всевозможными красивыми безделушками и выменивали их тут же на золото и каменья у тех, кому подфартило. Быстро обогащались эти менялы, на своих каретах уже разъезжали за данью.
Да, было время – ушло. А страсть к игре, азартный характер остались, конечно. Куда им деваться? Такова уж наша натура.
В послевоенной Москве, помню, считалось неприличным в карты играть. В светлом будущем не место тем, кто способен предаваться низким страстям. Однако в «дурака» все же играли, это потом уж и «кинг» появился, и «преф», и «бура». А мы вечерами в подъезде в «очко» на щелбаны играли. Иной раз так по лбу набьют, что утром в синяках просыпаешься. В общем, с подобными развлечениями при суровом отце народов опасно было связываться: даже закон, запрещающий азартные игры, существовал. Знаю семью, где повязали и услали бог знает куда кормильца за то, что поигрывал. В общем, со времен Екатерины мало что в этом деле у нас изменилось.
Да что поделаешь… Азартный игрок подобен влюбленному по уши: ничего не видит, не слышит, кроме предмета своего вожделения.

Стонало поле в крике боли…

Жизнь всякого города можно сравнить с жизнью человека. Такие же воспарения, взлеты, такие же провалы, падения. Только масштабы, конечно, другие. Но далеко не всякий город пережил за свои века столько, сколько Москва: неслыханные пожары, опустошительные и разорительные войны, тропические по силе своей ураганы и даже землетрясения. Но более всего и страшнее всего сказались для Москвы не те стихии, а то, что даже и в изощренном уме не выдумать было, что и вообразить никто бы не смог.
18 мая 1896 года в Москве на необъятном Ходынском поле намечалось провести грандиозные народные гулянья в честь коронации Николая И. Поле застроили павильонами для раздачи подарков всем, кто руку протянет, для бесплатного угощения вином и пивом – пей, не хочу! А еще обещали симпатичненькие эмалированные кружки с царским орлом, кои накануне выставили в витринах многих московских магазинов, чтобы народ заранее мог их увидеть.
Пестрые будочки, числом под сто пятьдесят, с подарками для верноподданных соседствовали с многочисленными эстрадами для песенников, хоров и оркестров, повсюду возвышались столбы, украшенные яркими лентами, а наверху столбов и призы для самых ловких приготовили, как издавна водится: сапоги, самовары и прочие полезные и нужные вещи. Неподалеку от ипподрома поставили несколько каруселей и воздвигли огромный дощатый театр Михаила Лентовского – того самого, что владел в «Эрмитаже» театром.
Все готово к великому празднику. Дождя только бы не было. Открыть гулянья собирались 18-го в десять часов, но народ накануне вечером стал прибывать: верно смекнул, что местечко надо поближе к подаркам занять, не то с пустыми руками останешься. Вот и стали люди собираться по краям и дну гигантского оврага, начинавшегося прямо от каменного царского павильона и тянувшегося по направлению к Ваганьковскому кладбищу. Пришли с семьями, с детьми, набрав всякой снеди – закуски и выпивки, чтобы ночь скоротать; грелись возле костров – настроение лучше и не бывает. Потом выяснилось: всего на Ходынку прибыло с полмиллиона человек – по тем временам цифра громадная.
На торжества по случаю коронации в Москву нагрянула и тьма корреспондентов заграничных газет, понаехало и с периферии много своих, но Гиляровский, предусмотрительно обошедший Ходынку и на ночь на ней оставшийся, был единственным из всех журналистов, оказавшийся в самом пекле трагедии.
Но нет, не усиделся народ до объявленного начала праздника. Начали потихоньку придвигаться к будкам с подарками. Все знали доподлинно, что будет в кульке помимо вожделенной памятной кружки: сайка, пряник и кусок колбасы. Коли задаром – ни в жисть вредным не будет!
Затемно еще несметная толпа начала выплескиваться из оврага, многочисленных промоин и со всего поля поближе к закрытым будкам. В нетерпении ругались, толкались, оттаскивали самых настырных.
Было жарко и душно. Вот в этот самый момент, а лучше бы ранее надо вмешаться, остановить и образумить народ. Еще не поздно…
Вдруг загудела толпа и застонало все поле. Со всех сторон понеслись визг, вопли, стоны, крики боли, отчаяния… Народ стал срываться с края оврага, а накатывавшаяся волна новых людей давила их и подпирала к вертикальной стене обрыва. Здесь никто и пальцем не мог шевельнуть. Сплошная масса неимоверно сжатых людей, которые и ничего не могли предпринять для своего спасения.
Многие пытались вытолкнуть наверх детей, и те ползли по головам, но тут же проваливались. Рядом с Гиляровским стоял зажатый телами старик – мертвый, он колыхался в беспорядочном движении вместе с толпой. Его раскрытые глаза Гиляровский на всю жизнь запомнил.
Только такой могучий человек, умевший кочергу узлом завязать, нашел в себе силы вырваться из смертельной хватки толпы. Но и он, оказавшись на свободе, рухнул наземь и лишился сознания.
Пришел в себя, когда дохнул свежий утренний ветерок. Сел и принялся есть траву – так мучила жажда. Первое, что он сделал, – возблагодарил отца, подарившего ему табакерку, которую, как показалось, позабыл, заглянув на бега. От зазвавшей его компании, расположившейся на самом дне оврага на Ходынке, решил вернуться на ипподром, лишь стопочку опрокинул с ними. Табакерка была безмерно ему дорога. Из этой компании никого в живых не осталось – всех затоптали.
Бог знает, сколько народу перетоптали к шести утра, но тут понеслись крики: «Дают! Дают!» – и в новом напоре обезумевших людей сгинули многие. Горстка казаков, слишком поздно пытавшаяся вмешаться, повернуть напиравших людей, сама едва не оказалась затоптанной, даром что на лошадях врезались в толпу.
У Тверской заставы перед замеревшими от ужаса людьми уже ехали возы с Ходынки, груженные трупами. Вид их был страшен: оскальпированные головы, размозженные лица… говорили, человек двести погибло. Да уж какое там…
Только по официальным сводкам, раздавили 1389 человек и около полутора тысяч получили увечья. А сколько было еще и таких, кто умирал, добравшись до дома, больницы… В московских окрестностях потом находили погибших, сумевших избежать мясорубки, но не нашедших сил вернуться домой. Ведь из всех окрестных городов в Москву собрались люди. Манили неотвратимо этот чертов пряник с колбасой и кружка…
Ровно через сто лет после небывалой трагедии иду по тем московским местам – там, где было некогда Ходынское поле. Кварталы жилых домов, стадион Юных пионеров, Беговая улица, Центральный аэровокзал, Живописная улица… Летят машины, бренчит трамвай по Ленинградке – это самый край был Ходынки. Ничто не напоминает о той невероятной трагедии – ни доски памятной, ни знака какого-нибудь… Стерли все поскорее, чтобы и от самого позора ничего не осталось. От того гибельного оврага тоже ничего не осталось – давным-давно засыпали, еще при царе. И идет теперь жизнь поверху над полем, где столько жизней оборвалось чудовищным образом…
Уже и мое поколение о катастрофе на Ходынке забыло. В школе на уроках истории о ней не вспоминали, на студенческих семинарах, где мы вдумчиво изучали историю партии, тоже, хотя было бы очень удобно лишний раз заклеймить. Вообще, тогда, да и теперь – всегда считалось, что исключительно власти виноваты в той страшной драме. И то правда, конечно. Но сам-то народ! Он-то – что?! Из-за чего давился? Из-за чего унизился так? Столь страшно, дико, смертельно! Уж и не знаю, было ли что-либо подобное во всей истории человечества, когда обезумевший от внезапно охватившей его эпидемии жадности народ сам себя ногами давил…
Дармовщина сгубила. Халява, как теперь говорят. Недавно на одном приеме видел: едва дверь в зал с накрытым столом приоткрыли, народ, кстати сказать вовсе не изголодавшийся, хлынул к закускам с выпивкой. А передние застряли в дверях. Так ими как пробкой из бутылки с шампанским выстрелили. А иностранцы – хозяева хлебосольные, у стола гостей поджидающие, наблюдали за происходящим. Один из них развел руками и снисходительно бросил: «Рашен…» И так мне стало обидно!..
Как-то один мой знакомый, очень хороший человек, знаток старой Москвы, полковник Владимир Сергеевич Синяков, поразил меня, достав из недр своего стола ту самую кружку. Подержал ее и подумал: в чьих же руках она побывала тогда на Ходынке… Одному Богу известно.