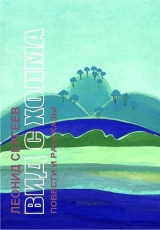
Текст книги "Вид с холма (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Пузан
Соседский пес бассет Пузан – моя постоянная головная боль. По происхождению он аристократ и внешне вполне интеллигентен, импозантен, но ведет себя как подзаборная дворняга. Чего только этот шкет не вытворяет! Его хозяева рано уезжают на работу; выведут Пузана на десять минут во двор, оставят ему сухой корм в миске и только их и видели. А пес весь день сидит в запертой квартире, как арестант, и от тоски лает на весь дом. Лает басом, гулко – кажется бьет колокол. Немного успокоившись, усаживается на балконе и сквозь решетку, насупившись, придирчиво осматривает двор; если кто не понравится, гавкает. А не нравятся ему многие, и больше всех – ребята на велосипедах и роликовых коньках – он считает, что все должны ходить нормально, а эти балуются, трещат на разных колесах и подшипниках. Особенно его раздражают мотоциклисты – тех он вообще готов покусать.
Не жалует Пузан и дворников с их метлами, ведрами, тележками. И портят ему кровь воробьи и голуби, и, само собой, кошки – всю эту живность он неистово облаивает и ближе, чем на десяток метров к дому не подпускает. Ну а увидев знакомых кобелей, Пузан просто приходит в ярость: скалится, рычит, подпрыгивает на месте – всем своим видом показывает, что сейчас сиганет с балкона и разорвет в клочья. Другое дело – сучки. Заметив собаку-девицу, Пузан преображается: его мордаху озаряет улыбка, он возбужденно топчется на месте – почти танцует, ласково поскуливает – почти поет. Со стороны подумаешь – он самый галантный парень в округе. Местные сучки прекрасно знают, каков он на самом деле, и на его потуги не обращают ни малейшего внимания. Но приблудные… те, дурехи, подойдут к балкону, разинут пасть и пялятся на моего лопоухого соседа, внимают его «песенкам».
Пузан коротконогий, вытянутый как кабачок, с длинными висячими ушами; у него белые лапы, живот и грудь; на спине коричневая полоса, словно накидка, а на серьезной физиономии под глазами набрякшие мешки. Как все толстяки, Пузан выглядит неуклюжим; на самом деле, если надо – скачет хоть куда!
Уходя на работу хозяева Пузана, чтобы он не залеживался и делал разминки, оставляют открытым балкон; чтобы не скучал, включают ему радио, а чтобы не пугался, когда стемнеет, в прихожей зажигают свет. Но Пузан все равно тяжело переносит одиночество. «Наведет порядок» во дворе, послушает радио и мучается от безделья, то и дело с сиротским видом заглядывает в мою комнату (наши балконы смежные).
– Ну что, разбойник, поднял весь дом чуть свет, – брошу я.
И Пузан немного сконфузится, зашмыгает носом, потом, довольный, что я заговорил с ним, повертится на месте, заберется лапами на разделительную перегородку и начнет стонать, канючить – прямо говорит – хочу к тебе.
– Ладно, – машу рукой, – залезай. Но уговор такой – ко мне не приставай. Учти, у меня нет времени тебя развлекать. Я человек занятой, мне картинки надо рисовать, зарабатывать на жизнь. Я ведь не твои хозяева-торгаши, у которых денег куры не клюют.
Я помогаю Пузану нескладехе перелезть ко мне – в благодарность он лижет мне руки, трется башкой о брюки, – но я продолжаю объяснять ему что к чему.
– Ты же прекрасно знаешь, я теперь живу один и помощи мне ждать не от кого. Жена меня бросила. Ей, видишь ли, надоел я бессребреник… Где ей понять меня… Так что, теперь я, можно сказать, покинутый…
Пузан сочувственно выслушивает меня и бодается – брось, мол, все перемелется.
– Ну иди, ложись у шкафа, смотри телевизор, – я включаю Пузану мультфильмы, сам возвращаюсь к столу.
Пузан минут пять без особого интереса смотрит на экран, потом подходит, теребит меня лапой, корчит гримасы, закатывает глаза – это означает «давай повозимся» – поборемся или побегаем, или потянем тряпку, что ты, в самом деле, уткнулся в свои бумажки!
Я немного почешу его за ушами и хмурюсь.
– Слушай, Пузан, я же тебе сказал, у меня работа. И еще надо в магазин сходить, купить еду, приготовить. Так что, дел по горло. А тебе лишь бы валять дурака. Лучше почитай книжки. Ты все же личность, а не пустоголовый оболтус!
Я раскладываю на полу книги с цветными иллюстрациями. Пузан ложится, внимательно рассматривает страницы, – делает вид, что читает – на его лбу соберутся складки, – время от времени он многозначительно причмокивает и, как бы размышляя, тянет:
– Да-а!
Корчит из себя философа. Если в этот момент в коридоре зазвонит телефон, Пузан вскакивает и, опережая меня, подбегает к аппарату, носом сбрасывает трубку и сипло тявкает.
Так проходит два-три часа, затем я собираюсь в магазин, а Пузана зову на балкон.
– Все, пообщались, скрасили друг другу одиночество, и хватит, полезай к себе.
Но пес посмотрит на меня таким страдальческим взглядом, что мне ничего не остается, как выдавить:
– Ну так и быть, тащи ошейник с поводком.
На радостях Пузан почти самостоятельно преодолевает разделительную перегородку и в своей комнате, сшибая стулья несется к прихожей. Я слышу, как он подпрыгивает, шлепается, зло урчит от того, что не может достать свои причиндалы. Наконец, раздается грохот – явно рухнула вешалка – и в проеме балконной двери появляется запыхавшийся Пузан с ошейником и поводком в зубах, при этом он еще умудряется изобразить победоносную улыбку.
На улице Пузан ликует от счастья: высунув язык, безудержно вертится из стороны в сторону, отчаянно виляет хвостом; точно узник, внезапно получивший свободу, радуется абсолютно любой погоде, и уже не бурчит на велосипедистов, а ко всем прохожим просто-напросто лезет целоваться. Особенно к девушкам.
На «ничейной территории» он великодушно позволяет разгуливать голубям и кошкам; при встрече с соперниками-кобелями только гордо отворачивается, а сучкам выказывает безмерную любовь, при этом бахвалится мускулатурой, выпячивает грудь – паясничает, одним словом. Что меня удивляет – Пузан издали безошибочно определяет пол собаки – по походке и «выражению лица». Я пока не подойду и не загляну под живот, не установлю, а он определяет без промаха.
На улице Пузан не просто чересчур общителен, его охватывает чувство всеобщего братства. Заметив, что у школы ребята занимаются физкультурой, рвется к ним, умоляет меня спустить его с поводка. Я не выдерживаю: «Ну что, – думаю, – он целыми днями сидит в четырех стенах. Ведь он молодой и ему побегать хочется».
– Иди, дай кружок с ребятами, но тут же назад, ко мне, – я хлопаю Пузана по загривку и отстегиваю поводок.
Надо отдать должное моему дружку – он не злоупотребляет доверием: пробежится с ребятами вокруг школы, расцелуется с девчонками и дует ко мне – только уши хлопают по лопаткам. Случается, подбежит ко мне, в глазах – тревога, паника – оказывается, к нему прицепилась колючка, – тут же заваливается на бок и, брезгливо ощерившись, начинает выкусывать колючку, при этом визжит, словно в него вцепилась змея. Пузан не боится даже грохочущих грузовиков, но вот колючки, липкие почки, хвоинки в него вселяют немалый страх. Такая у моего дружка повышенная чувствительность. Что и говорить, он парень нервный, впечатлительный, эмоциональный. Потому и одиночество переживает крайне тяжело; порой даже озлобляется, а ведь он, в сущности, дружелюбный и ласковый пес.
Кстати я заметил: мой характер тоже стал портиться. Всего два месяца живу один, а меня уже раздражает богатство соседей. Раньше и не замечал их, а теперь мне прямо действуют на нервы их хрусталь и ковры, и что соседка все что-то трет и пылесосит, а ее муженек вылизывает свою «Волгу». Представляю, каково Пузану среди этой сверкающей роскоши.
У магазина я даю Пузану наказ: сидеть смирно, ни на что не отвлекаться. Он исполнительный: пока делаю покупки, послушно ждет меня, вглядывается в полуоткрытую дверь, и ни к кому не подбегает знакомиться, даже к красивым собакам-девицам, правда, провожает их взглядом. Я выйду из магазина, Пузан сразу хватает ручки сумки – дай, мол, понесу. Если сумка не тяжелая, даю, и Пузан, задрав башку, с невероятным старанием и важностью волочит сумку по земле.
Мы возвращаемся домой, я готовлю обед, Пузан крутится рядом – вроде, помогает. И дегустирует все подряд: сырую картошку, морковь – хрустает за обе щеки, как козел. Понятно, ему надоели всякие сухие заграничные корма, которыми его пичкают.
Потом мы едим суп или кашу с тушенкой – смотря что я сварю. Слопав свою порцию, Пузан раздуется – из кабачка превратится в тыкву; пыхтя и переваливаясь семенит в комнату, запрыгивает на тахту и вытирает морду о покрывало: кувыркается, закатывает глаза, хрипит. Этот впечатляющий ритуал он проделывает самым серьезнейшим образом; совершенно не терпит, если на морде осталась хоть крошка пищи. Опять-таки из-за повышенной чувствительности, а вовсе не потому, что такой уж аккуратист. Дома за подобные трюки ему достается от хозяев – я не раз слышал суровые окрики хозяйки, шлепки и визг Пузана, – ну а у меня-то все можно. К тому же я специально для Пузана на тахту заранее стелю клеенку, и никак в толк не возьму, почему этого не делают его хозяева, почему не уважают его природные наклонности, ведь он, по моим понятиям, является полноправным членом семьи.
Пузан вытирается до тех пор, пока сам себя не укачивает и не начинает зевать, тогда призывным взглядом просит почесать ему живот. Что мне стоит сделать приятное толстяку?! Опять же, уснет – даст мне возможность спокойно поработать. Я чешу ему пузо и «диванный атлет» почти засыпает, но только почти. Стоит мне привстать, как он встрепенется, вцепится лапами в мою руку и просто требует (на правах друга), чтобы я продолжал чесать. Он даже хмурится и недовольно сопит – всячески показывает, что я отношусь к чесанию безответственно, и только и думаю, как бы от него, Пузана, отделаться. И все же, в конце концов он засыпает, а я сажусь работать.
Спустя час-полтора Пузан просыпается, потягивается, подходит ко мне засвидетельствовать дружеское расположение и напомнить, что он ведет себя вполне прилично, совершенно не мешает мне и в некотором смысле своим ненавязчивым присутствием способствует моему рабочему настрою. Это в самом деле так. Еще недолго, пока Пузан окончательно не очухается от сна, мне удается плодотворно поработать, ну а потом он настырно тычется в мои колени – зовет играть. Я от него отмахиваюсь, ворчу, покрикиваю:
– Отстань! Надо доделать картинку!
Пузан тяжело вздыхает, обиженный отходит к шкафу, ложится и смотрит на меня мученическим взглядом.
Закончив рисовать, я откидываюсь на стуле. Пузан срывается с места, прыгает на меня и целует в лицо – ну, теперь-то мы поиграем! – прямо говорит и растягивает пасть.
Наши с Пузаном игры сводятся к противоборству: будь то перетягивание тряпки, бег наперегонки до кухни и обратно, или пугание друг друга рыком – все это заканчивается одним и тем же – борьбой, кто кого положит на лопатки. Конечно, мы боремся вполсилы. Наша борьба скорее похожа на дружеские объятия, но эти объятия бывают крепкими. В борьбе Пузан неутомим, но никогда не теряет голову и сильно меня не кусает, как бы я его ни прижал.
В разгар наших игр Пузан вдруг настораживается, прислушивается – а слух у него отменный – и заслышав отпирающийся замок в своей квартире, сникает, пригибается и спешит на балкон.
– Не забудь ошейник! – я торопливо сую Пузану ошейник с поводком, подсаживаю его на разделительную перегородку и он встречает хозяев как ни в чем не бывало.
Но радостно поприветствовав хозяев, Пузан тут же возвращается к балкону и некоторое время его взгляд мечется между своей квартирой и моим балконом, на его морде растерянная гримаса – какую из двух радостей выбрать? Но долг перед хозяевами побеждает: он посылает в мою сторону виноватую улыбку и подбегает к хозяину. Тот отчитывает его за вешалку, называет «негодяем», стегает поводком. Затем, чертыхаясь, прикрепляет вешалку и зло кричит:
– Ко мне! – и ведет «негодяя» во двор.
Хозяйка долго охает и ахает, ругает Пузана на чем свет стоит:
– Опять набедокурил, паршивец! Наводишь, наводишь чистоту, и все насмарку! Не собака, а не знаю что!..
Возвращаются хозяин с Пузаном – больше десяти минут они не гуляют – я слышу, как в миску сыпется сухой корм. Еще через десять минут раздается грозная команда:
– На место!
И я догадываюсь: теперь Пузан весь вечер пролежит у входной двери.
Хозяева Пузана мне постоянно жалуются на него: то объел комнатные цветы, то порвал обои и прогрыз тапочки, то с грязными лапами забрался на тахту…
– …Место свое знает плохо, команды выполняет нехотя, – ворчит хозяин. – И злопамятный, чертенок. Недавно его отлупил, так он в отместку, сделал лужу на ковре.
– …Он грязнуля, каких поискать, – вторит ему хозяйка. – Не может даже аккуратно поесть. Вокруг миски всегда крошки – прям устроил свинарник. Он самый невоспитанный пес на свете.
– Не преувеличивайте, – говорю я. – По-моему, он неплохой парень. И главное, добросовестно охраняет вашу квартиру.
– Только поэтому и держим, – бурчат хозяева.
«Недалекие люди, – думаю я. – Они не стоят преданности Пузана, не достойны его любви». Кстати, хозяева зовут его Рэм, а я – Пузан. Моя кличка ему нравится больше, вне всякого сомнения.
Вид с холма
Всю жизнь я ходил по земле, но посматривал на небо. Так получилось, что мое жилье всегда соседствовало с кладбищами и волей-неволей я никогда не забывал о существовании потустороннего мира.
До войны мы жили в Москве на мощеной пыльной улице около церкви. Наш дом примыкал к небольшому кладбищу за церковью – из окна виднелись черные витиеватые изгороди, кресты. В будние дни по кладбищу бродили разные любопытные – рассматривали фотографии усопших, читали посвящения, качали головами, вздыхали, но, по-моему, ничего близко к сердцу не принимали – я не раз наблюдал, как такие праздношатающиеся, отходя от церкви, затягивали песню.
По воскресеньям кладбище заполняли родственники умерших; они подправляли могилы, ставили банки с цветами и подолгу сидели на лавках, прикладывая платки к глазам. Утром на кладбище вовсю горланили птицы, а вечером слышался стук палки ночного сторожа и среди надгробий прыгало светлое пятнышко от его фонаря. Случалось, сторож будил какого-нибудь полуночника, отсыпавшегося на могиле, и тогда слышалась долгая перебранка.
Мальчишкой я часто ходил с бабушкой в церковь. Особого впечатления церковь на меня не производила: я смотрел на зеленоглазых святых в позолоченных рамах, слушал хоровое пение, а сам думал, когда же наконец начнем с бабушкой зажигать свечи и она даст мне вкусную просвирку. И церковные праздники я любил не за духовность, а за чисто земные отдельности: Вербное воскресенье – за то, что дарили вербу, Прощенное воскресенье – за то, что мне прощали все проступки, Пасху – за раскрашенные яйца и сладкий кулич. А главное, я любил церковные праздники, потому что их было много и в эти дни меня не заставляли работать по дому.
В комнате у бабушки висела икона с лампадкой. Перед сном бабушка подолгу молилась и просила Бога о спокойствии для умерших. В основном для дедушки; чтобы там, на небе, у него общество было интересным, чтобы он почаще виделся с родственниками… Еще бабушка настоятельно просила Бога присматривать за нравственностью дедушки. Мне думается, об этом бабушка просила потому, что при жизни ее супруг был большой любитель поговорить о грехах своей молодости. Наверное, бабушка боялась, что и в загробном мире дедушка не оставил своих увлечений и Бог отправит его в ад и тогда они с бабушкой не смогут встретиться. Каждый раз, когда я слышал бабушкины молитвы, потусторонний мир представлялся мне чем-то вроде нашей улицы, где множество лотков с бесплатными угощениями, и еще полно цветущих садов и играет музыка, где не нужно думать ни о еде, ни о работе. Короче, мне казалось, на том свете совсем не хуже, чем на земле, а кое в чем даже лучше.
Что мне не нравилось в бабушкиных молитвах, так это ее туманные просьбы к Богу. Они никак не вязались с моим представлением о Всевышнем. Я рассуждал так: раз он может все, а это мне постоянно внушала бабушка, – значит, от него и надо требовать конкретных вещей. Я начал с малого. Как-то шел по берегу Москва-реки и рассматривал следы птиц на глине: разные спиральки, галочки и лесенки. «Эх, – подумал, – найти бы сейчас несколько копеек, купил бы мороженое». И только об этом подумал, смотрю – передо мной лежат монеты. На следующий день мои желания усложнились: мне надоели осенние дожди – и я попросил Бога сделать зиму. К вечеру ударил морозец, грязь на дороге закостенела и в воздухе закружили снежинки.
После такого явного проявления власти Создателя я пришел к выводу, что он готов выполнить все наши просьбы, просто не всегда может их разгадать. Чтобы он не тратил время на разгадки, я решил просто писать свои желания на бумаге. Помнится, тогда мне очень хотелось заиметь щенка. Я написал Богу записку и прикрепил ее на заборе у дома. Утром чуть свет подбежал к ограде и не поверил своим глазам – около забора сидел щенок. Придя домой, я составил внушительный список необходимых мне вещей. Целую неделю записка висела на заборе, но Всемогущий почему-то не расщедрился. Я нешуточно разозлился на Бога и несколько вечеров отчаянно доказывал бабушке его бессердечие.
Позднее я вообще засомневался в его существовании. Бабушка всегда говорила: «Что отдашь, то и получишь, сколько сделал плохого, все к тебе вернется». А я за свою жизнь столько знал подлецов, которые и жили припеваючи, и умерли купаясь в счастье, и, как мне кажется, на небесах не жарятся на сковороде. Уже тогда мне казалось, что у религии есть изъян – она обещает вознаграждение на том свете, а ведь хочется и на этом получше пожить. К тому же, верующие стараются не грешить из-за боязни возмездия, а мне хотелось, чтобы в них говорила совесть – самый беспощадный судья внутри каждого из нас.
С довоенного времени ведут отсчет и мои собственные кладбища – тогда я начал хоронить околевших жуков, мышей и птиц. Не помню, с чего началось; кажется, меня надоумила мать – она была большой гуманисткой и хотела сделать мое черствое сердце немного нежней. Она своего добилась, но не учла одного обстоятельства – моей склонности к крайностям – я стал сентиментальным, как кисейная барышня. Чтобы меня приободрить, бабушка говорила, что есть другая жизнь – на небе и там всем воздается, что они недополучили в земной жизни. Это, конечно, несколько приободряло, но и вселяло смуту: я никак не мог понять, почему так нелепо устроен мир? Не проще ли Богу, если он всесилен, всех сделать бессмертными или по крайней мере так, чтобы каждый жил сколько хочет, пока не надоест.
В начале войны нас эвакуировали в Казань. Мы жили на окраине в общежитии около кладбища. Через кладбище я с поселковыми мальчишками ходил на речку Казанку удить рыбу и собирать моллюсков, из которых матери варили похлебку. Перед входом на кладбище калеки нищие просили подаяние. Многие говорили, что одни из нищих «беспробудные» пьяницы, а другие – «скрытые» миллионеры, – в это второе нам, мальчишкам, естественно верилось больше. За входной аркой стояла церквушка с блестящими луковицами куполов, над которыми, как бумажный сор, кружили вороны и галки. За церквушкой начинались аллеи кладбища, заросшие акацией и брызгалкой «болиголова». В начале кладбища изгороди окаймляли довольно приличные территории – некоторые размером с волейбольную площадку, – за их решетками высились склепы, холодные мраморные изваяния и плиты с венками из железных цветов. По мере удаления от церквушки огороженные квадраты уменьшались и на окраине, перед спуском к реке, были уже такими крохотными, что казалось, в них хоронили стоя. Но именно там, на склоне оврага, места для усопших считались самыми лучшими. Не для покойника, конечно, – ему все равно, где лежать, – для его родственников. Оттуда, с холма, открывался прекрасный вид на речку и дальние заливные луга, с которых веяло сладким разнотравьем. Там, на холме, можно было посидеть, поразмыслить над жизнью и смертью.
В то время я много раз видел похороны, видел, как священник отпевал желто-синих покойников, их погребение, но по-настоящему слово «смерть» до меня не доходило. Моя жизнь только начиналась и, казалось, ей не будет конца. Во всяком случае, я не мог поверить, что когда-нибудь умру. Погибнуть – еще туда-сюда. Это еще мог представить, особенно геройски и при свидетелях. Но просто умереть – ни за что! Я был уверен, что буду бессмертным или, по крайней мере, проживу дольше всех.
Наверное, именно этим объясняется моя тогдашняя бесшабашная храбрость. Мне ничего не стоило броситься вниз головой в незнакомый омут или влезть на высоченную березу и раскачиваться на тонких ветвях. Мне казалось, надо мной постоянно витает ангел-хранитель. Ну а ребята, разумеется, были уверены в том, что я отчаянный смельчак. Я не переубеждал их; такое мнение меня устраивало. Больше того, я догадывался, что восхищение надо поддерживать, и с этой целью время от времени выкидывал какой-нибудь трюк, явно рассчитанный на публику: влезал по водосточной трубе на крышу двухэтажного дома или на карнизы верхнего этажа. Мои восхождения пользовались огромным успехом у прохожих. Ведь я не просто лез, но еще и играл на нервах у зрителей: то делал вид, что соскальзываю, эффектно замирал в воздухе и висел на одних руках, то закрывал глаза и раскачивался – притворялся, что теряю сознание. Эти театральные сцены производили сильное впечатление – как-то я чуть не отправил на тот свет от сердечного приступа свою мать.
Однажды, чтобы закрепить за собой славу храбреца, я объявил, что ночью пройду через кладбище. Это считалось равносильным самоубийству – среди мальчишек только и говорили о разных духах и шатающихся по ночам мертвецах. В ту полночь приятели проводили меня до входной арки, подождали, пока я дошел до церкви, и побежали вокруг кладбища встречать меня у реки.
Как только я вошел в аллею, меня обволокла густая тьма с сырым могильным запахом; от мраморных плит и крестов повеяло таким холодом, что по телу пробежал озноб. На мгновенье я пожалел о своей затее – все-таки это было мое первое столь близкое соприкосновение с загробным миром, и детский страх перед могилами и покойниками давал себя знать. И все же я пересилил себя и пошел в темноту, во владенья мертвецов.
Чем дальше я углублялся, тем становилось холоднее и сильнее сгущалась тьма; но главное, над всем загробным миром стояла жуткая тишина. То тут, то там лопались перезревшие стручки акаций, и глухой звук падающих горошин казался какими-то голосами из-под земли. Где-то, как грозное предупреждение, послышалось карканье вороны. Несколько раз мне чудилось, что за могильными холмами кто-то прячется, но каждый раз я вовремя вспоминал о своем бессмертии и успокаивался.
Я уже прошел половину кладбища, как вдруг услышал сбоку какое-то цоканье – волосы на голове сразу встали дыбом, по спине побежали мурашки. Остановившись, я напряг слух. Цоканье приближалось. Теперь уже отчетливо различалось еще и чье-то дыхание, глубокое, тяжелое, с хрипотой. Меня затрясло, ноги стали ватными. Собрав все силы, я в панике припустился в сторону реки, но, не пробежав и десяти шагов, споткнулся о какую-то железку и упал, а когда поднялся цоканье раздалось в двух шагах. Заледенев от страха, я закрыл лицо руками и замер. Кто-то огромный затоптался вокруг меня. Я чувствовал ветер, гуляющий по ногам, совсем рядом ощущал чьи-то тяжелые вздохи, но открыть глаза не мог. И только когда моего лица коснулось что-то горячее, я с криком отпрянул и почти хлопнулся в обморок, но увидел перед собой… лошадь! Она стояла рядом, со спутанными передними ногами и обмахивалась хвостом.
Когда я вышел на окраину кладбища, передо мной открылась невероятная картина: на склоне оврага, среди редких могил сидело множество влюбленных парочек; они сидели обнявшись и смотрели на речку, блестевшую под луной, и на дальние луга, из которых тянуло свежескошенной травой. Я смотрел на эту величественную картину, и меня впервые поразила мысль о соседстве жизни и смерти. Тогда я не сообразил, что в нашем городке влюбленным больше негде уединиться, и эта фантастическая любовная идиллия мне показалась кощунством. А теперь, вспоминая об этом, я думаю о том, что многих из тех влюбленных уже похоронили на том же склоне, только пониже, и что, возможно, теперь около их могил тоже сидят парочки, правда, перед этими последними влюбленными уже должно открываться гораздо меньшее пространство. Впрочем, теперь уже наверняка окраина разрослась и там полно скверов и влюбленные находят более изысканные места.
Странно, но тот холм на окраине кладбища остался для меня некой обзорной точкой. Теперь, оглядываясь назад, именно с него я вижу и другие картины детства, и вижу свое второе кладбище животных.
В общежитие часто приходили похоронки; и за годы войны весь окружающий животный мир стал для меня некой ареной вечного боя (чем, собственно, он и является, ведь в небе, в воде и на земле идет постоянная война за выживание). Мертвых жуков, мышей и птиц я рассматривал как павших солдат, и сильно сокрушался, когда их находил (даже пропускал занятия в школе) и, как положено, устраивал похороны, напевал траурный марш, а дома на стене выводил кресты в память о погибших. К концу войны все наши обои заполняли чернильные и карандашные кресты. Это кладбище не давало мне покоя; стоило взглянуть на стену, как передо мной возникали все, кого я хоронил. Так и жил между жизнью и смертью.
В общежитии обитал ничейный пес Трезор. До войны у Трезора был хозяин – дядя Степан, но в сорок втором году он ушел на фронт. Прощаясь с жильцами общежития, заметил меня, подозвал:
– Уж ты, Лешка, береги моего Трезора, – сказал.
Сказал глуховато, вкладывая в эти слова исключительное доверие мне – мол, только тебе и могу оставить своего друга.
Однажды я услышал во дворе страшный визг – парни-татары ловили Трезора. Он стоял у помойки, взъерошенный, испуганный, а один из парней приманивал его куском хлеба; за спиной парень держал железный прут.
– Ну-ка, ты, шкет, давай поймай пса, – угрожающим голосом сказал парень, когда я подбежал. – Сделаем из него шапку, а ты получишь двадцать копеек.
Я чуть не задохнулся от этого безумного требования.
– Не смейте! Это моя собака! – закричал и хотел обхватить Трезора, чтобы парень не смог его ударить.
Увидев меня, Трезор вильнул хвостом, заскулил, но тут же пригнулся и насупился, и вдруг рванул в сторону. Парень бросился за ним, я за парнем. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я догнал парня и вцепился ему в руку.
– Ах ты гад! – рявкнул парень и звезданул мне кулаком в лицо.
Лежа в пыли, размазывая кровь, я увидел, что Трезор побежал к шоссе, где взад-вперед неслись грузовики.
– Трезор! – крикнул я.
Он остановился, обернулся и в этот момент парень ударил его прутом по голове.
Глаза Трезора до сих пор смотрят на меня.
После гибели Трезора, меня преследовал сон: дядя Степан в гимнастерке, с автоматом наперевес, подходит ко мне, горько усмехается, «Эх, ты! – говорит глуховато. – Не уберег моего Трезора!».
С гибелью Трезора на наших стенах появилось еще одно кладбище – собачье-кошачье. Оно расширялось гораздо быстрее, чем кладбище насекомых, мышей и птиц, поскольку в то время собак и кошек отлавливали не только на шапки (для этого существовали целые артели), но и уничтожали в порядке борьбы с бродячими животными. Чаще всего их пристреливали, забрасывали в фургон и куда-то увозили (говорили на мыло, клей и костную муку). Таких бедолаг я просто символически отмечал на настенном кладбище. Но еще чаще собакам и кошкам подбрасывали отраву и они умирали в самых разных местах. Я подбирал их и закапывал в овраге у Казанки, то есть, хоронил по всем правилам, с погребальными словами и минутой молчания, и опять-таки ставил на стене кресты. Души погибших животных постоянно витали в нашей комнате.
В конце войны нам жилось трудновато, и мать устроила меня на работу в больницу – подносить утки. В морге при больнице работали два на редкость предприимчивых парня. Внешне они выглядели смехотворно: один коротышка, согнутый пополам ревматизмом, другой фитиль, прямой как столб. В больнице было всего две каталки, обе стояли в операционной, и эти работники носили покойников на себе. Как-то я наблюдал такую сцену: по коридору морга, напевая далеко не грустный мотивчик, «согнутый» тащил на себе замороженный льдом труп, а навстречу ему шел «прямой». Поравнявшись, «согнутый» прислонил труп стоймя к стене, попросил у приятеля папироску, закурил, начал рассказывать что-то веселое. Такое привычное отношение к смерти явилось для меня еще одним – шокирующим открытием.
Кстати, те работники морга жили неплохо: потягивали спирт в своем помещении, через черный ход выносили списанную мебель и продавали ее на барахолке. Случалось, в больнице умирал кто-нибудь из дальних деревень, и тогда родственникам покойного работники помогали с похоронами: сколачивали гроб и договаривались о месте на кладбище. Зарабатывали они прилично: кроме зарплаты, получали деньги за гроб, за заморозку трупа и за организацию похорон. А когда хоронили актрису из драмтеатра и гример забыл грим, этих прохиндеев осенила глубокая мысль – раскрашивать покойников. Гримировали они, конечно, ужасно, но старались усердно. Разумеется, за грим тоже сдирали денежки.
Со временем эти ловкачи открыли при морге настоящее похоронное бюро: на стене своего помещения навешали черных полос и объявления: «Художественное оформление цветами» и «Лучшие похороны за низкую плату», достали люстру, патефон, грустную пластинку, наняли бабку, профессиональную плакальщицу. Бывало, стоит у них гроб, играет музыка, бабка заливается «неподдельными» слезами, за ней родственники промокают платками слезы на щеках, а у двери два гаврика: один, согнувшись, почти касается пола, другой – вытянувшись, подпирает потолок, – оба припечаленные, изображают глубокое горе.
После войны их лавочку закрыли, но, по слухам, они быстро устроились в трамвайное депо и стали процветать там.
Закончив школу, я приехал в Москву поступать в архитектурный институт. На собеседовании мне предложили нарисовать жилую квартиру. Я старательно изобразил комнату с балконом, коридор, санузел и кухню, обставил квартиру мебелью и протянул лист экзаменатору, дряхлому старичку – известному архитектору. Старичок склонился над моим рисунком, понимающе закивал, потом достал из кармана пиджака маленький, со спичечный коробок, продолговатый клочок бумаги и положил его на середину моей «комнаты».
– Это что? – спросил старичок, показывая пальцем на нарисованную тахту.








