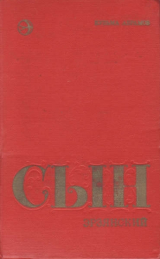
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
– Давай, я отнесу твои ведра, – пролепетал он.
– Что ты, что ты! – испугалась она. – Свекровь увидит, что скажет!
– Свекровь... да... – вздохнул Степан. – А не ты ли говорила, что никогда не выйдешь замуж...
Дёля склонила голову, спрятав заблестевшие глаза, прошептала:
– Разве я своей волей... – Она еще ниже опустила голову. – Ты уехал в город и ни разу не приезжал ни проведать меня, ни поговорить.
Степан почувствовал, как растаял в его груди тот неприятный холодный комок. Он его носил несколько дней и не знал, чем и как растопить его. Теперь его не было – он растаял мгновенно и навсегда.
– Дёля!.. Дёля, давай уедем куда-нибудь далеко, а?
Дёля словно очнулась.
– Вай, Степан, чего говоришь?! Разве так можно!
– Дёля!
Она поспешно нагнулась к ведрам, зацепила их на концы коромысла и быстро пошла по тропе вверх. Тяжелые деревянные ведра раскачивались, сбивая Дёлю с шага, но она не останавливалась, будто за ней гнались.
Из города Марья вернулась к вечеру. Для Ильки и Миши она принесла гостинцы – по два бублика и леденцов в бумажном кулечке. Степану ничего не дала, только скользнула по нему недобрым взглядом, да, впрочем, не особенно ему и гостинцы нужны, он не маленький. Но только отчего мать сердитая? Вины за собой он не чувствовал никакой.
Отгадки ждать долго не пришлось. Стоило им остаться одним, как мать заговорила:
– Проведала, сынок, твои городские дела, проведала!..
– Ну и что?
– А то, что неладно ты там жил, неладно. Чуяло мое сердце, да так оно и вышло.
Степан пожал плечами.
– Понаслушалась я про твоего учителя, понаслушалась, – горестно, с укором выговаривала Марья. – Чему ты у такого человека пропащего мог и научиться? Али жена его чему тебя учила! – коварно спросила Марья. – Посмотрела бы я на эту женщину, которая мужа забыла!.. Которая таких сосунков принимает!.. – Марья не выдержала, заплакала, запричитала: – Разве на такие грязные дела я тебя породила и вырастила!.. Вай, какой стыд, какой срам!..
Степан снова пожал плечами.
Конечно, все это наплела матери сноха Вера, но какое ему дело до всей той чепухи, которую собирает Вера на базаре? Правда, сначала, когда мать заговорила о «городских делах», Степан испугался, что мать ходила и к Елене Николаевне, но потом успокоился. И странно – воспоминание о Елене Николаевне, совсем еще недавно так сладко томившее его, было теперь спокойным, далеким, и только подумалось ему, что Колонин, верно, уже пришел из больницы, что у них есть дрова и в доме тепло...
– Ну, что же ты молчишь? – строго спросила мать, напричитавшись и горько поплакав. – Что матери скажешь?
– Мне нечего говорить, – отвечал Степан. – Ну, привез дрова, да и все, – ведь они дали мне краски.
– Ты мне глаза не замазывай красками, ты мне прямо говори!
– Да нечего мне говорить, все сказал, – огрызнулся Степан сердито.
– Ну ладно, вот придет в субботу отец, он с тобой поговорит! – пригрозила Марья. Ей было ясно, что сын сбивается с правильной дороги и что, если и дальше так пойдет, он добром не кончит и опозорит на весь свет их с отцом. И пока не поздно, что-то надо с ним делать. Но что? Ведь он уже не маленький, иных парней в эту пору уже и женят!..
Это была спасительная мысль.
И эту мысль Марья высказала в субботу вечером мужу, когда они улеглись спать. О другом она не заговаривала. Для чего расстраивать сердце Дмитрия, у него и без того полно забот. Пусть уж она сама одна прогорюет эти печали.
– Немного молод еще. Пусть годика два подождет, потом можно будет и оженить, – сказал ей Дмитрий. – Сейчас и свадьбу справить нечем, хлеба осталось мало, денег нет.
– А когда у нас было много хлеба и денег? И когда они будут?
– Может, когда-нибудь будут, – тихо сказал Дмитрий.
– До той поры Степан состарится. Да и не было бы беды какой – парень большой, – загадочно сказала Марья.
Дмитрий долго молчал, вздыхал.
– И невесты на примете нет...
– Невесты присмотреть недолго. Схожу к своим в Алтышево и поговорю, они кого-нибудь присоветуют – девок там много.
– Надобно подумать, – сказал Дмитрий.
Марья знала, что если он сказал: «Надобно подумать», то других слов от него не дождешься.
5
Раньше Степана редко удавалось отправить по воду, а нынче не ждет, когда Назаровы очистят прорубь, сам, чуть свет, хватает ведро и пешню и бежит на речку. И рада Марья, какой сын у нее стал!.. Чего ни скажи, мигом летит делать, даже красками редко занимается. Бывало, чертит всюду чем ни попало, а теперь и краски есть, и кисточки, а уж остывает, видно, парень. Ну да что – научился уже рисовать, чего еще надо. И хорошо – пускай теперь к дому привыкает, к крестьянским делам – скоро ведь и жену приведет!..
Но однажды Марья без всякой задней мысли спросила, чего это он как пойдет за водой, так никак его не дождешься, знать, прорубь очень сильно промерзает за ночь и приходится долго чистить?
Степан чего-то неопределенное пробормотал и тут же сбил разговор на другое. Марью это насторожило.
Но Степан!.. Степан и знать ничего не хотел сейчас, кроме Дёли. Его захлестнула и с головой накрыла волна каких-то новых, лихорадочно-тревожных чувств. Он видел, как Дёля повзрослела, она будто убежала куда-то далеко вперед, а он безнадежно отстал. Но Степан ощущал и свою власть над ней, и это давало ему непонятную радость: зло и нежность одинаково были в ней. И как он ликовал, когда спрашивал Дёлю, почему она не выйдет на улицу вечером? Знать, боится своей свекрови? Она дергала плечом и хмурилась – ничего она не боится! «И мужа?» – мстительно выговаривал Степан это тяжелое, непривычное слово.
– Никого я не боюсь!
– Врешь! – выкрикивал Степан и, затая дыхание, ждал каких-то сокровенных признаний Дёли.
Однажды Дёля пришла на прорубь тихой и печальной. Глаза у нее были зареванные, лицо распухло от ночных слез. Степан что-то спросил, и она с такой надсадой сказала:
– Не надо, Степа, ничего не надо, молчи, – что он не посмел расспрашивать ни о чем.
Она сама наполнила ведра, поспешно зацепила их на коромысло и быстро пошла по тропе вверх. Степан смотрел ей вслед с недоумением и растерянностью. Может быть, Михал бил ее? Может быть, нечего тут разводить разговоры, а запрячь лошадь, посадить Дёлю в сани и увезти ее. Ведь она не любит своего проклятого мужа, а любит его, Степана. Так чего еще ждать и длить мучения?
Когда он поднялся на берег, на крыльце увидел мать. Она провожала внимательным взглядом Дёлю, которая уже подходила к своей избе.
Марья встретила сына словами:
– Ты сегодня почему-то недолго пробыл у проруби?
Степану всегда казалось, что мать умеет по глазам и по выражению лица читать его мысли. От нее никогда ничего нельзя скрыть. Она всегда обо всем знает и догадывается. Вот и теперь Степан невольно покраснел, будто его поймали на воровстве.
Какая-то мрачная туча с угнетающей тревожной тишиной повисла над маленькой Баевкой. Или эта туча была только в сердце Степана? Но нет, как-то все переменилось в деревне: за водой и за сеном в сарай теперь ходила сама Пракся, рубить дрова выходил старик Назар, мать не ходила на беседы ни к Кудажам, ни к Назаровым. Все будто что-то ждали. Чего? Может быть, субботы, когда в деревню придут мужики – и Дмитрий, и Михал?.. Степан понимал, что он нарушил мирный покой деревни, но разве он виноват?..
Днем он терпеливо сидел дома, глядел в окно. Вечером выходил к бело застывшей Бездне, глядел на черный лес на той стороне, на высокие звезды. Стоял, пока не застывали ноги. Брел обратно. Желтели огоньки у Кудажей, у Назаровых. Лаяла собака... Где Дёля? Почему не видно ее? Не заболела ли?.. Кто-то шел по тропе от Кудажей. Пракся? Нет...
– Дёля!
– Вай, Степа, как ты меня напугал. Чего бродишь один в темноте?
– Тебя ищу, Дёля. Потерял я тебя, вот теперь и ищу, никак не могу найти.
Она стояла перед ним, засунув руки в рукава.
– Надо было, Степа, искать меня, когда я была девушкой. Теперь оставь меня, не ходи, не разрывай мое сердце, – заговорила она не сразу. – Девушкой я бы пошла за тобой, куда бы ни позвал, ни мать, ни отца бы не послушалась... А теперь, теперь... поздно.
В ее голосе слышалась мольба и в то же время звучала какая-то неопределенная растерянность, неуверенность в в правоте своих слов. Степан взял ее за руки. Она их не отняла.
– Ты думаешь, мне легко смотреть, как ты мучаешься? Мое сердце тоже разрывается.
– Тебе чего мучиться, взял да и уехал. Ведь жил ты в городе, уезжай и сейчас... Пусти меня, мне надо идти, – сказала она, силясь вырвать руки.
– Дёля, мне надо поговорить с тобой, последний раз, Дёля!..
– Холодно, пусти, – чуждо сказала она.
– Зайдем в винокурню, там тепло.
– Что ты говоришь, Степа! Бог с тобой!.. Что подумают обо мне?..
– Ну и пусть думают, что хотят! Я тебя так давно не видел, я думал, ты заболела.
– Я все дни живу у своих и ночевать хотела там, да отец прогнал, – сказала Дёля, и слезы навернулись у нее на глазах.
– Ну вот и пойдем, твоя свекровь подумает, что ты все еще у своих, – проговорил Степан и решительно потянул ее к большой общественной винокурне – тут гнали самогон к праздникам.
Дёля только и сумела сказать:
– Вай, Степа, погубишь ты меня...
Он по ее рукам чувствовал, как она вся дрожит от страха. Дрожит, а все-таки идет за ним. Он плечом надавил на дверь, не отпуская ее руки, боясь, что она убежит от него. Она, может быть, и убежала бы, но как-то вся вдруг обессилела, сделалась безвольной и покорной. Степан нащупал широкую лавку у стены, усадил ее и сам сел рядом. В избушке было тепло и темно, точно в погребе. Пахло прогорклым вонючим самогоном, который давно уже своим запахом пропитал прокопченные бревенчатые стены. Маленькое оконце, почти доверху занесенное снаружи снегом, не пропускало света. Степан обнял Дёлю. Она положила ему на плечо голову и заплакала в голос.
– Ну, чего ты разревелась, точно маленькая девочка? – проговорил он, проведя рукой по ее мокрому и холодному лицу.
– Степа, – шептала она, плача, – Степа!.. зачем ты не пришел раньше, я тебя так ждала, так ждала!..
И тут настежь открылась дверь. В звездном сиянии снега стояла Марья. Степан и Дёля оцепенели.
– Степан, сейчас же иди домой! Ты чего тут, бессовестный, делаешь в темной винокурне?
– Выйди давай, я сейчас, – сказал он.
– Нет, сначала выйдешь отсюда ты, потом уж я, – твердо ответила Марья, и спорить с ней было бесполезно.
Степан тронул молчащую Дёлю, которая, казалось, даже не дышала, и направился к двери. Марья пропустила его и сама вышла за ним, оставив дверь открытой настежь.
Степан всю дорогу до самого дома оглядывался назад – идет ли Дёля? Мать не выдержала и сказала:
– Нечего оглядываться, и одна найдет дорогу в дом, где живет ее муж!
Дома Степан полез было на печь, но Марья ухватила его за пиджак и стянула с лесенки. В руках она держала веревку, которую прихватила, проходя сенями. Она стегнула Степана – зло, изо всей силы.
Но Степан легко вырвал у нее веревку и бросил под порог. Ей осталось только ругаться:
– Блудливым петушком вырос, по чужим дворам летаешь!..
Степан молча полез на печь.
– Конечно, где мне теперь с тобой сладить, ты вырос, стал большой, по чужим бабам ходишь, чужих жен отбиваешь! – гневно выговаривала Марья. – Вот придет отец, он тебя поучит немного, он тебе разъяснит, что значит чужая жена! Вот чему ты в городе выучился у своих художников! Вот какая твоя учеба!..
Степан и на это ничего не ответил.
Марья еще долго ругалась, пока не успокоилась на своей постели.
В сочельник из Алтышева пришел Дмитрий. Вся семья попарилась в бане. После ужина Марья, убрав со стола, задержала мужа и сына на своих местах.
– Вот, Дмитрий, перед тобой твой сын, – заговорила она со значительными интонациями в голосе. – Вырос с тебя, вошел в силу, мне одной теперь с ним не справиться. Когда матери с сыном не справиться, значит, подошло время женить... Степану надобно просватать невесту.
Степан хотел было выйти из-за стола, но мать придержала его и села с ним рядом на лавку.
– Сиди, – сказала она. – Разговор идет о тебе, а не об Ильке.
Дмитрий пошевелил скулами. Этот разговор и ему был не по душе. Он хотел отделаться от него привычными словами: «Надо подумать».
На этот раз Марья не оставила его в покое.
– Если, Дмитрий, будешь долго думать, то сын твой до добра не дойдет. Степана надобно обязательно женить! – заключила она решительно.
Дмитрий провел рукой по влажной бороде.
– С чего это ты вдруг – женить да женить? Как же не подумавши?
С годами он делался все медлительнее и неповоротливее. Марья это знала, поэтому всякое важное решение брала на себя.
– Я, Дмитрий, все уже обдумала. Я тебя предупреждала – добром не кончится.
Дмитрий поглядел на Степана. Степан опустил голову.
– Так, так, – сказал Дмитрий.
– Вот пока ты будешь думать да такать, может случиться беда!
– Беда?
И Марья, точно только и добивалась этого вопроса, живо поведала мужу о проделках Степана.
Конечно, в рассказе матери все выглядело как-то страшно, точно Степан и в самом деле был каким-то вором, но он не смог перечить.
Наконец мать выговорилась.
– Вот так, отец, тут долго думать некогда, если не хочешь на свою седую голову позора. Ну, что теперь скажешь?
– Да, знамо, приставать к чужим женам – дело воровское. Но... – он опять помял бороду. – Может, торопиться не надо, дело такое...
– Поговори вот с тобой! – сердито сказала Марья. – Знать, забыл сноху Квасного Никиты? И сыновья все в тебя пошли, такие же похотливые! Один таскался с девушкой по баням, а этот гоняется за замужними женщинами – еще лучше! Все вы такие, у вас у всех кровь одна!..
Дмитрий молчал. Оно, конечно, возражать тут нечего, но женитьба – дело такое... Надо подумать...
Тогда Марья начала подступать с другой стороны:
– Целый век с тобой живу одна, ни снохи у меня нет, ни помощницы! – в ее голосе пробились слезы. – Все дела и заботы на мне одной – и по дому, и по двору. Везде – сама, везде – одна. Сколько каждый год приходится мне одной прясть на вас, ткать. Сил моих больше нет! Дочерей мне господь не дает, все сыновья да сыновья!..
«Это точно, – думал про себя Дмитрий, слушая слезные причитания. – Кругом она одна». И это его сломило:
– Ну что же, коли захотела пожить со снохой, давай женим Степана. Сходи в Алтышево, поищи ему невесту...
Марья с облегчением вздохнула. И взгляд, который она бросила на Степана, был светел и радостен.
И как-то незаметно отошла темная туча от Баевки, тишина наполнилась голосами, звуками, и ничего не было в ней страшного. Да и чего может быть страшного в женитьбе? Ведь все мужчины женятся. Михал женился... Нет, про Михала лучше не думать, и без него много парней, которые женятся. И Степан женится, потому что иначе как? У всех свои жены. И у него будет своя жена. Только вот какая она будет? Хорошо бы, если бы она немножко похожей оказалась на Елену Николаевну... Или на Дёлю. А может, будет и лучше их... Не должно же быть, чтобы жена Степана была хуже Михаловой жены. А если нет, так он тогда лучше и не женится...
«Будет ли он любить ее? – опять приходит ему в голову. – А она?..»
От этих тревожных дум и каких-то неясных, все плывущих бесконечной чередой вопросов, мечтаний и картин у него кружится голова.
Алтышево... невеста... Может быть, это та самая девочка, которую он подвозил на санях, когда ехал из города? Тогда он не обратил на нее внимания, он совсем не помнил ее, а тут вдруг она представилась так ясно: тоненькая, худенькие плечи под легким холщовым зипуном, и все старается закутать посиневшие от холода острые коленки. И ему кажется, что это и есть его невеста, и у него сжимается сердце от жалости и любви к ней. Он кутает ее в свой пиджак, который ему уже мал, а ей впору, обнимает за худые плечи и тут видит, что она тихо плачет. «Не плачь, ты моя невеста!..» – шепчет он и сам плачет – от жалости и любви. А сани куда-то все катятся и катятся, а они сидят на санях, прижавшись друг к другу, и оба плачут, плачут от жалости и любви. И еще от холода, и еще от того, что теперь так плохо подают...
6
На рождество из Алтышева в гости приехала со своим мужем Ефимия. С собой они привезли и трехлетнего сынишку – показать его дедушке и бабушке.
После того как Ефимия вышла замуж, Степан ее ни разу не видел. Не видел ни разу и ее мужа. Сестре он обрадовался, выбежал навстречу, смотрел на нее не сводя глаз.
– Степа!
Он подбежал к ней, она быстро обняла его, поцеловала и оттолкнула:
– Вай, как ты вырос! – И глаза ее смотрят на него с таким ликованием, с такой радостью, будто для Фимы и теперь нет милее и дороже человека на свете, чем брат.
Вошли в дом, нанеся к порогу снегу и холоду, но общая радость гостям была велика, и Марья не замечала такие пустяки.
Ефимия первая увидела на стене портреты младших братьев и ахнула от удивления:
– Вай, Степан! Неужели ты это нарисовал сам? И иконы у вас, кажись, новые!
– Я их только обновил, – сказал Степан, проникаясь еще большей признательностью к сестре. А Фима длила и длила праздник Степана – она все стояла перед портретами братьев и с восхищением качала головой: ну и Степан, ну и братик!..
– Я и тебя нарисую, – сказал он, стоя рядом с ней, и ему очень хотелось быть сейчас маленьким, чтобы Фима взяла его к себе на колени, обнимала бы и целовала его, – так душа его томилась по ласке, по доброму слову, по радостному человеческому празднику, который вошел в их дом вместе с сестрой.
Степан смотрел на Фиму, не спуская восхищенных глаз, и это любимое лицо уже запечатлевалось в незримых тонах его воображения.
В избе была праздничная суета, и никто не заметил, как Степан слазил на полати за красками и загрунтованной холстинкой, которая была у него припасена, как он пристроился на лавке возле окошка. Правда, тут уж его заметили, и муж Фимы как-то напыжился, значительно поджал губы, пригладил волосы – наверное, он думал, что Степан будет рисовать его, гостя. Впрочем, и Фима, еще не привычная к этим занятиям брата, тоже начала прихорашиваться незаметно – ведь именно на нее Степан остро поглядывал из-за своей рамки. И уже стали говорить тише, сидели чинно, и в избе от этого торжества стало скучно.
– Ну, будет тебе, Степан, – сказала Марья, – потом будешь рисовать, садись за стол!
Делать было нечего, да и, признаться, ему самому от этих напряженных поз сестры и ее мужа сделалось тоскливо, – ведь перед глазами стояла другая Фима: веселая, счастливая, щеки горят кумачом, голос мягкий, ласковый!..
Марья ставила на стол угощение: все, что настряпала к рождеству. Здесь были и капустные пироги, и картофельные ватрушки, и лепешки на молоке. На этот раз она ничего не добавляла в тесто, все испекла из чистой муки. Так, конечно, бывает очень редко – на пасху и на рождество. Дмитрий кашлянул с удовольствием и пригласил зятя к столу.
После еды Марья и Ефимия уселись на передней лавке, возле печки. Их разговору не было конца. Они порассказали друг другу, кто из них сколько наткал холстов, как растут дети. Редко им приходится встречаться вот так и опоражнивать душу друг перед другом.
У Дмитрия с зятем разговоры свои. Они вдвоем работают на чугунке, обтесывают шпалы, поэтому и слова у них о шпалах, о десятнике, о холодной зиме. Они не как женщины, разговор ведут степенно, не торопясь. Женщины сеют слова как из решета, даже отрубей не остается; все летит в кучу. А у мужчин слова тяжелы, как камни: один скажет слово, другой ответит ему лишь через минуту, подумавши как следует, хотя вроде бы и думать нечего.
Наконец до Степановых ушей дошло, что мать с сестрой говорят о нем: Степан – Алтышево – невеста...
– А вот у Рицяги Семена дочь! – громко сказала Фима.
– Я знаю Семена, – ответила Марья.
– В ним всю осень ходили сваты.
– Не просватали?
– Да пока нет. Говорят, еще молода. В мясоед обязательно просватают.
– И жену Семена я знаю, семья хорошая... – задумчиво сказала Марья. – Не думаю, чтобы у хороших родителей была плохая дочь... Что же, завтра с вами и поеду! – решительно заявила она. – Как ты думаешь, Дмитрий?
У Дмитрия ответ один – пошевелил скулами:
– Подумать надо.
– Пока ты будешь думать, мясоед пройдет. Завтра же отправлюсь в Алтышево, а ты думай.
Все притихли. В избе наступила тишина. Все вдруг вспомнили о Степане и смотрели на него. Он улыбался за своим рисованием.
– Вы хоть скажите мне, как звать девушку, – сказал он. – Какая она из себя? Может, для меня не подойдет.
– Подойдет, братушка, подойдет. Девушка как есть по тебе. Звать ее Кресей,– сказала Ефимия.
– Посмотреть надо, – обронил Дмитрий.
– Вот пойду и все посмотрю сама, – сказала Марья.
Степан про себя несколько раз повторил: Креся, Крестя, Кресаня... Имя, конечно, не так красиво. Самыми красивыми именами были – Елена, Дёля...
– Я не думаю, чтобы вашу хорошую девушку так просто отдали в чужое село. Для хорошей найдутся хорошие и в самом Алтышеве, – недоверчиво проговорил он.
– Меня, сыночек, тоже выдали в чужое село, – ответила Марья. – Думаешь, не было охотников взять меня в Алтышеве? Было, ой сколько было! Да я не пошла за них. Как только увидела Дмитрия, сказала, что, кроме него, ни за кого не пойду.
Дмитрий кашлянул и задвигал руками по столу, но сказать ничего не сказал. На этот счет у него было свое мнение. Он считал, что жених должен понравиться не только девушке, которую выдают, но и ее родителям. Он прекрасно помнит, как сговорились два Ивана – его отец и отец Марьи, не раз вместе ходившие на Волгу. Жениться на Марье ему больше всего помогла дружба их родителей. Ну, само собой, нельзя откидывать со счета и то, что пришелся по нраву самой Марье. Но это уже не самое главное.
Так было решено дело о женитьбе Степана, и Марья отправилась в Алтышево.
Возвратилась она через день. Сняла овчинную шубу, развязала шаль и принялась рассказывать:
– Дважды была у Рицяги, разговаривала с отцом и матерью девушки, и саму Кресю видела. Правда, сватают ее многие, но Семен сказал мне, что слово еще никому не дали, пусть, говорит, придет сам парень, посмотрим, каков он из себя. В Алтышеве Степана все знают, девушка тоже его знает. Это, спрашивает, тот, который в церкви Саваофа нарисовал? Тот, говорю ей, доченька, тот самый. Хорошая девушка, – заключила Марья. – И на личико баская, и на характер добрая – видно.
Креся, Крестя, Кресаня...
Нет, Степан не помнит никакую Кресю. Помнит девчонок, которые учились в школе в старших и младших классах. Среди них Креси не было.
Поездку на смотрины назначили в ближайшее воскресенье. На другой день после возвращения Марьи из Алтышева Дмитрий смел из сусека оставшиеся два пуда ржи в мешок и повез на мельницу. Оставался еще семенной овес, но его Дмитрий берег пуще всего.
В заботах и суете незаметно прошла неделя. Марья сшила Степану новые порты из толстого холста, покрасила их в сине-серый цвет. Отрезала ему новые портянки, в лапти вдела новые оборы. В паре[1]1
Пара – кадка для хранения холста.
[Закрыть] лежала оставшаяся от молодых лет Ивана рубашка из тонкого холста, с вышитым воротом. Рубашка оказалась немного великоватой Степану, но лучшей не было, а новую сшить и украсить вышивкой Марье было недосуг.
В субботу, после бани, Марья велела сыну одеться.
Она внимательно осмотрела его со всех сторон. Порты и рубашка пришлись ей по нраву, но вот пиджак оказался мал. В нем ее сын Степан выглядел каким-то нерослым и узкоплечим, к тому же сильно был потрепан и не подходил для такого торжественного и важного момента. Марья велела надеть отцов зипун. Но зипун Степану был слишком широк и длинен.
Марья сокрушалась.
– А где-то был Иванов старый зипун, – сказал Дмитрий. – Не будет ли он впору?..
Нашли Иванов зипун. Конечно, он изрядно поношен, но иного выхода не было, пришлось остановиться на нем. Степану надоела вся эта канитель с переодеваниями, и он не чаял, когда она кончится. «Скорей бы уж жениться, да и все!.. И в самом деле, женитьба казалась ему лучшим избавлением от всей этой мороки и сутолоки в доме.
И вот в воскресенье утром отец запряг лошадь, и они отправились.
– Заезжайте к нашим, возьмите бабушку Олену, – наказывала мать. – Ой, чует мое сердце, напутаете вы там, ой, напутаете!.. Вся надежда моя на бабушку.
– Эко дело хитрое, – бормотал Дмитрий, – без бабушки не обойдемся!..
Однако в Алтышеве к дому Самаркиных повернул отец без всякой заминки, как будто сюда и ехал.
Дед Иван заметно поседел и совсем тугой стал на ухо.
– За невестой приехали? – закричал он, вытягивая голову и приставляя ладонь к уху.
Но Степан смолчал.
– Чего?
– Ничего, – сказал Степан.
– То-то и говорю, что за невестой.
У бабушки Олены лицо покрылось мелкими морщинками, но по избе сновала она еще бодро, держалась прямо, говорила все так же распевно и ласково:
– Какой большой ты вырос, внучек мой! – И гладила Степана по спине легкой сухой рукой. – Мать сказывала, научился хорошо делать иконы...
Гостей усадили за стол. От горячих, только что из печи щей Степан раскраснелся.
– Теперь вот и невесте можно показаться, – вишь, каким красивым стал! – пела бабушка Олена.
Потом она осмотрела Степана, велела спрятать торчавшую из лаптей солому, ворчала на Дмитрия:
– Знать, для такого дела стельки не нашел!..
Но вот и отправились. Бабушка Олена до самого дома Рицяги все наставляла внука, как держаться перед родителями невесты: сидеть спокойно, не говорить лишнего, когда чего спросят, отвечать степенно, не скороговоркой. Степан от этих наставлений заранее краснел и смущался и даже боялся, что у него обязательно получится что-нибудь не так, как велит бабушка. Действительно, когда вошли в избу, он забыл снять шапку и не помолился. Отец подтолкнул его в бок, и Степан торопливо сдернул шапку. Молясь, он взглянул на темные иконы и подумал: «Я напишу их заново».
Сватов усадили на переднюю лавку. Помолчали. Не будь бабушки Олены, некому было бы, верно, нарушить это молчание.
– Вот пришли проведать вас, – запела она. – Бог даст, может, сделаемся родней. У нас есть покупатель – барин, у вас товар – барыня. Где же она?
Хозяйка позвала из предпечья меньшую дочь и сказала:
– Пойди-ка в соседи, покличь Кресю...
Входя в избу, Степан видел, как две девочки стремглав бросились в предпечье, и он все гадал, которая же из них Креся. В растерянности он не заметил, что это всего лишь подростки. Теперь он стал наблюдать за дверью и ждать, когда войдет его невеста.
Женщины понемногу разговорились между собой. Они всегда раньше мужчин находят общий язык. Мужчины пока церемонно молчали, изредка посматривая друг на друга. Но вот и они перекинулись словами: хозяин спросил, не слышал ли Дмитрий, какая на базаре цена на хлеб.
– В эту зиму еще не ездил на базар, – отвечал Дмитрий степенно. – Но слышно, что цена опять поднялась.
– Знамо, так и будет подниматься. В прошлое лето хлеб, считай, уродился плохо.
– Плохо, – согласился Дмитрий.
И опять надолго замолчали.
Семен Рицяга был моложе Дмитрия – лицо скуластое, большие светлые глаза навыкате, бороденка реденькая. Он то и дело посматривал на Степана.
– Слышал, твой сын обучался в Алатыре, говорят, умеет делать иконы? – спросил он.
Дмитрий не успел раскрыть рот – вместо него ответила бабушка Олена.
– Знамо, обучался! Да такие хорошие делает иконы, каких никто не умеет делать!
– Да, – сказал Семен Рицяга. – Иконы делать – не землю пахать...
Тут ввернул слово и Дмитрий:
– У иконописца земля всегда вспахана, урожай в закромах.
– Что верно, то верно, – согласился хозяин.
Степану, как ни сторожил приход Креси, все же не удалось разглядеть ее по-настоящему. Девушка вошла быстро, сбросила зипун и, склонив голову, пробежала в предпечье.
– Зачем спряталась, иди сюда, – сказал отец.
– Пусть дух переведет, видишь – стесняется, – заступилась мать.
– Как же не стесняться, смотреть ее пришли, – заметила бабушка Олена.
– А иди-ко, сынок, сам к ней, – нашлась мать Креси. – Сами-то лучше познакомитесь. Иди, иди!.. – И сама взяла его за руку и повела. Он шел как деревянный, не сльша под собой ног, ничего не видя.
Предпечье, почти как во всякой крестьянской избе, от остальной части комнаты отгорожено высокой и широкой печкой-голландкой. На широкой лавке от печи к окну были наставлены горшки, чашки, глиняные миски. На скамеечке у окна сидела Креся со своими сестричками. Девочки по обе стороны обняли ее и прижались к ней, недружелюбно и исподлобья глядя на Степана. Ведь он явился к ним для того, чтобы отнять у них сестру.
– Ну-ка выметайтесь отсюда, надоедники, – строго приказала мать Креси. – Так день-деньской вас домой не дозовешься, а тут прилипли, как мухи к меду. Ну, живо, живо! – и вытолкала их вон. – Садись, сынок, рядом с Кресей, поговорите. – И ушла.
Степан мало-помалу пришел в себя, осмелел, поднял глаза на девушку. Вот она какая – Креся... Лицо чистое, белое, только щеки пламенеют, пухлые губы, слегка вздернутый нос – почти как у Дёли... На голове повязан желтый платок, отчего ее лицо похоже на подсолнух...
Поймала его пристальный изучающий взгляд.
– Что так смотришь?
Голос мягкий, немного дрожит. Дрожит, должно быть, от смущения. У Дёли так же вот дрожал голос...
Степан ответил как-то безотчетно:
– Смотрю, какая у меня будет жена.
Креся дернула плечиком.
– Может, еще и не будет.
Вот как!.. У него пропала охота говорить.
Степан молчал. Молчала и Креся. Закусив губку, она сосредоточенно водила пальчиком по запотевшему стеклу.
Нет, она вовсе не похожа на Дёлю, не говоря уж о Елене Николаевне. Совсем не похожа...
Но надо было что-то сказать. На лбу у Степана выступили капли пота.
– Много наткала холстов до рождества? – выдавил он.
Креся точно ожидала этого вопроса. Она сразу вся встрепенулась, повеселела и принялась рассказывать о своих прядильных делах: к рождеству сумела наткать куда больше холстов, чем ее подруги, а нитка у нее тонкая, твердая. И еще она с видимым сожалением рассказала о том, что у нее очень плохая прялка, старая, надо бы ей новую прялку, но кто сделает, в родне у них не имеется таких мастеров.
– Твой брат, говорят, делает хорошие прялки? Мне, знать, не сделает?
– Прялку и я могу сделать.
– Вай, правда?! – обрадованно воскликнула она. – Ты уж потом мне сделай!
– Когда потом?
Креся застеснялась, отвернула лицо в сторону и тихо сказала:
– Знамо, когда, после свадьбы...
Степан подвинулся поближе к Кресе, взял ее за руку.
– Пойдешь за меня замуж?
Креся тихо, еле слышно прошептала:
– Пойду...
И опять замолчали, оба смутившись пуще прежнего. Первой заговорила Креся:
– Не уезжай сегодня домой, вечером приходи.
– Приду, если хочешь...
В доме невесты Нефедовы засиделись до сумерек. Когда ушли, дорогой Дмитрий спросил сына:
– Девушка понравилась тебе?
Степан не знал, что сказать. Он и сам не знал: понравилась ему Креся или нет. Девушка как девушка. Но бабушка сказала за него:








